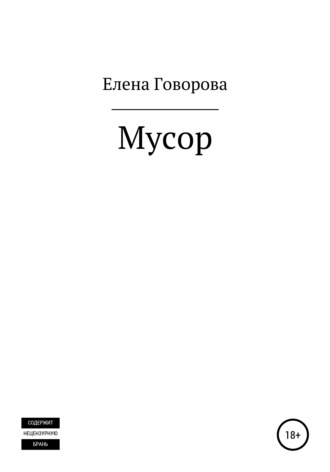
Полная версия
Мусор
Повисла напряжённая тишина. Саша пытался отдышаться и уговорить себя не нервничать больше. Остальные были задумчивы.
– Тебе-то откуда знать? – вдруг с подозрением поинтересовался брат.
– Я работаю в газете.
Саша знал, что эти слова действуют на людей попроще магически. Тем не менее, это работало бы с кем угодно, но не с теми, кто помнил его ещё мальчишкой. Спустя столько лет, они так и не понимали, чем он занимается, и не верили, что у него, вот именно у него, может быть доступ к какой-то информации, не известной им.
– Ну-у, в газете! – насмешливо протянула тётка. – Мало ли, что в газете напишут! Газеты разные бывают. Вот по телевизору ровно другое говорили, я смотрела две недели тому наши областные новости.
– Врут они вам всё, по телевизору, – немного остыв, ответил Саша.
– Да какой смысл по телевизору-то врать? Там же всё видно, как вживую, – недоумённо уставилась Клава на него. А мама, видно, сомневавшаяся и желавшая верить сыну, медленно произнесла:
– Ну ведь если б было всё так плохо, они могли бы обратиться к нашему президенту… Тот бы посмотрел, разобрался, отменил бы. Я по новостям смотрю: он всегда всех губернаторов распекает, если вред какой народу… А они сразу к американскому! Зачем?
– А то он не знает! – безнадёжно махнул рукой Саша, понимая, что ни единого шанса достучаться до них у него нет. – Всё это одна шайка, он их будет прикрывать и бизнес их защищать.
– Ну как же! Ну я же не слепая? Вижу, как он вечно костерит их: олигархов, губернаторов каких-то, – посмотри, каждый месяц теперь сажают. Слава богу, не в девяностые живём!
Раздался хриплый, скрипучий, как старая, давно запечатанная калитка, вдруг с усилием отворившаяся, голос.
– Я в девяностые жил, пока вы, суки, ещё на титьке висели! Я зарплату тогда, – громко икнув и замерев, – гр-речкой, – раскатистое, угрожающее «р», – получал. В кои-то веки страна с колен поднялась!
Отец, глядя впереди себя мутными глазами и раскачиваясь из стороны в сторону, безрезультатно искал за столом того, к кому был обращён его гнев.
– Господи, – хором вырвалось тихое у сестер.
– Знаю я вас, демонов! Всё хотите развалить и продать пиндосам проклятым! За тридцать… этих, как их, блядь… серебреников! НЕ ВЫЙДЕТ! Первыми подох… подох…подохнете. А мы останемся! И никакой, сука, Ковалёв мне не указ!
Он замолчал резко, как будто потерял сознание, хотя продолжал сидеть и монотонно качаться. Саша не знал, стоит ли отвечать на это, но его опередила мать.
– Ты б шёл спать, Вань, – сказала с ласковым упрёком.
Клава испуганно махала на неё руками: отстань, мол, от него.
– Заткнись, стерва! – гаркнул отец, на что она привычно не обратила внимания, и уронил голову на сложенные перед собой руки.
– М-да-а, – протянул Димка и достал телефон, потеряв всякий интерес к происходящему.
– Но вообще он прав, – повернулась обратно к ним тётка, начинавшая трезветь и немного бледнеть. – Так что зря тебя газета твоя прислала, – и она взяла из миски конфетку, довольно хихикая в ответ каким-то своим забавным мыслям.
– Конечно, – воодушевлённо подхватила мать. – Вам из Москвы не видно. Только вы почему-то за нас хотите решать! Мы стройке очень рады. Вспомни: когда был спичечный завод, как город жил! Деньги были, молодёжь приезжала. А теперь только убегают или спиваются! Мы ждём, что рабочие места появятся, Димка вот устроится…
Дима с готовностью кивнул, не отрываясь от экрана.
– Бежать как раз от таких заводов надо, – недовольно буркнул Саша, жалевший, что не удержался, понимая всю несвоевременность и неподготовленность такого разговора, пока сам ещё ничего точно не выяснил.
Мама вдруг раздражилась.
– А ты прям лучше всех знаешь всё! В газете своей! Понабрали лжецов, дурят людей за неизвестно чьи деньги, и понятно, в чьих интересах, а ты уши развесил! Как был в школе дурачком – любому встречному деньги готов был отдать, – так и сейчас всякой брехне веришь, ещё и нам пересказываешь.
– Точно-точно, – язвительно загоготала Клава, перебрасывая во рту рубиновый стеклянный шарик карамели. – Вспомни, как велосипед-то угнали?
Мать злобно кивнула.
– Приехал! Четыре года ни слуху, ни духу!.. Мы думаем: наконец-то проведать нас решил, заскучал! А он по делам очередных прохиндеев явился! На мать ему плевать, ему на этих либералов своих не плевать только! Он родному городу не верит, он им скорее поверит, байкам этим!
Саша не мог ничего возразить, не в силах осознать, что всё это происходит наяву в первый же вечер их встречи.
– Москвичом стал, вы подумайте! Всё знает, как правильно, как нужно, не то, что мы. И держится как важно, посмотрите! И что, много ты в Москве своей правды нажил? «Уезжать надо!». Куда уезжать?! Кому и где мы нужны? Ты сильно нужен там кому, в столице своей? Только работать без отпусков, нашли простачка!
Она приостановилась, но быстро снова продолжила, глаза её гневно блестели, и перебить уже никто не смог бы.
– Да, считай, мы колхозники, не понимаем ничего! Пока вы там, москвичи, от денег лопаетесь, мы тут и заводику мусорному рады! И родину свою любим! Это наша земля, нашей была – нашей и останется, ехать нам некуда, а мы и не хотим никуда. Живём тут, трудно, зато честно, работаем потихоньку, и бояться нам нечего. Никогда хорошо не жили, зато под богом. А вы валите, валите все, да подальше, ищите, где вам лучше, кто вам матерей да дом родительский заменит!
Отец громко всхрапнул. Дима забыл про телефон, он в гробовом молчании смотрел на мать. Клава восхищённо пробормотала:
– Точно, Маш, и никто бы лучше не сказал.
Мама не могла отдышаться. На глазах у неё проступили слезы, она сосредоточенно сметала со стола невидимые крошки одной рукой в другую, широкую, пухлую, лодочкой приставленную к столешнице ладонь. Она уже сбивчиво что-то шептала себе под нос: «Бежать надо… Ты уж убежал… Поучи меня!.. Тебя там используют и выкинут, а мне потом передачки носи на старости лет».
Все уставились в телевизор, Дима сделал погромче. Шла какая-то программа, в которой немолодые женщины, чьих имён он уже не знал совершенно, в обтягивающих блестящих комбинезонах пели привязчивые, простенькие песенки. Это как-то отвлекло всех. Мама с Клавой принялись обсуждать, которая из певиц им больше нравится; мать поделилась известием, что блондинка, оказывается, была беременна от актёра из какого-то старого сериала, и долго пыталась объяснить запутавшейся Клаве, кого именно тому довелось играть, где бы та могла ещё его видеть. Дима неожиданно подключился к их беседе, иногда уточняя, о ком именно они говорят, тыча пальцем в какие-то лица на экране: «А вот этот не играл в сериале про ГАИ?».
– Точно-точно, играл, мы с тобой глядели, – обрадовалась мама, удивляясь, как же сама не вспомнила.
На Сашу никто не смотрел, будто его и не было, и он не понимал, рад этому или нет. Впрочем, все явно чувствовали себя одинаково неловко и теперь слишком старательно делали вид, что ничего не произошло. Вскоре Клава, заскучав, выпила ещё рюмку своего самогона, после пары чашек чая с карамелями, и тогда, наконец, засобиралась домой. Вылезла из-за стола и, пошатываясь, долго выясняла у Саши, не понимает ли он чего в телевизорах, а то у неё как раз сломался.
– Да там каналы перепутались, тёть Клав, – спокойно разъяснял ей явно не впервые слышавший об этом Дима. – Говорю тебе: понажимай все кнопки на пульте.
Та отмахивалась:
– Не буду ничего нажимать! Ещё хуже сделаю! Ты неделю обещаешь зайти – не заходишь! Как будто тут километр еба… тащиться.
Когда Саша обещал, что завтра придёт к ней и посмотрит, а брат заметно оскорбился, что его мнение никто не взял в расчёт, и продолжил говорить что-то об известных ему функциях, которые могли на это повлиять, Клава вдруг обратила внимание на сестру, которая суетливо собирала посуду со стола.
– Ой, Маш, мне тебе помочь надо бы, – неуверенно протянула она.
– Иди, иди уже! – замахала рукой мама, лежавшая почти всем весом на ходуном ходившем столике – пыталась дотянуться до отцовской тарелки.
– А Ваньку перенести надо в кровать…
– Иди, говорю, – вроде бы небрежно, но очень уверенно снова махнула мать. – Мальчишки отнесут.
И, обогнув стол кругом, она понесла большую стопку тарелок и подпрыгивавшие на ней одна в другой синие парадные чашечки в сторону ванной.
Клава всё же ушла. Долго одевалась и обувалась в тёмной прихожей, чертыхалась, вновь вспоминала о чём-то и кричала матери, перекрывая шум воды: «Ты за газ платить не будешь? А то я б квитанцию отнесла твою!», – и всё-таки испарилась. В доме сразу стало намного тише. Дима спокойно посмотрел на Сашу:
– Ты за ноги или под руки?
– Что? – не понял тот.
– Отца надо нести, – пояснил брат.
Саша замер. Было странно говорить об этом, как о чём-то нормальном.
– Тогда под руки, наверное.
– Смотри: он тощий, да тяжелый, – без тени иронии отметил Дима, с серьёзностью профессионального грузчика, изучающего характеристики нового объекта, и, не церемонясь, начал сдёргивать отца, всё еще сопящего, со стула.
– Сука, опять обоссался, – злобным шёпотом сказал он себе под нос. Саша поймал себя на том, что ему не противно – скорее, стыдно участвовать в этом. Как будто всё это больше никогда и ни за что не должно было повторяться с ним.
Пока они тащили действительно очень тяжёлое тельце в тельняшке и трениках, как комод, через три приставленные друг к другу вагончиками комнатки, он явственно вспомнил случай из детства: ему лет шесть, отец вошёл в дом и упал на пороге, чем сильно напугал его. Бабушка тогда накричала на Сашу, что реветь тут не о чем, а надо матери помогать. Та, счастливая, что муж уже спит, без обыкновенной пьяной болтовни или ругани, волоком тащила его в кровать. Пристыжённый Саша бросился к ней, и она попросила тогда его взять за руки, а потом ворчала, что от него толку никакого, только на себя тянет, надо взять нормально. Саше было страшно, но ещё сильнее хотелось угодить маме: в тот момент они были товарищами, двумя заговорщиками, и это даже сейчас, при неприятном воспоминании, парадоксально согревало его. Вдобавок она строго приказала: «Расскажешь кому в саду – убью! Папа устал, от усталости свалился, понимаешь?». И он не мог вспомнить, понимал ли он тогда уже, что произошло в самом деле, зато отлично помнил, как по-деловому, казавшийся себе в этот момент совсем взрослым, равным родителям и их загадочным важным делам, кивнул ей. А в следующие разы, которых за жизнь его накопилась тьма, он знал всё отлично, и занятие превратилось для него в рутину. Он, как мать, радовался, если вечер заканчивался так, а не дракой и выкриками; наверное, так же, как и Димка сейчас, бросал ей, появившейся в дверном проеме, не оборачиваясь: «Он там нассал», – а мать так же походя отвечала: «Да, погоди, не вступи, сейчас уберу».
Дома Саша привык ложиться глубокой ночью, но сегодня так устал, что рад был уйти в начале одиннадцатого. С момента его приезда прошло всего пять часов, но ощущение было, что здесь он прожил несколько очень долгих, странных, наполненных нервными моментами дней. Мама разложила ему крайнее у окна кресло. От постельного белья так же неприятно пахло табаком и сыростью, как во всём доме, дно постели было кривым, продавленным, сама она ужасно узка, и он никак не мог уснуть, хотя желание было невероятно сильно. Глаза болели. Димка, лёжа у двери, всё так же таращился в экран телефона, при этом оставил телевизор включённым, не сбавляя громкости, и там очень шумно кто-то перестреливался, перемежая пальбу с ором: начало на английском, а после перекрывавшим голос запаздывающим русским переводом. Отец оглушительно всхрапывал рядом, а запах спирта, исходящий от него, невозможно заполонил все комнату, в которую мать притворила дверь, чтобы не мешать звуками с кухни, где она собиралась что-то готовить на завтра. На улице опять громко залаял пёс, совсем рядом, и Саша понял, что это «Клавкин кобель», о котором много и недовольно рассказывала ему в телефонных разговорах мама, когда совсем не о чем было говорить. Он лаял бесконечно, особенно по утрам, и тогда раздраженная тётка выбегала на крыльцо и начинала орать на него матом, ещё громче, заглушая саму собаку; а когда ей надоедало, и она уходила, пёс продолжал надрываться, как ни в чём не бывало. «Я её спрашиваю, – жаловалась мама, – ну на что он тебе? Ведь и гает, и гает, а охранять нечего! Нет, говорит, одной страшно, он и тебя, и меня защитит, если что! А как он защитит, когда на цепи короткой?». Кажется, если Саша ничего не путал, это был второй уже пёс, заведённый тёткой, боявшейся одиночества, со смерти мужа – и оба были одинаково брехливые. «Не хуже самой Клавы», – как со смехом завершала свои истории мама.
Через некоторое время он проснулся, не понимая, задремал ли, или так и лежал, потеряв счёт времени. Чуть погодя осознал, что телевизор не работает и больше никто не храпит, только мерный тихий сап раздаётся за его спиной да тикают часы. За дверью послышался отчётливый свист женского шёпота.
– Ты где, скотина, лазила столько времени?
– Гуляла я!
– Гуляла? Я тебя когда просила прийти?
– Отстань! Некогда было!
– Ах, некогда! Ну простите, товарищ директор!
– Что ты хочешь? – устало. – Иди спать.
– Как же я пойду спать? Я тебя ждала сидела!
– Зачем?
– Потому что ты дочь моя, дурная!
– Сама дурная! Причём тут это?
– А притом! Брат приехал – ты, хамка, встретить его не могла!
– Блин, завтра встречу!
– Так стол накрывали сегодня!
– И что я за этим столом не видела? Как папа нажрался? Или как вы все Первый канал смотрели?
– Да что ж ты за сволочь такая! Ничем тебя не проймешь! Меня тебе не жаль – я больная, у меня сердце, ты знаешь, сижу до поздней ночи, тебя жду, названиваю тебе! Ты б хоть брата пожалела! Ехал так долго, тебя повидать!
– Прям меня?
– Ну, всех нас, мы ж семья его!
– Чё ж тогда раньше не приезжал?
– Ты помолчи лучше! Я тебе сказала: ещё раз так поздно заявишься – я тебя выпорю!
– Я на тебя в службу опеки напишу.
– Пиши! Пускай забирают тебя на хрен, моих сил нет больше!
И, сопровождаемая натужным скрипом половиц, всхлипывая горько, мать ворвалась в комнату и начала разбирать своё спальное место возле отца.
«Этот еще развалился, господи прости», – причитала она шёпотом, раздражённо встряхивая одеялом. Дверь за ней со стуком затворилась, в соседней комнате тоже злобно топали и шуршали.
К Саше вернулось это противное чувство неудобства. Здесь он всегда превращался в неуверенного юношу, совершающего ошибку за ошибкой, подводящего родню, неуместного, каким был, когда ещё жил с ними и спал каждую ночь в этом самом кресле. Ничего не изменилось, и ему всё это было отлично знакомо, не смущало и не возмущало, однако казалось, что он зря ворвался снова сюда – будто бы стеснял их, заставлял стыдиться своего уклада, менять привычный образ жизни или оправдываться за него. Может быть, никто так не думал, но он никак не мог отделаться от мысли, что мешает, сильно мешает жить своей странной, жалкой и трогательной семье, пугая и смущая их своей инородностью и будто бы успешностью. С этой мыслью он уснул, как провалился в пустую и тёмную яму, уже до самого утра.
Глава 5
Проснулся наутро он от того же настойчивого лая. Нехотя открыл глаза и при дневном свете ясно разглядел давно не крашенную, пожелтевшую трубу отопления, тянувшуюся через всю комнату поверх бумажных грязно-розовых обоев, кое-где заметно отстававших от стены. Поскольку окна в комнате выходили на запад, пока было неясно, солнечно ли сегодня или нет. Субботним утром в доме стояла особенно глухая тишина: лишь эта разрывавшаяся собака за окном, да вторивший ей петух в заметном отдалении, а ещё дальше, для самого тонкого слуха – нежный колокольный перезвон в честь окончания утренней службы. Кажется, он бывает в десять. Но, возможно, и в одиннадцать.
За спиной слышался хоровой сап. Оборачиваться Саше не хотелось, и он лежал, глядя в стену поверх ручки кресла, уютно раскинув уставшие, приятно гудевшие ноги на прохладе простыни под лёгким одеялом. Он попал в ласковый момент детства: выходной, никто никуда не идёт и его будить не станет. С кухни доносится запах оладьев, которые жарит мама к завтраку, бурчание телевизора; тогда ещё была жива бабушка, с утра пораньше пулемётной очередью строчившая чей-то заказ на своей швейной машинке. Впрочем, сейчас, как он понимал, и в будний день рано утром вставать надо было бы только Ангелине в школу – отец давно был на пенсии, Дима нигде не работал, и не могла позволить себе спать до обеда только вечно хлопотавшая по хозяйству мать. После недолгого изучения нашёлся и знакомый фрагмент абстрактного узора обоев, паутинными трещинами расходившегося по всему полотну, здесь собиравшийся в профиль человека с большим, надвое, как клюв, поделённым носом, и в шляпе со странно острыми полями.
Он всё же заставил себя перевернуться на другой бок. Нет, сейчас спала и мама, лежавшая большой белой горой под одеялом в странной и пугающей близости от него. Саша ужаснулся, неужели спал до восемнадцати лет практически в одной постели с родителями – их диван располагался сантиметрах в двадцати, а то и меньше, от его места. «Хорошо, никто не знает», – подумал он и умилился, что в месте его рождения даже страхи какие-то подростковые.
Вдруг совсем рядом, как будто за его спиной, глухо хлопнула дверь. Резкий хриплый окрик вспорол всю магическую тишь деревенского утра:
«Проститутка! Ты чё лаешь? Заткнись! Мразь! Тварь! Ух, я тебя… Ща-а-ас, только валенки обую…».
Собака радостно зашлась ещё громче, видимо, довольная тем, что ей отвечают. Вдруг она взвизгнула и залаяла тонко, жалобно. Кажется, Клава кинула в неё что-то, поскольку этому предшествовало чёткое гиканье – когда кто-то неповоротливый быстро, но с трудом наклоняется к земле.
«Ну, сука, никакого житья нет, когда ж ты сдохнешь!», – выругалась напоследок тётка, добавила: «Отравлю», – и что-то ещё тише, что уже было не разобрать. Дверь снова хлопнула, хотя собака не унялась ни капли, а только сильнее распалилась.
На диване раздался тяжёлый вздох, он отчаянно забродил, мама, долго переворачиваясь, зашептала привычное: «Господи», – и даже отцовское похрапывание сбилось с отлаженного ритма.
Саша махом сел на кресле.
– Ты не спишь? – в голос спросила мать и торжествующе улыбнулась. – Я ж тебе говорю, с такими соседками выходных у нас не бывает.
Она тоже начала медленно и тяжело подниматься: диван был очень низок, все спали почти у пола, и маме явно было нелегко встать из такого положения. Она возилась долго, Саша не знал, удобно ли будет помочь ей, и просто сочувственно смотрел, хотя и это было неловко: рубашка на ней была полупрозрачная и каждое движение всё выше задирало её. Наконец, она поставила свои большие, отёкшие ноги на выцветший, расползающийся половик.
– А этим все нипочем, – махнула она рукой себе за спину. – Будут спать до обеда, ничего не слышат. Ты сам хорошо спал?
– Как убитый, – ответил Саша, не соврав.
Он был очень рад, что неловкость вчерашнего вечера как-то позабылась, а при дневном свете всё выглядело проще и дружелюбнее в этом доме. Он даже разглядел в окно, что солнца сегодня нет, но небо высокое, светло-серое, больше похожее на весеннее. На ветру согласно кивала головой почти до конца облетевшая суховатая, болезненная яблонька.
– Ладно, пошла завтрак готовить, – и мать страдальчески заскрипела в унисон с измученной своей постелью, медленно вставая на ноги.
Саша полежал ещё немного, прислушиваясь к нестройному дуэту, сложившемуся из двух мужских храпов. Он думал, беспрестанно отвлекаясь на какую-то стороннюю ерунду, о предстоящей работе. Всё приводило его к тому, что нужно искать Николая Степановича, расспрашивать его о происходящем, о том, что привело именно его к протестному решению, как пришла в голову идея записать это обращение. «Надо у мамы спросить, где искать его».
Он убедился, что кругом никого нет. Отец с Димой всё так же спали, мать уже грохотала кастрюлями на кухне. Саша встал, снял со спинки кресла подготовленный заранее спортивный костюм и быстро оделся. Тёмных штор в комнате никогда не было – только сетчатый тюль с цветами, несменяемый, но окна располагались высоко над землей, а между домом и улицей был довольно длинный участок двора, поэтому можно было не опасаться, что кто-то станет подглядывать в окна. Однако то детское чувство наплевательства к своему телу, постоянному нахождению на людях, в большой семье и тесном доме, ещё не вернулось к нему, и он боялся, что кто-то обнаружит его в одних трусах.
Одевшись, Саша снова пошёл на крыльцо. В тёмной проходной комнате на подушке виднелась только копна светлых волос, да в другом конце из-под одеяла торчала пятка с двумя острыми косточками, жалобно выступающими повыше неё по бокам. В прихожей, благодаря тусклому освещению через маленькое окошко, теперь можно было разглядеть старый комод, алый бархатный диван – одна секция от просторного углового, так же принесённого отцом с работы после списания: длинная его часть была поставлена под окном, а загиб для угла – у противоположной стены, рядом со шкафом, в котором сломалась дверь. Он ощерился беспорядочно навешанными в него разноцветными пальто и свисавшим с верхней полки завитком старого телефонного провода. Одежда лежала кучами и на диване тоже. В углу, у нагревательной колонки, на подстеленной газете всегда аккуратно были выставлены на просушку ботинки. Половиков на полу обычно было больше одного – но сейчас, кажется, прибавились ещё. Все они, как будто принципиально не сходящиеся ни цветом, ни узором, были наложены один на другой и пересекались высокой горкой в середине, на шатающейся крышке лаза в подвал. Она проседала под шагами, ощутимо проваливалась вовнутрь, издавала сложное, протяжное поскрипывание, и от её передвижений слегка подрагивала вся другая мебель в прихожей, а в глубине шкафа сейчас звякнуло что-то, похожее на посуду. Саша вспомнил, что в детстве у него был навык – всегда огибать эту часть прихожей, чтобы никто не догадался о его уходе или возвращении.
На улице было серо, голо, уныло, но как-то не по-зимнему. Солнце пряталось очень близко за рваными наслоениями туч, и оттого свет лился, яркий, долго смотреть вдаль становилось больно. Над забором колыхалась туго налившаяся красным рябинка. В старой покрышке пышно цвели высокие сиреневые сентябринки и спутавшиеся соцветиями колокольчики – последнее яркое пятно приветом от ушедшего лета среди представляющей все оттенки коричневого скучной осенней земли. Птицы не пели – вот чем эта странная тишина, с очень отдаленным шумом, отличалась от весны! Было зябко, Саша быстро начал мёрзнуть в накинутой на плечи, но не застегнутой куртке, и вернулся в дом, где на кухне, на столе его уже ждал омлет. И хитро прищурившаяся мама, которая, видимо, снимала высохшие лоскутки ткани – часть ещё оставалась висеть на слегка подрагивавшей верёвке, но многие уже лежали аккуратной стопкой на её широком, покатом плече.
– Всё-таки закурил?
– Да нет, я воздухом дышать ходил, – промелькнула мысль, что именно так он бы и оправдывался, если бы курил. А следом другая: мне тридцать, зачем вообще оправдываться?
Но мама подошла ближе и начала принюхиваться. Стало ещё более неловко: очередная сцена из детства, которых меньше, чем за сутки, тут повторилось уже множество, и все заставляли его внутренне съёживаться, бороться то ли со стыдом, то ли с гневом. Но она ласково улыбнулась:
– Нет, не пахнет. Ну, садись, поешь.
– А если б пахло, не покормила бы? – дружелюбно спросил сын.
– Ну как же! – как всегда всерьёз приняла всё она и деланно обиделась. – Ты ж мой ребёнок.
Она села на продавленную кушетку. Снова работал телевизор – он с удивлением понял, что помнит эту утреннюю передачу, где самодеятельные коллективы пели, плясали и давали небольшие интервью на фоне родных российских городов. Сколько ж ей лет? Мать с интересом уставилась в экран, как будто забыв обо всём остальном.
– Мам, – спросил он, приступая к еде. – А где сейчас живет Николай Степанович?
– А кто это? – тут же живо откликнулась она и повернулась от экрана к сыну.
– Ну, физрук наш, о котором вчера говорили.
– Ах, Маугли! – она разочарованно потеряла интерес к беседе и, договаривая, уже снова смотрела передачу. – Откуда ж я знаю, я с ним сроду не общалась.
– Ну, может, есть у кого спросить… Тётя Клава вот в курсе всего!
– Ой, какой там в курсе! – раздражённо махнула, как бы приказывая ему помолчать, мать. Потом добавила. – Можно у Ангелинки узнать, но она теперь спать будет полдня, – рука небрежно указала на стену, отделявшую их от той комнаты, где стояла кровать сестры.
Дальше завтракали в молчании. Потом Саша снова не знал, куда себя девать. Он пробовал смотреть телевизор вместе с мамой, но это просто обескураживало своей пошлостью, и ему не хотелось думать, зачем она, неглупая вроде женщина, всё это смотрит; и он ушёл в комнату, где сильно пахло перегаром, отец выводил уж совсем фантастический храп. Ему казалось отчего-то неловким достать сейчас компьютер и начать работать, да и сложно было представить, что ему делать и как в такой странной обстановке. Поэтому он снял с полки учебник одиннадцатого класса по физике и стал читать о чёрных дырах, витая мыслями где-то вдалеке, снова перебирая поочередно и Таню, и Борис Борисыча, и свою квартиру, и сломанную ручку, и планы на поездку за границу, и близящийся день рождения приятеля, на который он так и не определился с подарком.



