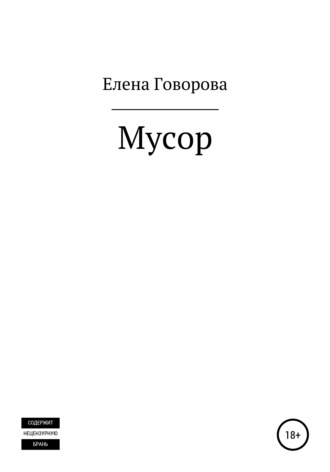
Полная версия
Мусор
Но вот, на самом оживлённом, единственном в городе регулируемом перекрестке, он свернул влево – здесь была низина, от близкой реки веяло могильным холодом, сумерки уже опустились, листья с деревьев тут почти облетели, оставив лишь голые ветви и обманчивое ощущение ранней весны. Ещё одно здание, обшитое грязно-жёлтым сайдингом, без окон, но с плакатом: «Пенка», – на котором пузырилась из бокастой пивной кружки белая пена; пустырь, как выбитый зуб, посреди ладных и стройных, с пластиковыми окнами и металлическими воротами домов; сброшенные в кучу доски недоснесённого старинного, позапрошлого века постройки дома, с красивым мезонином – его он помнил хорошо, там жила его одноклассница и были поразительной красоты кружевные наличники; теперь и их, и мезонина не было, но наружные стены с оконными проёмами остались целыми, и изнутри доносился терпкий запах мочи; огромный, в три обхвата тополь, который постеснялись спилить и проложили асфальт тротуара в обход его, с выемкой. На внешнем подоконнике углового дома сидела, округлившись, надувшись, спрятав под себя лапы белая кошка с чёрными пятнами. Саша прошёл мимо, и она резко вскочила, недовольно огляделась, спрыгнула на некрашеный частокол палисадника, пробежала к зелёным дощатым воротам, легко вспрыгнула на них и пропала – только белый хвост немного дольше колыхался над калиткой.
Асфальт кончился, и по неровной, неудобной, сильно пылящей кроссовки щебёнке нужно было спускаться вниз, прямо в простиравшееся впереди поле, упиравшееся в рыже-коричневый ряд деревьев, что огораживали реку от жилого мирка. Его дом располагался на самом краю города, здания там были только на одной стороне улицы, а другая представляла из себя луг, где когда-то жильцы сажали картофель и тыквы, но теперь забросили.
Здесь не менялось ничего. Пустота, тишина, откуда-то издали, из других миров доносящийся звук жизни, вечная грязь – вместо дороги две проезженные редко появляющимися машинами колеи, а посредине тропка травы, – ветхие, заваливающиеся кто внутрь, кто вовне заборы, старенькие, бесцветные домишки. Он вдруг ощутил волнение, странный замирающий в сердце холодок, как бывало в последний раз, наверное, перед ответом на экзамене или перед первым свиданием в юности, подходя к своей, точно знакомой зелёной калитке со сбитым наспех, когда ему было пять, временным почтовым ящиком, прикрученным проволокой тоже при нём, с белой краской намалеванной цифрой 12, почти стёршейся. Взялся за железный рогалик ручки, которая управляла привинченной с обратной стороны щеколдой, и, как всегда, не мог ни с первого, ни со второго раза сладить с ней: пришлось долго бренчать и стучать, прежде чем калитка подалась вперёд и с тяжелым скрипом в маленькую щель впустила его, быстро захлопнувшись за спиной, словно проглотила.
И тут, во дворе, всё было то же. Высохшие колокольчики в автомобильной шине, наспех покрашенной одним расползающимся слоем мутно-голубой краски, сонное ворчание кур в почерневшем от сырости курятнике. Криво спиленная доска была положена на ржавое ведро с одного края и канистру из-под машинного масла с другого – вместо скамейки. Забор, огораживающий посадку клубники от места для выпаса домашней птицы, был сделан из связанных между собой спинок старых панцирных кроватей – их отец больше двадцати лет назад принёс домой, когда ещё работал сторожем в интернате. Через весь палисадник тянулась огромная простыня на бельевой верёвке, с большой синей заплатой ровно посредине. Окна, обращённые к заходящему солнцу, переливались золотым и малиновым, пронизывая поднимавшуюся с земли густую тьму, и было неясно, горит ли в них свет, занавешены ли шторы, ждёт ли его кто-то.
Он остановился, сам не понимая, хочется ли ему побыстрее войти и увидеть своих, или стоять здесь дольше, насладиться этим безвременьем – отсутствием движения, голосов, людей, дел… В небе раздался ровный гул – летел самолёт, который уже невозможно было разглядеть. Он знал, что дома мать сварила картошку, которую готовила всегда к приходу гостей, попросила младшего брата спуститься в подвал и достать оттуда одну из множества банок с солёными помидорами, которые он так ненавидел, но с детства стеснялся обидеть её и ел, а она только подкладывала, больше и больше; и теперь наверняка, сидя перед вечерними новостями по пузатому телевизору, поглядывает на часы. Надо заходить, ведь она ждёт, волнуется.
Саша поднялся по крыльцу, все ступени которого были разной высоты, и все слишком круты даже для него, взрослого мужчины – когда был маленьким, он, бесконечно бегая с летнего двора в дом, то попить воды, то перекусить горбушкой хлеба, то взять свое игрушечное ружьё, взбирался по ним на четвереньках, а потом кубарем выкатывался обратно. Ещё раз обернувшись к почти догоревшей белёсой полоске заката на чёрном горизонте, он вздохнул и вошёл.
За первой дощатой дверью привычно запутался в кружевном тюле, висевшем летом в открытом проёме, чтобы не летели мухи: и, хотя мухи всё равно летели, тюль не снимался даже зимой. На довольно просторной веранде, как и всегда, свободным оставался один узенький проход – даже окна были закрыты ящиками с пустыми бутылками из-под пива и водки, банками, заготовленными под соленья, ровными стопками вымытых и высушенных полиетиленовых пакетов, а вместе с ними пустых пачек от пельменей и женских гигиенических прокладок, пластиковыми и железными вёдрами, тазами. Сверху, словно лианы, спускались сухие букеты из полевых цветов, и под самым потолком на верёвочке зачем-то висели вырезанные из газеты пожелтевшие прямоугольники, каждый придавленный деревянной прищепкой. У второй двери сидел тощий, облезлый серый кот и жалобно, с большими паузами, орал. Увидев незнакомца, он вздрогнул, показал трусоватые жёлтые глаза и быстро исчез в баррикадах из коробок.
Когда за Тюриным закрылась и вторая дверь, он очутился в кромешной тьме прихожей, в тяжёлой духоте от работавшей в кухне духовки, крепком запахе дешёвого табака, сливающемся в раздражённый рокот крике двух телевизоров, одновременно работавших в противоположных концах дома. Он не сразу вспомнил, где выключатель, а когда нащупал его, то оказалось, что тот всё равно не работает. Завозившись, Саша сделал шаг назад, послышался удар чего-то металлического, тут же какое-то движение в глубине дома, в ближайшей комнате зажёгся свет, который немного попадал и в прихожую: тёмные старые обои, три разномастных паласа, пересекавших друг друга на полу, несметные ряды обуви, старое зеркало на стене, под раму которого были втиснуты записочки с номерами и квадратики не пригодившихся фотографий для документов, флаконы и древний телефон с лопнувшим диском на полке, записная книжка… и опрокинутое неловким гостем навзничь зелёное алюминиевое ведро. Из комнаты, сопровождаемая скрипом половиц и дребезгом посуды в шкафах, широко и тяжело шагала мать.
Они не виделись четыре года примерно – с тех пор мама перестала стричь и красить волосы, и теперь поразила его абсолютно седыми, длинными, зачёсанными назад прядями. А вот домашний халат на ней был, кажется, всё тот же – выцветший на солнце до паутинной бледности, серый, с крупными жёлтыми подсолнухами, разнокалиберными пуговицами, один из тех нескольких, которые она сшила сама, на старой швейной машинке, принадлежавшей ещё покойной бабушке. Сейчас она куталась в бабушкину же шерстяную кофту, а большие ноги её были обуты в домашние бабушкины полуваленки. На широком, белом лице не было ни единой морщины, хотя она радостно улыбалась, а красивые, голубые, совершенно юные глаза смотрели тепло и смешливо.
– Приехал, приехал! Перегорел, вот же чёрт! Ох, прости господи, – она многократно щёлкала выключателем, – света ведь нет совсем, забыла! Проходи, Саша, проходи.
Обнимать мать – это никогда не было принято, и сейчас они оба чувствовали себя непривычно и неловко, приближаясь друг к другу.
– Здравствуй, – скромно произнес Саша, снова вдруг ощутив задремавшее чувство вины за то, что не приезжал так долго, хотя она его ждала, так заметно была довольна и взволнована сейчас.
– Ну всё, проходи, проходи, давай куртку-то сниму, – деловито и гордо заговорила она, мигом устраняя неловкость. – Отец спит, а вот Ангелинке я сейчас звонила, велела скорее домой идти. Уж она тебя так ждала, так ждала!..
– А Дима? – спросил Саша, оперевшийся всей пятернёй на шаткую тумбочку, носком одной ноги стягивая задник кроссовка с пятки другой.
– Ой, Дима!.. – мама раздраженно махнула рукой, подавая ему заранее приготовленные, новые, плюшевые домашние тапочки. – Диму попросила с утра купить хлеба и туалетной бумаги. Дала денег. В итоге ни Димы, ни денег. До сих пор вон ходит покупает! Что-то куртка-то больно тонка! Зима уже почти, не май, а ты ходишь…
Всё это было настолько в точности, как в детстве, что вновь подумалось: время здесь не движется вообще. Впрочем, раньше мамин ворчливый тон, небрежные замечания ужасно злили его, было невыносимо, что с ним постоянно говорят таким образом и совершенно не замечают его самостоятельности, он отвечал дерзко, невинные реплики перерастали в бурный скандал, мать стыдила сына, он в беспомощном гневе просто выбегал из дома – теперь же видел в этом что-то милое. Давно он не слышал, чтобы к нему обращались, как к маленькому мальчику, – да, ему не делали обидных замечаний, но и не беспокоились, во что он одет и не замёрз ли. Это и была та забота, о которой, оказывается, так отчаянно он мечтал в своей одинокой взрослой жизни в большом городе.
Глава 3
В доме везде был полумрак, который страшно нарушить. Хотелось поставить куда-то тяжелый рюкзак, снять жёсткие джинсы, в которых ходил с самого утра, – сначала по последним московским делам, потом сидел в автобусе, – и переодеться в мягкое домашнее. Но в большой комнате, под тяжёлый грохот телевизора о боях Великой Отечественной войны спал отец, другая, проходная, принадлежала шестнадцатилетней сестре Ангелине, и распоряжаться в ней без её присутствия было бы неправильно, хоть мать и махнула небрежно рукой на её кровать, предлагая ему расположиться там. Поэтому он оставил вещи в тёмной прихожей и пришел на кухню. Здесь горел свет, работал второй квадратный телевизор с выпуклым экраном (какое событие было, когда лет уже двадцать, а то и больше, назад бабушка выделила деньги с пенсии, чтобы они купили его, новенький, современный Sony, с пультом и встроенным видеомагнитофоном!), по которому с криками обсуждали чьих-то внебрачных детей, и мама, вроде собиравшаяся протереть стол, чтобы усадить за него гостя, так и застыла с тряпкой в руках, увлекшись неминуемой потасовкой на экране.
В углу стояла неразобранной старая дровяная печь, на которой в ряд расположены кастрюли, большая эмалированная кружка, ощетинившаяся шипами вилок разной длины и ширины, и редкими, словно яблоки на торчащих иголках у ежа с детской картинки, округлыми ложками. Рядом была не менее древняя, но идеально чистая газовая плита. Саша вспомнил, как сводила его с ума густая кофейная плёнка, вечно высыхавшая на варочной панели, когда он ещё жил со своей чрезмерно небрежной женщиной. На конфорке начал шипеть и посапывать, будто готовясь разорваться, массивный голубой чайник. Стол тоже был заставлен посудой, с большим керамическим кувшином цвета линялого крокодила с отколовшимися и, ручкой и носиком во главе. На гвоздях, вбитых в стену, висели чугунные сковородки, дуршлаги, ножи, скалка. Старый, с огромными зазорами между некрашеными досками пол знакомо ходил ходуном при каждом шаге, от чего сотрясалась вся мебель, имевшаяся в кухне. Окно упиралось ровно в высокий забор следующего участка, поэтому никогда не занавешивалось. Тоненький, почти отсутствующий подоконник, был весь уставлен фиалками в круглых баночках из-под майонеза. Под окном стоял кухонный стол с новенькой клеёнкой в узоре из призывно-спелых ягод клубники, уже изрезанной в нескольких местах ножом. Под ним высилось несколько картонных коробок из-под бананов, до отказа забитых луковыми головками и подпёртых сбоку банками с солёными помидорами или огурцами. К нему были приставлены маленькие, шаткие табуретки, покрытые специально связанными чехлами из старых капроновых колгот: желтоватых, тёмно-коричневых и черных. С потолка свисала лампа, накрытая большим пыльным плафоном с двумя выбитыми стеклами. У противоположной стены стоял продавленный, покосившийся на один бок диванчик под большим покрывалом с оленями. Через всю кухню наискосок тянулась волосящаяся верёвка для сушки белья: сейчас на ней висело два прозрачных целлофановых пакета и штук десять небольших разномастных лоскутков тканей (в некоторых из них угадывались старые джинсы), которые всегда заготавливались впрок из одежды, совершенно не подлежащей штопке, для хозяйственных нужд.
– Ох, мне и накормить-то тебя нечем! – виновато вздохнула мама. – Просила Димку картошку достать из погреба утром, так он, блин, за хлебом ушел! Теперь мы и без хлеба, и без картошки…
Саша соврал, что не голоден, чтобы не расстраивать её сильнее.
– Ты садись, сынок, я сейчас позвоню хоть кому из них, узнаю, когда ждать.
Мать принялась искать свой телефон, беспомощно оглядываясь по сторонам. Она была такой крупной, что поворачиваться в крошечной кухне ей приходилось не шеей, а всем телом, рискуя наскочить то на стол, то на лакированную ручку диванчика. Это причиняло ей заметные неудобства и при каждом движении она охала и крестилась.
«Всё же она сильно постарела», – подумал Саша и вновь ощутил совестливый укор, прозвучавший в голове её голосом. – «Конечно, несколько лет не виделись!».
Телефон нашелся в прихожей, но от крика телевизора ему совсем не было слышно, что происходит за пределами кухни. Саша не нашёл пульт, а кнопки на панели были все вырваны, кроме одной – переключавшей каналы вперёд. Он безжалостно выдернул провод из розетки – стало упоительно тихо; знакомо и нежно тикали часы. Внезапно из тишины коридора раздался нервный крик:
– А мне плевать, что ты не успела! Брат приехал, она где-то блудит! По холоду! Стыдоба! Лето кончилось, я тебе сказала, хватит мотаться! Марш домой!
Следом вернулась разгорячённая мать.
– Паразиты! Один трубку не берёт, вторая вечно занятая. Президентша! Как будто ни уроков нет, ничего, всё бегает, – приговаривала она, подходя к плите, словно беседовала между делом сама с собой в пустой комнате.
Саше было неудобно, точно причиной этого беспокойства был он один. Хотелось её успокоить, но все слова представлялись неподходящими, которые только сильнее разозлят маму.
– Мам, да я же надолго приехал, всё успеем. Ты посиди просто.
Мать благодарно и тяжело опустилась на крякнувший под ней хилый диван.
– И правда: устаю к концу дня ужасно… Ты чего телик-то выключил? Хорошая передача была, интересная…
Она любовалась им, вроде с гордостью, но и с лёгкой горечью, как бы он не совсем соответствовал тому, что ожидала увидеть. Снисходительно улыбаясь, она мягко спросила:
– Борода у тебя… Нужна ли? Скажут: старик какой-то приехал.
Он весело объяснил, что ему нравится и вообще сейчас борода – это модно.
– Не знаю, у нас с бородой уже даже деды не ходят. Диму, конечно, приходится неделями заставлять бриться, ему всё лень – но такую он никогда не отращивал!
Продолжая сидеть, она устало потёрла лоб и пробормотала:
– Это ж наказание какое-то, ты подумай: с утра до ночи всем приготовь, подай, убери, проследи, как кто оделся, умылся! И никому ничего не надо, только жрать! Где им столько взять-то: отцова пенсия – копейки, мне ещё два года до неё жить…
Саша спохватился:
– Сейчас, я тебе дам денег, я зарплату только получил!
– Да ты что, сынок?! – Мать испуганно затряслась. – Ты что: думаешь, я потому тебе говорю? Слава богу, не бедствуем! Клава вот ещё помогает, спасибо ей большое. – Она махнула подбородком в сторону, где была смежная со второй половиной дома стена, потом обеспокоенно закрестилась. – Она же совсем одна, кроме нас, нет у неё никого. А ты подумал, я у тебя денег прошу? Ты что! Тебе самому нужно, ты парень молодой, тебе о семье думать пора. Что там твоя? С детьми всё никак?
Мать с удовольствием перескочила, почувствовав удачный момент, на явно занимавшую её тему и строго нахмурилась, ожидая ответа. Саша почувствовал себя очень неловко, как будто его просветили насквозь прожектором. Он знал, что вопрос этот будет, как обычно, начиная лет с двадцати трёх его, затронут, но не ожидал, что настолько стремительно. Вот уже полгода он никак не мог рассказать, что его девушка, о которой мама знала, и, хотя никогда не видела, всегда расспрашивала и передавала ей горячие приветы и благодарности за заботу о сыне, ушла, что он пятый месяц уже живёт один. Мама заметила его смущение, но не сдала назад:
– Не хочешь говорить? Ну я же мать твоя, чего стыдиться? Всё надо маме рассказывать; я своей всегда говорила обо всём, не стеснялась. Не хочет или не получается? Тридцать лет ведь уже… Ей почти тридцать, да? Скоро и поздно станет! Или больной какой родится… У нас вот на другой улице Валька Сироткина, одноклассница Димкина, летом родила, так там…
В коридоре протяжно скрипнула и тут же резко хлопнула дверь. «Димка!», – удовлетворённо кивнула мать и стала медленно подниматься с кушетки, упираясь кулаком прямо в морду оленя на покрывале. Но из коридора раздался грубый, не то женский, не то мужской голос, без сомнения принадлежавший тёте Клаве, маминой родной сестре, жившей в другой части дома с отдельным входом.
– Чего, нет нашего гостя, что ли, до сих пор?
В просвете дверного проема стояла маленькая, круглая фигурка, в бесформенном, распахнутом полушубке, огромных валенках, деловито уперев руки в бока.
– А-а-а, приехал? А чего тихо так? Иль не рады?
Тётя решительно выбралась из валенок, бесцеремонно оставив их прямо при входе в кухню, и обняла племянника, сунув ему в нос жёсткий ёжик седых волос, которые она всегда сама сбривала машинкой для стрижки.
– Так. Говори, засранец: ты почему на похороны моего деда не приезжал?
Саша снова ощутил досадную неловкость. К этим упрёкам он был готов заранее, тем более, что и мать по телефону много раз сообщала ему об обиде тётки. Два года назад «дед» – её муж, тихий старичок Владлен – скоропостижно умер от внезапно обнаруженного, когда его привели на рентген при затянувшемся бронхите, рака лёгких в последней стадии. Саша тогда сослался на невероятную занятость, поскольку не желал прерывать свою радостную и интересную жизнь, чтобы хоронить этого странного человека, который жил по соседству, часто выпивал с его отцом, постоянно курил на брошенном при дороге бревне, но, казалось, не знал даже имён, ни его, ни брата с сестрой, ни разу не заговорил и даже не кивнул им при встрече.
– Клав, Клав, ну что ты сразу, – вступилась мать.
– А когда? Два лета ждала, чтоб ему сказать! Уехал, загордился, всех забыл, семью забыл свою… Мы для него никто теперь! Мухи! А мы вот тебя всё равно любим. Мать – глянь – ни жива, не дышит, так ждала тебя!
Мама смущённо забормотала:
– Да что теперь говорить? Приехал, и слава богу.
Деловито разместившись на кухонном диване, положив руки на свой выпяченный живот и смешно свесив короткие ножки, торчавшие из-под того же, матерью пошитого, цветастого халатика, тётя Клава пытливо оглядывалась.
– А где все остальные-то? Тихо так, как будто и нет никого. Я б сама не сходила – и не догадалась, что кто-то есть дома, кроме Машки, – уж ты-то всегда на посту.
Мать снова пришла в волнение.
– Ды где?! Спроси чё полегче! Одного с утра услала за хлебом – ни краюшечки дома нет, – и по сейчас ни хлеба, ни сына! А вторая ж у нас всё гуляет, никак не нагуляется! – и широко развела руками, словно приглашая присутствующих хорошенько поискать, нет ли тех, о ком она говорит, по углам.
– Тьфу ты! Сказала б мне, я б тебе принесла полбатона свои! А отец где?
– Отец спит.
Саша изучал двух сестёр. Он никогда не задавался этим вопросом. Когда они были моложе, невозможно было поверить в их кровное родство. С возрастом оно проступало всё очевиднее. Обе были грузные, но мама немного повыше, за счёт чего казалась солиднее, а тётя Клава была совсем крошечная, как ребёнок, и потому в своей полноте напоминала шарик. Широкие, плоские лица обеих были почти лишены морщин, однако маму можно было назвать даже красавицей, благодаря идеальной форме прямого носа, высокому лбу, большим, выразительным и грустным глазам; Клавины же глаза всегда были угрюмы, острый нос и плоские губы делали её озлобленной, и напоминала она яростного, язвительного, лихого мужичка. Таковы были и характеры: одна мягкая, застенчивая, всего боявшаяся, избегающая конфликтов, сентиментальная, готовая расплакаться чуть что, другая – решительная авантюристка, скандалистка и матершинница. Если мать всю жизнь прожила в Боголюбове, в родительском доме вместе с их мамой и ухаживала за ней до самой смерти, то Клавдея успела побывать во многих городах, в конце концов оказалась на Севере, где работала диспетчером на аэродроме, там получила астму и хорошую пенсию, и лет пятнадцать назад вернулась на родину с сыном и новым мужем (обоих уже не было в живых), где всё время проклинала надоевшие стены, мечтала продать свою половину дома и снова уехать куда-то далеко, где, конечно, лучше, чем в этом заспанном и мелком, полном сплетен городишке.
– Так я пойду, разбужу его, – воодушевилась беззастенчивая Клава.
– Клав, не надо, – умоляюще придержала её за руку мама.
– Не надо, теть Клав, – вступился и Саша, забыв, что спорить с ней бессмысленно.
– Чшш! Что он, не сын, ему, что ли? Царствие Небесное проспит, как мать-покойница говорила.
Мама широко перекрестилась – как всегда, когда разговор заходил о бабушке; как, впрочем, о любом умершем.
Тяжёлый топот утих в глубине небольшого дома, сопровождаемый тонким скрипом половиц. Открылась дверь, и завлекательное рекламное пение телевизора стало громче. Клава что-то говорила, но были ли ей ответы, и какие, не слышно. В этот момент снова со стуком распахнулась входная дверь.
«Ангелинка», – подумал Саша, и неожиданно для себя сильно обрадовался.
Но на сей раз это был Дима – брат, младше его на три года. Он сначала неловко чертыхался в темноте, долго снимая ботинки, куртку и шарф, пока мать вилась вокруг, держа пакет с покупками, принимая уличную одежду, сурово убеждая его «не собирать чертей» и попутно увещевая, сколько надо его ждать, где можно было околачиваться так долго, почему не отвечал телефон. «Приехал?», – не обращая внимание на всё говоримое, сурово уточнил сын и, получив утвердительный ответ, побрёл в освещённую комнату, где и столкнулся со старшим братом.
Они были похожи так же, как мать с тёткой: удлинённые лица, мелкие, отцовские черты, с заостренным носом, близко посаженными к переносице чёрными глазами, только Дима за последние годы неимоверно располнел и стал казаться гораздо старше своих двадцати семи лет, хотя раньше, наоборот, всегда имел нарочито хрупкую, мальчишескую внешность. В семье всегда считалось, что Саша – умница, старательный, послушный, хорошо учившийся, с достойными планами на жизнь, а Димка – «ну. что Димка?», – с деланным весельем всегда отвечала мать, приглаживая ему волосы на затылке… Двоечник, вообще не выговаривавший букву «р», разобравший дома все радиоприёмники и будильники, но не собравший их заново, ежедневно падавший откуда-то и набивавший шишки; он кое-как отучился девять классов, не закончил даже местный техникум, куда его определили учиться на электрика, перебивался случайными заработками – сторожем, разнорабочим, грузчиком, – но нигде особенно не задерживался, и по-настоящему интересовался только мобильными телефонами с самого момента их появления в Боголюбовской жизни, да автомобилями, хотя ни первых, ни тем более вторых никогда не мог себе позволить. В отличие от Саши, хитроумно скрывавшегося от всех выпавших на его годы призывов, Дима грезил походом в армию, особенно десантными войсками, но по какой-то мутной причине даже туда не был взят категорическим отказом.
Саша с братом не были близки, проводили время в разных компаниях, не здоровались по утрам друг с другом, живя в одном доме, ночуя в одной комнате. Мать, правда, любила вспоминать, что Саша очень любил новорождённого братика, нянчился с ним, баюкал, расстраивался, если тот плакал, пока однажды не захотел поднять его с пола и не ударил больно головой об пол – тогда его отлупила бабушка, а потом отец, поэтому с Димой судьба развела их, так и не сблизив. Вот и сейчас они стояли друг против друга, мучаясь необходимостью сказать хоть что-то, выразить приветствие неким незнакомым им действием, пока две женщины застыли в дверях и уверенно ждали чего-то особенного в такую торжественную для всех минуту. Дима был для Саши смутным воспоминанием детства – и любви там не было, лишь обида, что тот ломал его игрушки, шумел, мешал делать уроки, а кроме того, пытался свалить на него все свои проделки, и Саше вечно попадало от родителей за проступки младшего брата. И, хотя мать знала, что он никогда не был замечен в хулиганствах, всё равно шлёпала его, приговаривая: «Ты старший, ты должен за Димкой следить, объяснять ему, как нельзя». На мгновение всё это болезненной внутренней волной подкатило к глазам, но ему быстро удалось справиться с собой: неплохо знакомый, но абсолютно чужой Саше мужчина стоял напротив и так же насупленно глядел на него, соображая, как следует себя вести.



