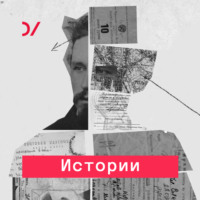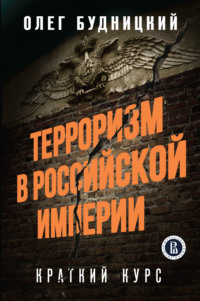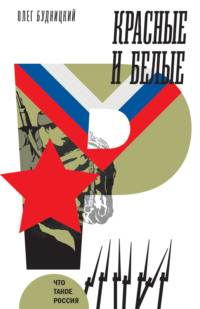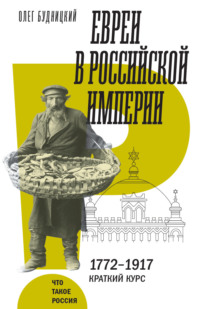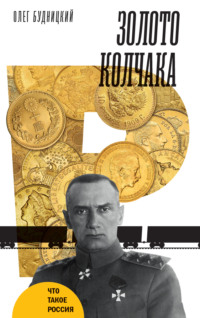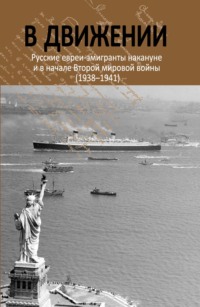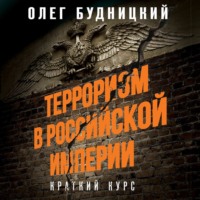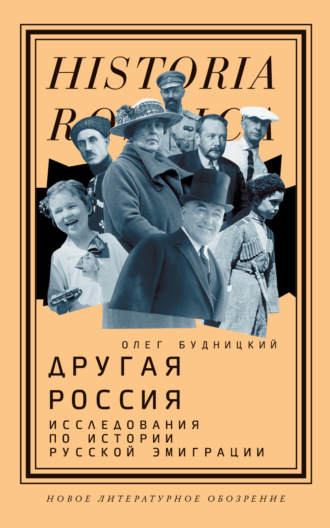
Полная версия
Другая Россия. Исследования по истории русской эмиграции
«Двух станов не борец, а только гость случайный».
«Борцам» полагается думать, или по крайней мере утверждать, что все зверства у врагов, а у своих один героизм. Это не мой стиль, Милюков не даром писал про меня, что я совсем «не политик». Он прав. Никогда не хотел быть главой партии, был «диким» в известных пределах, а во время «Революции» шутя говорил, что хотел бы быть только «сенатом». Вот Вам конфиденция для моего «некролога». Но только никак не раньше115.
Была еще одна сторона натуры Маклакова, которая делала его столь привлекательным для одних, вызывала обвинения в «сибаритстве» со стороны других и, в общем, небеспочвенные подозрения в том, является ли он «настоящим» политиком.
Георгий Адамович, извинившись за банальность, назвал это качество человечностью. Человек для Маклакова был важнее государства, жизнь – важнее политики. Он отчетливо сформулировал это в блистательной лекции о Пушкине:
Фигура Пушкина… сама по себе есть ответ на модное суеверие о всемогуществе государства. Сейчас это суеверие особенно расцвело… Государство все смеет и все может, – вот чему верят теперь. Государство все смеет – и против суверенной «воли народа» нет прав «Человека и Гражданина», как наивно выражались когда-то отсталые деятели времен Революции. Государство все может: достаточно его повеления, чтобы устроить по-справедливому всю жизнь страны и установить общее счастье. Много горьких разочарований принесет человечеству эта надежда, даже в тех областях его жизни, которые более доступны воздействию государства. Много раз будет ему суждено убедиться, что законы природы, даже человеческой, сильнее законов, которые создает государство… Может ли государственная власть, при всем напряжении своего аппарата, создать Пушкина? Государство сильнее его, но в чем? Оно может его затравить, искалечить и уничтожить; оно в силах отнять его у народа; но создать его оно бессильно116.
«Человеческое» сильнее «государственного»; для Маклакова это было не только теоретическое положение. Ему было скучно посвящать всю жизнь политике; поэтому он нередко покидал партийные собрания ради встречи с хорошенькой женщиной; завел роман с очаровательной Александрой Коллонтай, мало интересуясь ее партийной принадлежностью. Встречались они, по свидетельству Розы Винавер, в Германии, где Маклаков останавливался по пути в Париж; Василий Алексеевич уверял, будто до 1917 года не знал, что Коллонтай – большевичка. Возможно, и так: к большевикам Коллонтай примкнула в 1915 году. Впрочем, вряд ли они занимались обсуждением партийных программ во время редких свиданий117.
А. В. Тыркова писала в статье памяти Маклакова, ушедшего из жизни 15 июля 1957 года:
Он любил успех, но в нем не было острого политического честолюбия, не было жажды власти. Он любил жизнь, ее разнообразные утехи, а политика полна скучной возни с будничными людьми и делами. Его насмешливый ум легко замечал человеческую малость и глупость. Он нетерпеливо ее от себя отстранял. А терпение нужно политику еще больше, чем красноречие118.
Жаль, что в большинстве своих книг и статей Маклаков считал необходимым убрать личное; в них нет той внутренней свободы, которая была свойственна его переписке и устной речи. Поэтому не всегда понятно, в чем заключался тот маклаковский шарм, о котором писал даже недоброжелательный к нему Вишняк. Несомненно, одной из его «составляющих» было умение взглянуть на события и на свою в них роль с некоторой иронией: к примеру, во время банкетной кампании 1904 года, когда один из банкетов, устроенных в ресторане, был разогнан полицией, Маклаков говорил приятелю:
«Мирабо, когда слуги Людовика XVI явились, чтобы разогнать Генеральные Штаты, ответил: „Мы здесь по воле народа и уступим только силе штыков“. Но он говорил это на заседании Генеральных Штатов. Не мог же я, сидя в ресторане, сказать полиции, что „мы здесь по воле народа“!»119
Люди, к счастью – или к несчастью, – редко задумываются о смысле жизни; еще реже об этом пишут. И совсем уж редко пишут откровенно. Среди бумаг Маклакова в Гуверовском институте мне попалось его письмо дочери Толстого, Татьяне Львовне Сухотиной-Толстой, в котором он попытался ответить на прямой вопрос о смысле своего существования.
«Вы спрашиваете, – писал Маклаков, – чем же Вы живете внутренне. Банальными романами, „слюнявым жуирством“, подобием государственной деятельности. Этим вопросом „Вы вмешиваетесь в мою личную жизнь“, как негодовала сестра Саша, когда священник на исповеди у нее спросил, не влюблена ли она».
Тем не менее Маклаков постарался ответить, объяснив предварительно, почему, восхищаясь Толстым, так же как и Христом, он не воспринял его учения:
Да потому, что у меня совсем другая натура, не «религиозная», а настоящая мирская. Толстому был нужен «смысл» жизни, чтобы жить; смерть для него уничтожала смысл жизни, построенной на эгоизме. Меня смерть нисколько не беспокоит. Я не хотел бы умереть «внезапно» и «неожиданно», ибо в предвкушении смерти вижу особенное содержательное наслаждение. В этом отношении я настоящий язычник, и я лучше понимаю Петрония, чем Христиан. Все учение Толстого – это дать смысл земной, конечной жизни; и «принять» его могут только те, кому нужен этот смысл, и которые не нашли его в «вере», в «церкви». А мне этого смысла не нужно; если его не нужно, то никакие рассуждения и логические выкладки не заставят человека в этом смысле нуждаться, как нельзя заставить любить музыку, поэзию или науку.
Маклаков делил всех людей на две неравные части – «праведников» и «спортсменов». «Праведники» ищут смысл жизни и добра, «спортсмены» стремятся к успеху в жизни, и это реальный стимул их деятельности. Себя Маклаков относил к «спортсменам», причем часто менявшим виды «спорта»; кстати, к видам «спорта» он относил, к примеру, «умение всегда быть справедливым» или «сознание принесенной пользы». «В оправдание» своего «спортсменства» он писал, что «свой спорт полагал в похвальных отраслях».
«И я мог бы раньше, – добавлял он, – могу и сейчас зарабатывать большие деньги и стать „жуиром“, по Вашему выражению. Это меня не соблазняет, ибо это было бы самой моей большой спортивной неудачей, моим поражением…»120
В 1917 году Маклаков шутя говорил, что хотел бы быть назначенным «сенатом»; не сенатором – для него это не составило бы труда, а именно «сенатом»: он мог бы следить за соблюдением всех законов121. Идея «законности в русской жизни», гарантом которой хотел стать Маклаков, потерпела в 1917 году поражение; один из ее главных защитников оказался свидетелем торжества силы над правом, государства над личностью у себя на родине, да и в других европейских странах.
Прошло больше 60 лет после смерти Маклакова. Его работы, продукт «мощного, ясного, трезвого и чрезвычайно точного» ума, оказываются все более востребованными на родине. Его культурная позиция, «сочетающая русскость в ее исторических и бытовых проявлениях с традицией западной мысли и цивилизации, суд о России, заключающий в себе и любовь, и критику»122 привлекают все больше внимания и становятся объектом пристального изучения.
Возможно, Маклаков счел бы это своим самым большим «спортивным» достижением.
ПОСОЛ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ (Б. А. БАХМЕТЕВ)123
20 июня 1917 года инженер и ученый Борис Бахметев прибыл во главе российской чрезвычайной миссии в США. Ему было поручено также управление российским посольством в Вашингтоне и присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. 5 июля 1917 года Бахметев вручил верительные грамоты президенту Вудро Вильсону, превратившись из посла де-факто в посла де-юре. 8 ноября 1917 года, когда в США было получено известие о большевистском перевороте, Бахметев находился в Мемфисе, где должен был произнести очередную речь, направленную на пропаганду усилий России в войне и создание имиджа новой, демократической России в глазах американцев. Бахметев отреагировал на переворот немедленно, заявив, что новая петроградская власть не отражает духа и настроений народа.
Американское правительство, после двухнедельной паузы, подтвердило дипломатический статус Бахметева, признав его истинным представителем России и отказавшись иметь какое-либо дело с большевиками. Это был случай до той поры беспрецедентный – посол представлял уже не существующее правительство. Пять лет Бахметев находился на этом посту, сыграв крупную роль в организации дипломатической и финансовой поддержки антибольшевистского движения, а также оказывая заметное влияние на формирование американской политики по отношению к России; 30 июня 1922 года он ушел в отставку, подав заявление о ней в виде письма на имя государственного секретаря США Чарльза Хьюза. «Своего» правительства, даже «в изгнании», у него по-прежнему не было.
* * *Биография Бахметева, как это ни странно для столь заметной фигуры, не становилась объектом специального изучения историков. Возможно, это объясняется его «пограничным» положением: полжизни он провел в России, полжизни – в Америке. Для советских историков Бахметев длительное время был персоной нон грата, да и его личный архив в Колумбийском университете был для них совершенно недоступен; и советских, и американских историков бывший посол интересовал преимущественно как дипломат. О Бахметеве писали в исследованиях, посвященных внешней политике США, в особенности российско-американским отношениям124. Что же касается остальных периодов его жизни, то о них можно почерпнуть поверхностные и нередко ошибочные сведения в справочных изданиях и некрологах, опубликованных вскоре после его смерти125.
Бахметев был человеком скрытным и не опубликовал при жизни никаких мемуаров. Хотя, вероятно, такие намерения на склоне лет у него были; он надиктовал свои воспоминания в рамках проекта устной истории Колумбийского университета. При распечатке текст составил более 600 машинописных страниц. Устные воспоминания Бахметева являются, пожалуй, главным источником для его биографа, хотя и в них мемуарист предпочел многое опустить.
Возможно, скрытность Бахметева выработалась гораздо раньше, нежели он вступил на дипломатическое поприще, и тому были определенные причины. В биографической справке, находящейся среди бумаг Бахметева в Колумбийском университете, значится, что он родился в Тифлисе 1 мая 1880 года126. Однако в личном деле «экстраординарного профессора по кафедре прикладной механики Политехнического института Б. А. Бахметева» указано, что родился он 20 июля того же года «от неизвестных родителей», крещен 30 августа 1880 года, а восприемниками были Александр Павлович Бахметьев и дочь статского советника Андрея Шателена девица Ольга. Борис был «принят на воспитание инженером-технологом Александром Павловичем Бахметьевым» 25 ноября 1892 года. А. П. Бахметьев усыновил «живущего при нем приемыша» Бориса, о чем состоялось решение Тифлисского окружного суда127. Вряд ли можно сомневаться, что А. П. Бахметьев был настоящим отцом будущего посла, «девица Ольга Шателен» – единоутробной сестрой, а матерью – Юлия Васильевна Шателен, урожденная Новицкая. Ее первый муж Андрей Шателен умер в 1877 году; Борис родился до оформления брака Юлии Васильевны с А. П. Бахметьевым. Борис «унаследовал» неплохую родню: его единоутробными братьями были капитан 1-го ранга Владимир Шателен (1864–1935), профессор-электротехник, член-корреспондент АН СССР Михаил Шателен (1866–1957) и финансист, товарищ (заместитель) министра финансов Временного правительства Сергей Шателен (1873–1946). Владимир и Сергей умерли в эмиграции, что не помешало среднему брату сделать блестящую научную карьеру в СССР. Кстати, о разночтениях в написании фамилии нашего героя: неясно, когда он «потерял» мягкий знак при написании своей фамилии; во всяком случае, в документах и письмах после 1917 года он подписывался как «Бахметев».
В 1898 году Бахметев закончил с золотой медалью 1-ю Тифлисскую гимназию. Кроме гимназического курса он занимался дома языками – французским, английским и немецким, а также музыкой – А. П. Бахметьев, крупный предприниматель и весьма состоятельный человек, не жалел средств на образование сына. В том же году Борис поступил в Институт путей сообщения в Петербурге.
Очень быстро Бахметев «вошел» в политику. «Мы покидали наши родные города политически наивными, – вспоминал он более полувека спустя. – Однако в атмосфере университета, проникнутой политическими ожиданиями и размышлениями, быстро становились революционерами по духу, а иногда – и по делам… Гуманистический элемент был очень силен, и я не могу себе представить, что в то время кто-нибудь в возрасте 20 или 23 лет не был своего рода социалистом»128. Бахметев также относился к числу этих молодых людей. Только вот социалистом он стал не «своего рода», а самым настоящим – членом РСДРП, и довольно заметным.
В 1898 году, когда Бахметев поступил в институт, началась активизация студенческого движения, принявшего в 1899 году массовый и публичный характер. По мнению Бахметева, освободительное движение, завершившееся в 1905 году, началось на самом деле в 1899-м. В этом тезисе – о завершении освободительного движения в 1905 году, то есть с изданием Манифеста 17 октября, декларировавшего созыв законодательной Думы и гражданские свободы, возможно, чувствуется не только личный жизненный опыт и позднейшие размышления, но и влияние его друга и многолетнего корреспондента В. А. Маклакова.
Однако юный провинциал, каким был Бахметев в то время, не был столь рассудителен и быстро прошел путь от политической невинности до участия в студенческом комитете в качестве представителя своего учебного заведения. Вспоминая настроения студенческой среды, Бахметев говорил о том, что все хотели свободы, конституции, освобождения от власти самодержавия, ответственного правительства. «На самом деле в то время люди, даже называвшие себя социалистами – некоторые из них марксистами («Я принадлежал к марксистскому направлению. Не знаю почему», – добавлял Бахметев) были далеки от сегодняшних социалистических программ. Другими словами, они говорили о социализме совершенно абстрактно. Любой социалист тех дней сказал бы, что для начала надо завоевать политическую свободу и затем предоставить народу возможность решать самому»129.
В порядке самообразования Бахметев прочел все три тома «Капитала» К. Маркса, сочинения Д. Рикардо, А. Смита, много трудов по истории; это самообразование составило основу, на которую он опирался, по его собственному признанию, и полвека спустя.
Вспоминая о своих студенческих днях, бывший социал-демократ говорил, что марксистские взгляды, которых он тогда придерживался, очень отличались от позднейшей коммунистической интерпретации Маркса. «Мои идеи более или менее совпадали со взглядами умеренной европейской социал-демократии. Прежде всего, они были абсолютно демократическими. Я считал, что любые социальные реформы и изменения должны быть проведены в жизнь демократическим путем. Важнейшей вещью была политическая свобода, и это было убеждение социал-демократии по всему миру. Это было приблизительно так же, как сейчас – за пределами коммунизма. Я не верю в социал-демократические идеи теперь, но в те дни, когда я был юным, – верил. Но это то же самое. Другими словами, я верю сейчас, что гуманитарные цели и либеральные цели могут быть достигнуты лучше другими средствами, но в те дни важнейшей вещью была политическая свобода, конституционное правительство, всеобщее избирательное право, которое должно было дать право голоса всем, и затем люди могли бы выразить свою волю для таких социальных изменений, которые были необходимы»130.
Бахметев обратил на себя внимание Департамента полиции. «Из источника, заслуживающего доверия» Особым отделом Департамента были получены сведения, что Бахметев «руководит всеми студентами радикального направления в Институте и пользуется большим на них влиянием, так как сам он очень способный и талантливый человек, и при том располагающий хорошими денежными средствами». «Источником», как следует из дела, был вовсе не секретный агент, а один из соучеников Бахметева, сообщивший компрометирующие Бориса сведения своему родственнику, служившему по полицейской части. На основании этого Охранному отделению было предложено включить Бахметева в «ликвидацию», то есть массовые аресты студентов 2–3 марта 1902 года, поскольку они, по данным «источника», готовили 3 марта политическую демонстрацию на Невском проспекте131.
К Бахметеву (он снимал комнату на Николаевской набережной) пришли в семь часов утра 3 марта. Двухчасовой обыск не дал результатов, тем не менее его поместили под арест. По заключению Особого отдела Департамента полиции Бахметев «производит впечатление человека развитого, выдержанного и не лишенного личной инициативы, каковые свойства его личности вполне совпадают с имеющимися в Особом Отделе агентурными указаниями; но, несмотря на это (курсив мой. – О. Б.), при допросе 3-го марта Бахметев произвел на допрашивавшего офицера весьма выгодное впечатление, тем самым, что благоприятно повлиял на заключенных с ним товарищей, предложив им вести себя корректнее и не предъявлять излишних требований»132.
15 марта 1902 года Бахметева освободили, а 31 марта его дело рассматривало Особое совещание при Министерстве внутренних дел. Обычно это мрачное учреждение ассоциируется с НКВД и сталинским террором. На самом деле большевики не изобрели ничего нового: Особое совещание при МВД было учреждено в 1881 году императором Александром III по представлению министра внутренних дел и имело право ссылки на срок до пяти лет в отдаленные места империи. Несмотря на то что сведения, полученные из агентурного источника, «не вполне подтвердились, а напротив выяснилось, что до настоящего времени никаких компрометирующих его сведений не поступало и он даже благотворно влияет на товарищей по учению», местные власти предложили воспретить Бахметеву «местожительство в столицах, столичных губерниях и университетских городах на один год». Однако же Департамент полиции предложил дело прекратить, с чем и согласился министр внутренних дел133.
В общем, Бахметеву удалось провести охранку, да и к обыску он явно был готов.
После окончания института Бахметев был направлен на два года за границу для подготовки к преподаванию по кафедре гидравлики в основанном С. Ю. Витте Политехническом институте. Из сумм, ассигнованных Государственным советом на подготовление к званию профессоров института, ему были выданы 1500 руб. на год пребывания в Европе и 2650 руб. на год пребывания в Америке. Рубли, благодаря виттевской финансовой реформе 1897 года, были обеспечены золотом, и их можно было обменять на валюту. Бахметев провел первый год в Швейцарии, где в Цюрихском политехникуме изучал гидравлику, второй в Америке – изучал методы инженерной работы в США. Там он работал на постройке канала Эри, а также практиковался в инженерном деле134.
Бахметев и за границей не оставлял политической деятельности и сочетал изучение инженерного дела с пропагандой социалистических идей. В собрании Б. И. Николаевского находится рукопись Бахметева, датированная 1904 годом, «Конспект занятий с рабочими по аграрной программе РСДРП». На занятиях предполагалось рассматривать такие темы, как «Краткий очерк развития сельского хозяйства в капиталистическом обществе», «Капитализм в русской деревне», «Социал-демократическая аграрная политика в капиталистическом и докапиталистическом обществе», «Наша программа и программа эсеров»135. Среди бумаг бывшего секретаря Бахметева, М. М. Карповича, сохранилось несколько десятков листков, исписанных рукой Бахметева, – это записи его речей и рефераты, относящиеся преимущественно к 1905 году. Среди них – «Развитие русской социал-демократии», «Классовая борьба – диктатура пролетариата – соц[иалистическая] революция», речь на собрании в Нью-Йорке 12 марта 1905 года о революционных событиях в разные времена и в разных странах, приходившихся на март, например в Германии в 1848 году, речь о русском пролетариате и др.136 Очевидно, начинающий инженер вел социал-демократическую пропаганду в США среди русских эмигрантов. Бахметев хранил эти записи, свидетельствующие о «грехах» его молодости, многие годы. Карпович стал его секретарем и уехал вместе с послом в США в 1917 году; следовательно, попасть к нему раньше записи никак не могли.
Бахметев не упоминал о своей активной пропагандистской деятельности в мемуарах; между тем фигурой среди социал-демократов он был довольно видной. Чем еще объяснить его избрание (заочно) на IV съезде РСДРП, состоявшемся в 1906 году, в состав ЦК партии от меньшевиков? По-видимому, Бахметев не стремился популяризировать свое социал-демократическое прошлое; во всяком случае, никогда не упоминал о нем ни в печати, ни в частной переписке.
Однако вскоре после достижения вершины своей революционной деятельности, избрания в ЦК ведущей революционной партии в России, Бахметев постепенно отходит от политики такого рода. Он, по-видимому, был по-настоящему увлечен своей профессиональной деятельностью; возможно, свою роль сыграли и изменения в его личной жизни – 15 (29) июля 1905 года состоялось бракосочетание Бахметева и Елены Михайловны Сперанской, дворянки, слушательницы Санкт-Петербургского женского медицинского института.
С 1 сентября 1905 года Бахметев приступил к работе в качестве старшего лаборанта кафедры гидравлики Политехнического института; вскоре он начал преподавать французский язык на электромеханическом и кораблестроительном отделениях. С 1905 по 1911 год Бахметев был внештатным преподавателем института; в 1911 году он защитил докторскую диссертацию в Институте инженеров путей сообщения, а 30 ноября того же года стал штатным преподавателем Политехнического института. 26 мая 1912 года ему было присвоено звание адъюнкта по кафедре прикладной механики, а 28 января 1913 года «высочайшим приказом» он был назначен экстраординарным профессором той же кафедры. Бахметев преподавал гидравлику, гидроэнергетику, теоретическую и прикладную механику. В 1912 году были изданы его «Лекции по гидравлике», в 1914-м – «Переменные потоки жидкости в открытых каналах». 10 апреля 1911 года за «отлично-усердную службу и полезные труды» Бахметев был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. Забавно, что бывший социал-демократ по случаю 300-летия Дома Романовых в 1913 году был награжден нагрудной светло-бронзовой медалью137.
Став профессором, Бахметев вошел в состав Ученого совета Политехнического института. Правда, в силу того, что он почти постоянно находился в длительных командировках, в заседаниях Совета ему участвовать не пришлось. Состав Ученого совета Политехнического института дает представление об уровне этого, пожалуй, самого на тот момент современного учебного заведения императорской России. Перечислю лишь некоторые имена: М. А. Шателен, М. И. Туган-Барановский, Н. Д. Зелинский, П. Б. Струве, В. Б. Ельяшевич, Д. М. Петрушевский, А. С. Ломшаков, Г. Н. Пио-Ульский, А. А. Чупров, В. Е. Грум-Гржимайло, В. М. Гессен, М. А. Дьяконов, А. Ф. Иоффе, Б. Н. Меншуткин, В. Ф. Миткевич, С. П. Тимошенко, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, М. И. Фридман и др.138 Директором института в 1911–1917 годах был физик В. В. Скобельцын.
Это было поистине блистательное созвездие ученых, причем не только «технарей» и естественников, как можно было бы ожидать от членов Ученого совета Политехнического института. Наряду с экономистами (в институте впервые в России было экономическое отделение) мы видим среди физиков, химиков, механиков, статистиков также юристов (Ельяшевич, Гессен) и историков (Дьяконов, Петрушевский). Выпускники института получали поистине фундаментальное образование. Многие ученые не ограничивались только научной и преподавательской деятельностью. Среди перечисленных выше некоторые были весьма активны на общественно-политической арене. Трое являлись членами Государственных дум (Ломшаков, Струве, Гессен). Выдающиеся экономисты Туган-Барановский и Струве были в 1890-е «двумя Аяксами» марксизма, а в 1900 году участвовали вместе с В. И. Ульяновым-Лениным и Ю. О. Мартовым в Псковском совещании по вопросу о создании социал-демократической газеты, получившей название «Искра». В результате прихода к власти партии, возглавляемой Лениным, Струве в итоге оказался в эмиграции, так же как Ломшаков, Гессен, Пио-Ульский, Ельяшевич, Тимошенко, Чупров. Почти все оставшиеся в России и пережившие период Гражданской войны (академик Дьяконов умер в 1919 году в Петрограде от истощения, в том же году ушел из жизни Туган-Барановский) стали академиками или членами-корреспондентами Академии наук СССР и сыграли выдающуюся роль в становлении советской науки. В частности, Абрам Иоффе стал основателем и директором Физико-технического института, вице-президентом АН СССР и главой школы, «выпустившей» блестящую плеяду физиков, за что и получил прозвище «папа Иоффе»139. Заслуги Иоффе не помешали снять его с должности директора Физтеха в 1950 году, в период «борьбы с космполитизмом». Но это была «музыка будущего», а пока что профессора Политеха вряд ли могли вообразить, какие крутые повороты судьбы их (как и всю страну) ждут через несколько лет. И, наверное, в самом удивительном сне не могло привидеться профессору-экономисту Петру Струве, что он станет министром иностранных дел в последнем антибольшевистском правительстве на европейской территории России, а профессору-гидравлику Борису Бахметеву, – что он будет российским послом в Вашингтоне.