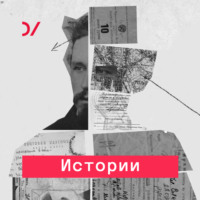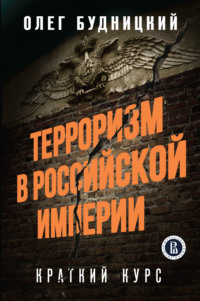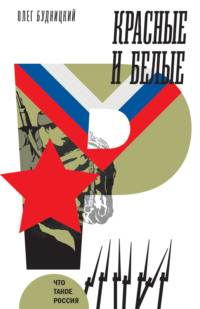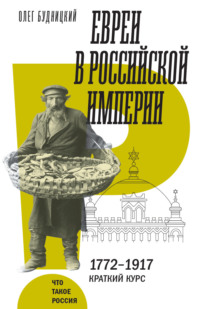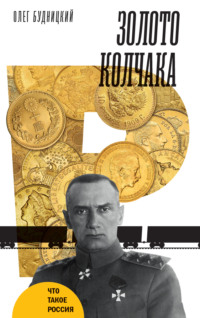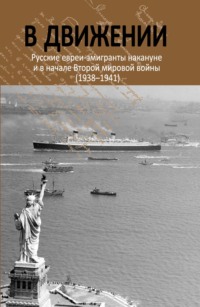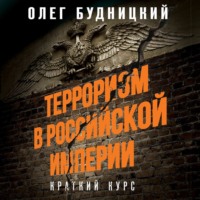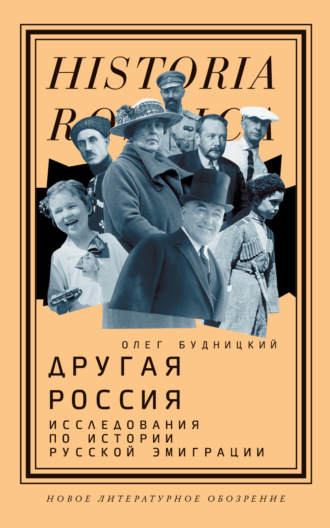
Полная версия
Другая Россия. Исследования по истории русской эмиграции
Надо учесть еще один фактор – в новую демократическую Россию и в прочность положения Временного правительства уверовал не только Бахметев. Миссия сенатора Э. Рута, направленная американским правительством в Россию163, чтобы разобраться в обстановке на месте, пришла к заключениям, сходным с заверениями посла. Американский историк Ф. Шуман, не скрывая иронии, писал:
Вся миссия была полна духом оптимизма, доверия Временному правительству, верой в решимость и способность России энергично вести войну против центральных держав. По возвращении в Америку они поспешили заверить страну в лояльности России делу союзников и в светлом будущем русской демократии. 8 августа миссия была вызвана в Белый дом и доложила свои выводы президенту Вильсону. Оптимизм был единодушным, хотя подчеркивалась необходимость в американской помощи164.
Взгляды, которые развивало либерально-демократическое руководство Временного правительства относительно значения русской революции и целей войны, полностью гармонировали со взглядами американских либералов. Новый импульс был придан старой традиции российско-американской дружбы, Россия начала движение по пути политического развития, по которому уже давно шли Соединенные Штаты. От Америки очень хотели совета, ободрения и помощи. Временное правительство столкнулось с трудностями, но предполагало, твердо опираясь на поддержку масс, успешно справиться с двойной задачей ведения войны и созыва Учредительного собрания для того, чтобы заложить прочный фундамент будущего Русского государства. Таковы были взгляды министров этого правительства, конституционных демократов, многих умеренных социалистов, либеральной интеллигенции и их представителей за границей. Такими были взгляды президента Вильсона, мистера Рута, посла Фрэнсиса и огромного большинства американских законодателей, издателей и в целом общественных деятелей. И придерживаться этих представлений было наиболее приятно. Перспективы, которые они открывали, были обнадеживающими, ободряющими и в то же время желательными. Они точно соответствовали сформированным заранее понятиям и политическим и социальным предрассудкам тех, кто их придерживался. То, что они не соответствовали действительной ситуации в России, было недостаточной причиной, чтобы отказаться от них. Они прочно засели в умах американцев на много лет, с последствиями столь же трагическими, сколь абсурдны были эти представления165.
Задним числом Бахметев говорил: «Возможно, продолжать войну было фатальной ошибкой, но я верю, что это было правильно – держаться и постараться быть верными делу союзников»166. Размышляя о причинах краха Временного правительства 33 года спустя, он говорил об усталости от войны, о том, что, заключи Временное правительство мир, оно удержало бы власть. «Однако оно выбрало путь чести». И в первый же день его существования министр иностранных дел заверил послов союзников, что Россия продолжит воевать. «Это было, разумеется, для них большим облегчением, но, вероятно, похоронным звоном для Временного правительства»167. Однако в 1917 году посол рассуждал совершенно по-иному.
Так или иначе, но период взаимных восторгов, правда омрачавшихся время от времени тревожными сообщениями из Петрограда, с большевистским переворотом закончился. Период от ноября 1917 года до заключения перемирия между союзниками и центральными державами представлял для посла «наиболее трудный и наиболее болезненный период деятельности». Через несколько дней по прибытии из Мемфиса, где Бахметева застало известие о смене власти в Петрограде, он направил государственному секретарю ноту, в которой «резко и бесповоротно отделил наше представительство от большевистской власти и тут же заявил, что мы считаем долгом, поскольку обстоятельства позволяют, оставаться на посту, чтобы защищать интересы национальной России».
Всем поначалу казалось, что большевики – непродолжительный эпизод. Бахметев «давал этой власти несколько больше времени, измеряя ее пребывание месяцами»; однако и ему представлялось, что большевикам не дожить до весны. Рассуждая в своей позднейшей аналитической записке о причинах прихода к власти большевиков, Бахметев, в частности, писал:
Мне также было ясно влияние неправильной внешней политики как со стороны союзников, так и со стороны Временного правительства, политики, которая ни в какой мере, казалось мне, не считалась со стихийной волей страны, направленной к выходу из войны. Сейчас оценивая пережитое за десять лет, думаю, что я переоценивал в то время возможность положительного влияния на настроения масс разумной внешней политики… Во всяком случае, для меня было совершенно ясно, что как в интересах России, так и в свете справедливой и разумной политики со стороны союзников надо было немедленно отделить большевистскую власть от народа168.
Идеи Бахметева были восприняты (или совпали) с чувствами руководителей американской администрации. Самое главное, что они соответствовали представлениям главы администрации – президента Вильсона. Оба, и президент, и посол, как пишет Д. Фоглсонг, видели в большевистской революции временную неудачу, которая будет преодолена. Оба четко разделяли режим, пришедший к власти в Петрограде, и подлинных русских людей. Вильсон писал 13 ноября 1917 года одному из конгрессменов, что не потерял веру в возрождение России: «Россия, подобно Франции в прошлом столетии, вне всякого сомнения перейдет глубокие воды и выберется на твердую землю на другом берегу и ее великий народ… займет достойное его место в мире»169.
Не все представители администрации, связанные с русскими делами, разделяли оптимизм президента; но его мнение было решающим. К тому же, как бы ни относились к Бахметеву и его необычному статусу посла несуществующего правительства те или иные представители администрации, их объединяло одно – ненависть к большевизму, еще более усугубившаяся после заключения советским правительством мира с Германией.
Таким образом, Бахметев сохранил свой статус; его в Вашингтоне считали настоящим представителем русского народа. Более существенным было то, что Бахметев, хотя и под присмотром и с разрешения Министерства финансов, получил право распоряжаться средствами, находившимися на счетах Временного правительства в банках США. Перечисление средств в счет кредитов и займов Временному правительству прекратилось. Однако те деньги, которые уже были переведены, не были заморожены, а использовались послом для обслуживания российских долгов, выплат по уже заключенным под гарантию американского правительства контрактам и т. п.; эти средства в значительной степени шли на финансирование антибольшевистских движений в России. Посольство было удобным каналом для перечисления средств в Россию; именно через посольство финансировалась деятельность американской миссии по поддержанию в рабочем состоянии Транссибирской магистрали. Всего, по подсчетам Фоглсонга, через посольство было проведено финансирование закупок для нужд белых армий на сумму, превышающую 50 млн долл. «Использование российского посольства как канала для помощи антибольшевистским движениям позволило вильсоновской администрации избежать запросов на финансирование этих целей у Конгресса и способствовало тому, что эта помощь оставалась скрытой от прессы и американского народа», – пишет американский историк170.
Неудивительно, что Бахметев стал одной из наиболее влиятельных фигур среди русских дипломатических представителей за рубежом.
Другой ключевой фигурой в дипломатическом, финансовом и материальном обеспечении антибольшевистского движения стал посол в Париже В. А. Маклаков171. С первых дней своего пребывания в Париже ему пришлось взять на себя лидирующую роль в организации антибольшевистского движения. Уже 27 октября он отправил телеграммы российским послам в Лондоне (К. Д. Набокову), Риме (М. Н. Гирсу) и Вашингтоне с предложением занять единую позицию и, разумеется, не признавать большевистского правительства172. Маклаков встретил полную поддержку со стороны своих коллег, включая Бахметева.
Послам приходилось отстаивать национальные интересы России в условиях послевоенного переустройства мира, когда сила и чувство мести нередко преобладали над справедливостью и здравым смыслом; при этом послы не могли опереться на какое-либо законное российское правительство; ни одно из антибольшевистских правительств не оказалось достаточно сильным и долговечным, чтобы удостоиться официального международного признания; что же касается правительства, сидевшего в Москве, то послы, напротив, прилагали все усилия, чтобы не допустить даже переговоров с ним.
Послам приходилось сдерживать амбиции белых генералов и служить своеобразными посредниками между различными политическими силами антибольшевистского лагеря; нередко их деятельность была направлена не столько на представительство интересов российских правительств за рубежом, сколько на воздействие на их внутреннюю политику – против «реставраторства», «монархизма», неумения учесть интересы различных народов, населявших бывшую Российскую империю. После поражения белых на плечи послов легла забота о сотнях тысяч русских беженцев.
22 ноября (5 декабря) 1917 года нарком иностранных дел советского правительства Л. Д. Троцкий направил российским послам требование подчиниться новому правительству и следовать его указаниям или же немедленно уйти в отставку; Троцкий предупреждал, что отказ выполнить его требование будет рассматриваться как тягчайшее государственное преступление173. Все послы, по взаимному соглашению, за исключением российского представителя в Португалии П. Л. Унгерн-Штернберга, не ответили на телеграмму Троцкого, тем самым отказавшись признать новую власть. 26 ноября (9 декабря) последовал приказ Троцкого об увольнении послов и посланников, не ответивших на телеграмму с предложением работать под руководством советской власти, «без права на пенсию и поступления на какие-либо государственные должности»174.
В конце ноября 1917 года в Париже был создан координационный орган, Совещание послов, включавший М. Н. Гирса (Италия), К. Д. Набокова (Англия), М. А. Стаховича (Испания), И. Н. Ефремова (Швейцария) и Маклакова. Формально все российские послы значились членами Совещания, однако фактически, кроме упомянутых, активное участие в его работе принял только Бахметев. Совещание должно было собираться время от времени, обсуждать текущую политику и вырабатывать общую позицию, причем все решения должны были приниматься единогласно; председателем Совещания был избран Маклаков175.
Цели, которые ставили перед собой дипломаты, сводились к четырем основным моментам: предотвращение признания союзниками советской власти; обеспечение моральной и материальной поддержки белых войск; защита территориальной целостности России и отстаивание ее традиционных национальных интересов; признание западными державами антибольшевистских правительств легитимными представителями России176.
Очень быстро российские послы убедились, что надежды на скорый крах советского правительства безосновательны и без иностранной поддержки, вплоть до прямого вооруженного вмешательства, большевиков одолеть будет нелегко. Реально такую поддержку могли в той или иной степени оказать Англия, Франция, США и Япония. Однако между ними существовали противоречия, иногда серьезные, как между США и Японией на Дальнем Востоке; но еще большие противоречия существовали между различными силами антибольшевистского лагеря как внутри, так и, особенно, вне России.
Маклаков и Бахметев были согласны, в особенности после подписания большевиками Брест-Литовского мира, с необходимостью скорейшего иностранного вмешательства, однако посол в Вашингтоне считал желательным поддержать его «именем находящихся за границей русских», а также именами известных российских политиков демократической ориентации, например Б. В. Савинкова и И. Г. Церетели, для чего даже специально выписать их из России. Маклаков же полагал, что медлить нельзя; зная лучше своего корреспондента нравы российской политической элиты, он опасался, что серьезные решения утонут в спорах по пустякам.
«Всячески сочувствуя Вашей мысли морально поддержать вмешательство извне и для этого объединить заграничные русские силы, – телеграфировал Маклаков Бахметеву в конце апреля 1918 года, – думаю, что настоящий толчок национальному возрождению даст появление в России военной силы, пришедшей на ее защиту… С ужасом вижу, что Вильсон слишком медленно понимает, что надо делать, и избытком корректности губит Россию»177.
На истекающую кровью Францию рассчитывать не приходилось; к тому же после заключения Россией сепаратного мира она переживала пароксизм русофобии. Столь же невелики были надежды на Англию, которой было не до России в период, когда сражения на Западном фронте вступили в решающую фазу. Российский представитель в Англии К. Д. Набоков писал о ситуации марта–августа 1918 года:
Министры, члены военного кабинета и сам глава кабинета, с все возрастающим волнением ожидавшие, два раза в день, «военного бюллетеня» с западного фронта – могли ли они «загадывать о дне грядущем», смотреть далеко вперед и понимать тогда, что оставлением России на произвол большевиков они… рискуют парализовать последствия даже самой полной победы? Нет, не могли. Они «отмахивались» от России, от вопроса о помощи России…178
Относительно Японии и ее намерений российские дипломаты испытывали серьезные сомнения. Наиболее емко их сумел сформулировать британский посол в Париже лорд Берти, записавший в дневнике 12 марта 1918 года: «Так называемый русский посол Маклаков хочет и не хочет японской интервенции в Сибири»179. Такой же была позиция Бахметева; его опасения относительно искренности намерений японцев и масштабов их присутствия в России коррелировали с подозрительным отношением к активности Японии на Дальнем Востоке со стороны американской администрации.
С апреля по июль 1918 года российское посольство в Вашингтоне предприняло кампанию с целью убедить президента Вильсона и американский народ одобрить американскую интервенцию в Россию. Сотрудники посольства направлялись в пропагандистские лекционные турне; в кампанию включились видные русские политики, оказавшиеся за рубежом; кроме публичных выступлений, проводилась «индивидуальная» работа с чиновниками Госдепартамента.
Невмешательство во внутренние дела других стран, по крайней мере на словах, было фундаментальным принципом дипломатии Вильсона. Поэтому, даже накануне решения президента послать американские войска в Россию при условии того, что они будут частью вооруженных сил союзников, состоялась встреча Бахметева с одним из помощников госсекретаря, Б. Лонгом, на которой было оговорено, что американские войска не станут действовать в интересах той или иной политической группы, а поддержат только то движение, которое примет общенациональный характер и будет выражать интересы России в целом.
При этом подразумевалось, что большевики признаны такой общенациональной силой не будут ни при каких обстоятельствах. Условием признания группы или движения, выражающими действительно общерусские интересы, являлось признание ими принципов демократии, свободного предпринимательства и намерение продолжать войну с Германией и ее союзниками180. В течение всей Гражданской войны русские дипломаты добивались признания союзниками какого-либо из антибольшевистских правительств, действовавших на территории России. Успехом это не увенчалось, если не считать признание правительства Врангеля Францией de facto в августе 1920 года, когда это уже имело почти символическое значение.
Насколько советы и мнения Бахметева учитывались администрацией Соединенных Штатов при формировании своей российской политики? Мнения историков по этому поводу расходятся. Среди тех, кто считает влияние Бахметева серьезным, – Джордж Кеннан, Роберт Мэддокс, Линда Киллен и в особенности Дэвид Фоглсонг181. Л. Киллен пишет, что Бахметев «не делал русскую политику Америки. Он пытался, и с определенным успехом, влиять на формулирование этой политики»182. В тезисе Киллен чувствуется некоторое противоречие. Не есть ли «формулирование» политики в известном смысле ее «делание»? На наш взгляд, более точен Р. Ш. Ганелин, который пишет, что «идеи Бахметева оказали известное влияние на послеоктябрьский курс Вашингтона в „русском вопросе“. Они стали отправной точкой одной из линий американской политики, явившись довольно важным эпизодом в предыстории… 14 пунктов Вильсона»183.
Особенно отчетливо это прослеживается в истории с 6-м пунктом из знаменитых «14-ти» президента Вильсона, посвященным России. Заключение большевиками перемирия с Германией и их призыв к немедленному подписанию мира без аннексий и контрибуций послужили побудительным мотивом для речи Вильсона; в отношении России, дальнейшие намерения нового руководства которой были неочевидны, необходимо было соблюсти деликатность, чтобы не толкнуть ее в объятия Германии и, в то же время, продемонстрировать дружеское расположение Америки к России. Бахметев, которого трудно заподозрить в симпатии к большевикам, советовал воздержаться от формальных протестов против политики Ленина или каких-либо угроз, которые только укрепят позиции большевиков.
Телеграмма, которую посол дал 30 ноября 1917 года полковнику Хаузу, произвела на последнего сильное впечатление. Бахметев телеграфировал:
Хотя правительство Ленина, захватившее власть путем насилия, не может рассматриваться как правительство, представляющее волю русской нации, его призыв, обращенный к союзникам и призывающий к перемирию, не может быть оставлен без ответа, так как всякое уклонение союзников от решения вопроса о мире только усилит позицию большевиков и поможет им создать в России атмосферу, враждебную союзникам. Какой-либо формальный протест против политики Ленина или какие-либо угрозы будут иметь тот же самый эффект. Они только ухудшат положение и помогут максималистам дойти до крайности…184
Хауз советовался с Бахметевым перед отъездом в Вашингтон, и «написанное Вильсоном по своей сущности и содержанию близко к наброску посла». Хауз записал:
Я прочел ему (президенту. – О. Б.) приготовленное мной предложение, относящееся к России и предварительно рассмотренное русским послом, вполне его одобрившим. Я сказал, что безразлично, сколь велико негодование президента по поводу поступка русских: разум велит нам изолировать Россию, насколько возможно, от Германии, а этого можно достигнуть только открытым и дружественным выражением сочувствия и обещанием более существенной помощи. Президент не возражал, так как наши мысли были вполне одинаковы, и то, что он написал о России, является, по-моему, в некоторых отношениях наиболее красноречивой частью его послания.
В пункте 6 говорилось:
Очищение всей занятой русской территории и разрешение вопросов, затрагивающих Россию, способствующее наилучшему и свободнейшему сотрудничеству других наций мира, с целью помочь России использовать беспрепятственно и без затруднений благоприятные возможности для независимого разрешения вопросов ее собственного политического развития и национальной политики и для гарантирования ей искреннего, радушного приема в содружество свободных наций при условии установления ею формы правления по собственному выбору. И даже не только приема в союз наций, а также и помощи любого рода, в которой она может нуждаться и которой она сама пожелает185.
Вся эта обходительность оказалась напрасной. Ленин хотел совсем другого, чем президент Вильсон. Да и Германия отнюдь не собиралась выпускать из рук долгожданную добычу.
Таким образом, Бахметев, по крайней мере время от времени, участвовал не только в формулировании, но и в формировании американской политики в отношении России. Два важнейших текста, в которых декларировались принципы этой политики, были подготовлены при его участии – кроме «6-го пункта», посол, позднее, приложил руку к ноте госсекретаря Б. Колби.
Более высоко, чем Киллен, хотя в целом негативно, оценивает влияние русского посла Фоглсонг. Он пишет, что, несмотря на утрату президентом Вильсоном и его советниками доверия к Временному правительству, ввиду допущенных им грубых просчетов и неумелости, чиновники Госдепартамента сохранили свою высокую оценку посла Бахметева. «После большевистской революции общий антибольшевизм сцементировал связь между Лансингом и Бахметевым. Государственный секретарь часто ссылался на мнения Бахметева, в особенности в противостоянии «раздроблению» России на «отдельные государства». В своих мемуарах Лансинг яркими красками рисует, как Бахметев «вел себя и дела своего посольства с тактом и сдержанностью, так что когда он оставил свой пост… он сохранил уважение и доброжелательность многочисленных друзей, приобретенных им за время своей посольской карьеры». Столь же высоко оценивал Бахметева заместитель Лансинга Фрэнк Полк, считавший посла «чрезвычайно полезным представителем» России186.
Совсем с иных позиций оценивает деятельность Бахметева и его партнеров в администрации президента Вильсона современный исследователь Фоглсонг:
Российское посольство играло решающую двойную роль в тайной войне администрации против большевизма. Посольство выполняло функцию публичного символа «Настоящей России», которая, как надеялась вильсоновская администрация, появится из хаоса гражданской войны. В то же время посольство служило тайным каналом для снабжения антибольшевистских сил, что администрация не могла осуществить открыто и напрямую, так как опасалась оппозиции в обществе и критики в Конгрессе. Бахметевские «такт и сдержанность», превознесенные Лансингом, помогли Вашингтону сохранить веру в «Россию», в то время как тайная поддержка антибольшевистских движений повлекла за собой подрыв веры в демократические процедуры в Америке187.
Если попытаться взглянуть на тогдашнюю ситуацию глазами самого Бахметева, а его воспоминания и в особенности переписка 1917–1930-х годов позволяют это сделать, то вся его деятельность в качестве посла была направлена на то, чтобы предоставить русскому народу возможность выразить свою волю и реализовать присущие ему устремления; Бахметев был убежден, что к ним относятся свобода, демократия, право собственности. Он считал необходимым сохранить целостность государства, создававшегося столетиями. Иностранная помощь, в силу сложившихся обстоятельств, представлялась ему необходимым условием выхода из тупика, в котором оказалась страна. Апеллируя в многочисленных речах, статьях, интервью, меморандумах к американскому общественному мнению или же к конкретным чиновникам администрации с просьбами поддержать демократическую Россию, Бахметев не лукавил. Он действительно верил в эту демократическую Россию, частью которой себя ощущал. Другой вопрос, существовала ли эта Россия в действительности. Полагаю, что, кроме логики, внутренняя убежденность посла оказывала воздействие на американских политиков, не лишенных, как и он, изрядной доли идеализма.
Возможно, наиболее ответственный момент для российской дипломатии наступил после окончания боевых действий и заключения перемирия. На Парижской конференции должны были решаться судьбы мира. Защита интересов России требовала представительства. Однако положение русских дипломатов было крайне двусмысленным; вынеся на своих плечах тяжесть первых трех лет войны и понеся огромные потери, Россия, после прихода к власти большевиков, заключила сепаратный мир и вышла из войны. Можно было сколько угодно рассуждать о том, что большевики не отражали истинных настроений народа, который хотел сражаться дальше, но факт был налицо.
Ни одно из антибольшевистских правительств не было достаточно сильным и долговечным, чтобы его признали правительства союзников; к тому же Колчак и Деникин все еще не могли договориться между собой. Временного правительства, которое представляли некогда послы, уже не существовало. Чтобы как-то выйти из этого двусмысленного положения, Бахметев предложил создать суррогат национального представительства из дипломатов, добавив к нему несколько представителей вновь образованных органов власти в России. Он справедливо предвидел трудности «в обеспечении этому органу решающего голоса» на конференции188. Бахметев настаивал на ускорении процесса формирования представительства ввиду ожидавшегося прибытия в начале декабря президента Вильсона в Париж, опять-таки справедливо полагая, что многое будет решаться на предварительных совещаниях до официального открытия конференции. Он предложил в качестве возможных лидеров делегации генерала М. В. Алексеева и князя Г. Е. Львова. «Эти два имени, олицетворяя собой символ национальной России, организовали бы вокруг себя русское представительство»189.
Маклаков, выразив сомнение в том, что «какой-нибудь суррогат законного представительства мог обеспечить России равноправное участие на конгрессе» (причем возражения он ожидал не только со стороны держав, «но впоследствии и самой России»), тем не менее счел создание «суррогата» необходимым, прежде всего для защиты интересов России на «прелиминарной» стадии конференции. В конечном же счете «судьба России будет зависеть исключительно от успешности ее воссоздания, которое идет медленно». Вопрос о представительстве Маклаков считал настолько важным и трудным, что настаивал на приезде Бахметева в Париж; к тому же он рассчитывал, что послу в Вашингтоне удастся достать деньги для обеспечения работы представительства190. Маклаков, после совещания с приехавшими в Париж Гирсом и Набоковым, телеграфировал Бахметеву, что они поддерживают его план, однако с некоторыми уточнениями: