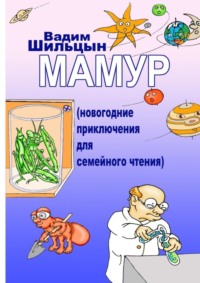Полная версия
Сценарий 19/91. Быль о том, как я потерял страну
Я вернулся к полотну и внутри каждого облака написал красной краской: «Тучка!» – именно так, с восклицательным знаком. Думалось мне, что восклицательный знак остановит высоких персон от употребления ненормативной лексики в отношении произведений искусства.
Конфликт эстетических взглядов на этом должен был исчерпаться, и он исчерпался. Не потому, что министр культуры вернулся на Манежку, оценил мои исправительные работы и сказал: «Эх, Вадим Геннадьевич, прости меня за прямоту суждений. Не прочитал я заложенного в твоём полотне высокого художественного образа. Теперь – другое дело!» – вовсе нет. Попросту сама собой закончилась вчерашняя слава, истощилось внимание высоких персон, иссякло оно как весенний ручей, растворилось как утренний туман, рассосалось как прыщ. Можно было не рисовать ни контуров, ни надписей, ибо вся суета человеческая – тщетна.
008 Ради радости
Чего ради носимся мы по земле и производим всевозможные действия? Неужто, ради одних только гонораров? Без гонораров, конечно, скучновато, но всё-таки, большинство человеческих поступков совершается ради радости. Я к этому выводу пришёл на основании долгих наблюдений. Всякий раз, получив гонорар, ощущал я некоторый аналог сытости. Буквально на физическом уровне – такое чувство, как будто чего-то съел. Как-то спокойно делается внутри, толсто и неповоротливо. Совсем другое дело, когда радость. Её и фиксировать не приходит в голову, и даже не случается отдавать себе отчёта в том, что вот она, радость наступила.
Серый рассвет выплюнул на заснеженную площадь первых людей, и люди эти оказались не кем-нибудь, а артистами театра Балаган. Шли они открывать вагоны, чтобы потом, в течение дня, стоять там, на аттракционах и облапошивать праздничную публику. Появление первых людей вызвало во мне тихую радость, близкую к ощущению родства. По морозному утру приближались через пустую площадь милые сердцу, задорные и скептичные тётки да дядьки – Оленька Заринова с сестрой Наташей, Лёша Решетников и Лёша Кузьминкин, которого все звали – Кузьмич. И Серёга Сёмин, которого все звали Семён, тоже двигался от метро в группе добродушных вагонных шулеров. Был там и Витя Гавриков, царство ему небесное.
Семён с Кузьмичом дружили со школы, были они с одного района и даже из одного класса с нашим директором, Виктором Григоровичем. Такой тогда был костяк «Балагана». Однажды мне подумалось – взять бы, да и назвать улицу в честь их обоих, то есть, в честь Семёна и Кузьмича. Два персонажа срослись бы окончательно в одно. Тогда я сочинил песню, которая ни одного из них не касалась в частности, но вместе с тем была, как бы, от обоих неотделима. Благодаря такому подходу – мне удалось увековечить сразу всё, причём сделать это легко и не навязчиво. Даже странно – почему слова той песни не подхватили краснознамённые ансамбли песни и пляски? Почему роты всяких караулов – не стали под неё маршировать? Почему, в конце концов, наша эстрада не взяла этот текст на вооружение?
Вот ты идёшь по улице Семёна Кузьмича.
Из окон люди падают, отчаянно крича.
Твоя походка лёгкая и камень возбудит.
Ты женщина жестокая, велик твой аппетит!
А за тобой по улице Семёна Кузьмича
бежит толпа влюблённая, чего-то бормоча.
Все смотрят только на тебя и все тебя хотят,
и платят все по три рубля за твой случайный взгляд.
Все женщины на головы надели бигуди,
и ходят только голые, мужьям кричат: «Гляди!»
Мужья не отзываются на громкий этот крик,
и каждый день стреляется из-за тебя мужик.
Я тёмный, знать я не могу – кем был Семён Кузьмич,
но третьи сутки берегу я для тебя кирпич.
Вот завтра с крыши запулю те в бошку кирпичом,
чтоб ты узнала: как шутить с Семёном Кузьмичом.
Семён, Кузьмич, и все остальные подошли ко мне как раз в тот момент, когда я завершал картину маслом, поглядели на тучки, поржали. Кузьмич сочувственно спросил: «Замёрз, поди?» – и вполне органично предложил хлебнуть коньячку. Кто ж на моём месте откажется? Конечно, я хлебнул, после чего так же естественно помог банде открыть вагоны.
Открывать их было непросто. Часть стены полагалось задрать вверх и закрепить, чтобы она исполняла роль навеса. Изнутри вагона извлекались деревянные настилы и лестницы, чтобы публика поднималась на удобную для обмишуливания высоту и оказывалась на уровне прилавков. Это всё надо установить, да закрепить, проявляя сноровку и удаль молодецкую. Девки наводили порядок внутри вагонов, расставляли по полочкам призы, которых никогда никому не выиграть, и другие призы, которые копеечные, которых не жалко.
Накатить коньячку предложили мне и в другой раз, и в третий, после чего радость моя развернулась вовсю, и предложил я нарисовать на внутренней, не оформленной ромбиками стене – Деда Мороза. «Конечно рисуй – согласился Кузьмич – если больше делать нехрен»
Мороз у меня получился страшный! Нос красный, борода и глаза – синие. Других-то красок не было в палитре. Кафтан, тоже красный, к низу уходил в небытиё, от чего Дед немного смахивал на джина, вылетающего из пара, или ещё каким-то образом лишённого ног.
Невозможно было снова не выпить, и тогда я предложил нарисовать Снегурочку. Меня пытались остановить, но как остановишь творца, когда он уже малюет рот? Снегурочка получалась ещё страшней и кровожадней, чем Дед. Огромные губищи заняли пол лица, а вторая половина состояла из синих ресниц. Треугольный кокошник тяжко синел над седыми косами, а ниже бюста, тоже гипертрофированного, мне рисовать стало скучно.
«Давай уже, вали отсюда!» – сказал Кузьмич озабоченно, и я с чувством перевыполненного долга поехал на базу, то есть, в дирекцию парка. Были же времена, когда по московскому метро свободно перемещались пьяные художники, а добрым милиционерам не было до них никакого дела. Разве сравнятся с теми, прежними милиционерами нынешние полицаи? Да и где вы теперь найдёте ту свободу, и даже волю, которая была до победы прогрессивных сил демократического добра?
009 Новые деньги
Директор театра Балаган – Виктор Григорович – всегда умел сформулировать задачу чётко, но притом и душевно. Ощущалось высокое доверие и уважение к уникальным способностям. Он, вроде бы, даже и не произнёс вслух ничего про ответственность, но я почувствовал ответственность из серии – «Кто, если не я?»
«Неделю будем играть твоё шоу на Манежной – сказал Витя озабоченно – но есть проблема. Шоу длится час двадцать, а надо заполнить два часа, с пяти до семи. В общем, надо сделать такую игровую программу, чтобы минут сорок потянуть. Допустим, с пяти до пяти сорока ты на эстраде играешься с народом в загадочки и всякие шарады. В это время ещё полчаса ребята поработают на вагонах, потом за десять минут закроются и выйдут на шоу. Ты спокойно переодеваешься в куклу и уже в кукле прыгаешь вместе со всеми, до конца. То есть, до семи. Потянешь?»
Чего ж не потянуть? Не сказать, чтобы к тому времени я достиг вершин как ведущий игровых программ, но уже имел в скоморошестве положительный с отрицательным опыты, легко мог бы развлекать публику на ровном месте минут двадцать. Полчаса – уже с натугой, а чтобы занять площадь на целых сорок минут – надо готовиться. Оказанное доверие принизить нельзя.
«Под луною песню петь сел на веточку… кто?» – кричу я с помоста. «Медведь!» – радостно отвечает публика, и сама же радуется коллективной посадке в лужу. Оно, вроде бы и в рифму, но смысла-то нет! Какой такой медведь на веточке? Чего он споёт под луной? «Как-то был я в зоопарке, мимо клеток проходил. Вдруг гляжу, сидит на ветке здоровенный…» «Крокодил!» – кричат из народа и снова всем смешно. Однако, чтобы не иссяк интерес к участию в массовой белиберде, надо поощрять особо активных. Для этого придуманы награды в виде леденцов, свистулек и прочих пустышек. Призы для вагонных аттракционов Григорович закупал мешками, но там – совсем другое дело, там за каждый копеечный приз народ берёт билетик по рублю, из чего складывается прибыль, а тут прибыли нету. Сплошная благотворительность. Не жирно ли будет отдавать свистульку только за то, что какой-то хрен раньше других догадался про медведя с крокодилом? Так что, Витя меня честно предупредил: «Призов мы тебе дать не можем. Придумай чего-нибудь»
Ну, я и придумал. Расчертил лист А-4 на равные части, похожие по размерам на деньги, нарисовал там тушью страшные каляки-маляки, отдалённо напоминающие профиль Ильича, и написал красивым почерком: «Новые деньги! Хранить в банках стеклянных, людям не показывать! Подделка не карается, но подвергается осмеянию» – потом я пошёл в кабинет к Тадеушу Константиновичу – директору парка, и там размножил чёрно-белый шедевр на принтере. Осталось только порезать это всё по линиям, да уложить в пачки.
Имея на руках неограниченный запас дурацких бумажек, вышел я в 17.00 на помост. Праздничная площадь встретила артиста морозной пустотой. Редкие люди кучковались вдалеке, рядом с двумя игровыми вагончиками. Других аттракционов на Манежке не было, и вообще ярмарочная движуха не казалась ещё возможной там, в самом сердце СССР. Места эти считались официальными, не для простых людей предназначенными, а потому их строгая пустота выглядела гораздо правильней, чем хаотичное брожение зевак.
Для того, чтобы играться – надо, чтобы с кем играться. Можно, конечно, играться с самим собой, но Витя Григорович выставил меня на эстраду вовсе не в качестве онаниста. Вынув микрофон из стойки, я обратился к далёкой, просаживающей деньги на аттракционах публике: «Эй, народ, беги сюда! Это вам не ерунда! – на этом запасы стихотворных обращений иссякли, и я перешёл на прозу – Сегодня и никогда! Впервые и только здесь! Вы можете силой своей мысли получить новые деньги в неограниченных количествах! Таких денег никогда прежде не было, и никогда больше не будет. В новый год с новыми деньгами!»
Первыми отозвались дети. От группы граждан у вагончиков отделились маленькие фигурки, издалека похожие на задорных гномиков, и побежали через площадь к эстраде. Как я им обрадовался! С детьми жизнь становится осмысленной. Есть – кому загадывать загадки. Дети не обременены жизненным опытом, в который включены такие неминуемые штуки, как смысл, выгода, или рядящееся в скромность высокомерие. Пока их родители косятся на скомороха с умудрённым недоверием, да похихикивают, имея на уме, мол, они себе на уме, дети ретиво отзываются на вопросы, хором кричат кричалки, быстро смекают, как взяться за руки, чтобы встать в хоровод. С детьми просто. Да им и призов-то не особо надо, хотя раздача призов превращается в некий ритуал, похожий на вручение орденов: «Ай, да какой ты внимательный! Тебя не проведёшь! Как тебя зовут? Петя! На тебе, Петя, игровую деньгу. Если наберёшь таких десять штук, то можешь бесплатно сыграть вон на тех аттракционах…»
Взрослые дяди и тёти, увидав, как мелкий пацан получил бумажку, думают про себя: «Я-то чего теряюсь?» – и включаются в игры, и на очередную загадку с эстрады: «На небе свет зари потух. Крадётся царь зверей…» – громко орут: «Петух!» В жёсткой конкуренции выигрывают они по две, а иногда и по три бумажки.
Конечно, с аттракционами я предварительно договорился, то есть, подошёл к Кузьмичу и спросил: «Не будешь возражать, если я направлю к тебе победителей?» Кузьмич недоверчиво уточнил: «Это в каком смысле?» Я разъяснил: «Ну, если припрётся ребёночек, который выиграл у меня десять штук денег, то ты за это дашь ему сыграть на аттракционе» Кузьмич засомневался активней: «Ну вот ещё! С чего это бесплатно играть?» Я смягчил перспективы: «Наверное, вряд ли такие появятся, но это я на всякий случай спросил…» «Нехрен! – отрезал Кузьмич – Пускай покупают билет и играют» «Тогда пойдём другим путём – выдвинул я инициативу – ты после игровой приносишь мне десять штук моих денег, а я за это покупаю билет. Так нормально?» «Ага – смекнул Кузьмич – но игра уже проведена?» «Ну, да. Выиграет он у тебя свистульку, или ещё чего-нибудь» «На баскетболе вообще ничего не выиграет» – заметил Кузьмич.
Наверное, по типу такой же договорённости скроена и система социального мироустройства. Любой человек может увлечённо заниматься чем угодно до той поры, пока не вздумает измерять результаты какими-то деньгами. И ведь, никто не скажет ему: «Не отвлекайся, дурень, получай радость от хороводиков и кричалок! Зачем навешивать дополнительные смыслы на то, что ценно само по себе? Ну, предложат тебе деньги в качестве призов, начнёшь ты их копить, потеряешь радость непосредственного бытия, а потом все эти деньги так и просрёшь. Неминуемо просрёшь, поскольку ничего другого не предполагается, даже если деньги настоящие, золотые там, или серебряные»
Раздавал я чёрно-белые бумажки, загадывал загадки и руководил танцами, как вдруг появились прямо под сценой, в непосредственной близости от меня – двое бомжей. Как их сюда занесло? Такие запущенные люди только начинали формироваться в виде явления, вместе с другими достижениями перестройки, но формировались они совсем на других площадях, к примеру, в районе трёх вокзалов, а не в центре. И вот, встали эти двое под сценой и орут на меня. Я даже не сразу понял – чего орут, чего им надо? Когда же различил в хриплых звуках слова, то чуть не забыл про основную публику. Бомжи вопили, перекрикивая танцевальную фонограмму, и друг дружку: «Дай деньги! Дай новые деньги! Дай нам новые деньги!» – вот так вот, дай и всё тут. Другие усираются, прыгают сильней других, вырывают удачу из детских ручонок, создают всеобщую праздничность, а этим – дай запросто так, ни с того, ни с сего.
Не прошло и месяца, как новые деньги достались всем, кроме тех алчных бомжей. Конечно, страна получила не те деньги, которые я ксерил в дирекции ПКиО им. Ленинского комсомола, а немножко другие, но тоже ненадолго, и тоже не впрок. Вот как это описывают исторические источники: «22 января 1991 г. Президент СССР Михаил Горбачёв подписал Указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублёвых купюр образца 1961 года. Обмен изымаемых купюр сопровождался сильнейшими ограничениями: сжатые сроки обмена – три дня с 23 по 25 января (со среды по пятницу). Не более 1000 рублей на человека – возможность обмена остальных купюр рассматривалась в специальных комиссиях до конца марта 1991 года. Всего обмену подлежало 51,5 миллиарда рублей из 133 миллиардов наличных, или около 39 процентов всей наличной денежной массы. Одновременно была ограничена сумма наличных денег, доступных для снятия в Сберегательном банке СССР – не более 500 рублей… С целью проведения реформы были выпущены новые купюры 50 и 100 рублей образца 1991 года. Купюры образца 1991 года достоинством 1, 3, 5, 10, 200, 500 и 1000 рублей были выпущены позже»
Неужели я мог знать заранее про эту каверзу? Не мог. Ни третьего января, ни четвёртого, ни даже после старого нового, когда по окончании всех плясок, Виктор Григорович впорхнул в мою художественную каморку, размахивая пятидесятирублёвкой, словно гигантская бабочка маленьким крылышком, и сказал: «Вот и гонорарчик!» – даже тогда не мог я знать, что эта купюра через неделю сравняется по ценности с любой из нарисованных мной бумажек. Легкомысленное отношение к собственным пророчествам и славе не отличалось от всех других моих легкомыслий. Положил я купюру на шкаф, да и забыл. Когда началась суета с обменом денег, я тщетно искал её среди множества бумаг. Досадно было, когда она не нашлась вовремя, а ещё досадней, когда нашлась. Летом уже я зачем-то полез на шкаф, и вот вам раритет – деньга, вышедшая из употребления. Полгода назад было богатство, а теперь и нет его.
010 Покорение Москвы
Никаких таких событий с деньгами я предвидеть не мог, когда рулил новогодней публикой на Манежной площади и думал при этом, будто покорил Москву. А то как же? Я выступаю весьма успешно. Григорович – хвалит, публика пляшет, и по всем приметам я – артист. Пусть не в театре и кино, как предполагалось когда-то, но всё равно, в Москве, в самом сердце нашей родины.
И хватит принижать успех. Почему не в театре? Театр Балаган под руководством Виктора Григоровича – был не менее известным в кругах московских администраторов, чем группа «Неужели», которая в те же времена так же промышляла площадными представлениями. Балаган успешно гастролировал по городам России, выступал в парках и на стадионах Москвы. Теперь вот новогоднее шоу на Манежной, в котором я вместе с другими артистами прыгаю то волком, то крысой, то ещё какой-то зверушкой. Ну, чем не успех? Успех кружит голову провинциалам, а я и есть тот самый провинциал. Сам же и насочинял про себя провинциальный гимн:
Мы поедем в Москву – этот день обязательно будет!
Мы поедем туда, где находится сердце страны,
где стоит мавзолей, и живут те достойные люди,
кои жить в этом городе в силу законов должны.
Мы пойдём в магазины и купим всё то, что нам надо.
Мы в театры пойдём и увидим там – что захотим.
По Арбату мы будем гулять и глазеть до упада,
и, конечно же, ВДНХ посетим! Посетим!
Нас оркестрами встретят вокзал и центральная площадь.
Там положено так поступать в светлый день торжества.
Мы, конечно, смутимся, ведь мы-то скромнее и проще,
но мы люди Страны, тебе верной, родная Москва!
Вообще-то я из Пензы, а потому слегка стопорился с ответом всякий раз, когда меня спрашивали – откуда я. С одной стороны, вроде бы, как, живу в Москве, и куда бы ни приехал, везде москвич, но сам-то про себя я знаю, что – пензяк. Двойственность такая длилась довольно долго, прям до конца двадцатого века.
Как и всякий провинциал, я считал важным делом – столицу покорить. Дело не клеилось, но я старался, подскакивал к снаряду с разных сторон. К примеру, однажды написал серию рассказов, как мне тогда казалось, весьма душевных, и понёс их в журнал «Юность». Толстая женщина-редактор приняла у меня девять страниц, распечатанных на машинке «Москва» и всё затихло. Но я настырным был, через две недели снова припёрся туда, в редакцию, на площадь Маяковского, нашёл ту толстую и спросил, дескать – чего?
Тётка сидела боком ко мне за своим рабочим столом, и судя по морде, переживала какую-то личную драму. Рукопись она нашла и брезгливо швырнула в мою сторону, сопроводив желчной отповедью: «Прочитала я это всё! Не знаю, зачем вы это всё принесли. У вас нет языка. Вы понимаете? У вас просто нет языка!» – и она ещё несколько раз повторила – «Нет языка!» – чем ввергла меня в обескураженное настроение.
В чём прокол? – думал я, шкандыбая от редакции до метро – Как нет языка? Что может означать сия фраза? Разве есть какой-то особый язык в той самой сказке про Федота-стрельца, которую катает Балаган, а все самодеятельные коллективы так и норовят поставить тут и там? С точки зрения языка – это сплошная частушка, растянутая на длину сюжета народной сказки «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Однако, «Юность» напечатала сказку Филатова, невзирая даже на то, что это пьеса, то есть, произведение, выпадающее из того формата, в котором журнал работал как до, так и после её публикации. Конечно, формат – одно, а язык – совсем другое.
От путаницы кислого с красным, от невозможности уловить точку опоры для дельных размышлений, от собственной тупости становилось ещё досаднее. Где грань промеж хорошим произведением и чушью? Почему я не вижу той фишки, которая известна той нервной толстухе?
И вот, теперь, когда успех очевиден, сами вопросы, мучительные в своей неразрешимости, оказались пустыми. Женщина-редактор врала, как врут все критики, и вообще, не заинтересованные в чём-либо люди. Не стоит их слушать. Фишка в актуальности запроса. Предугадать – когда, кому и чего приспичит – невозможно, но когда приспичит, человек неминуемо превращается из предмета непотребного и даже досадного, в другой предмет, из которого можно чего-то полезное выковырять. Тут и язык обнаруживается, и чувство юмора, и даже талантище вместе с остальными приблудами, коих, вроде бы, прежде не наблюдалось. В прекрасный этот миг человек может ощутить себя триумфатором. Он забывает о досадных досадах, о неразрешимых вопросах, сколь бы много ни вертелось их прежде. Хрен бы с журналом «Юность» и всеми прочими журналами, с брюзгливыми бабищами, которые строят из себя литературных знатоков, а ведь, сами-то, сами! Хо-хо! Двух слов не свяжут! И не то, чтобы со сцены не свяжут, вслух, а даже на бумагу навалят полупротокольных пустышек типа – «Так сказать, как говорится, короче говоря, хотелось бы спросить…» Единственное поле, доступное их таланту – редакционный стол, а единственное доступное им действие – скрючивание собственной рожи в кукиш. Не заладилось там, и ладно. Москва взята мной с другого, противоположного входа.
Триумфы проходят так же, как и досады. Эмоции не бывают долгими, но рассказ, набитый на машинке и заброшенный в коробку из-под ботинок, продолжает лежать в коробке целую вечность. Через 30 лет обнаружил я те 9 страниц машинописного текста, которые называются – «Два сюжета февральской оттепели». Вот и славно! Самое время – впендюрить их сюда.
011 Два сюжета февральской оттепели
Когда оттепель, кажется, будто наступила весна. Люди перестают кутаться да ёжиться и ходят по улицам не спеша. Знакомые, встретившись случайно, не разбегаются в разные стороны, как прежде, а останавливаются и разговаривают о том – о сём. Откуда-то появляются птицы. Они ходят по земле вместе с людьми, или, вдруг взмывают в небо и улетают бог весть куда. Всё приходит в движение и просыпается жизнь. В такое время трудно усидеть в квартире, или учреждении. Вырвавшись из зимних убежищ и хранилищ, дела людские высвечиваются с самых любопытных сторон, приобретая невероятные оттенки и настроения. То тут, то там, как блики солнца в лужах и ручьях, как неожиданная капель, как смех и музыка из открытой форточки, мимо которой вы проходите, возникают сюжеты. Они живут недолго и исчезают бесследно, как сосульки исчезают с крыш, а мне остаётся только запомнить их, чтобы рассказать вам.
Сюжет первый
Ирина Степановна, несчастная женщина, которой очень сильно не везло в жизни, вошла в троллейбус. Абонементную книжечку она приготовила заранее, ещё стоя на остановке, и, войдя в троллейбус первой, тут же ринулась к компостеру. Ритуал этот был выработан и отлажен самой жизнью, несчастной и беспросветной. Ирине Степановне действительно очень не везло в этой жизни. Да и кому теперь везёт? Запихав абонемент в щель компостера, Ирина Степановна хотела было его прокомпостировать, но троллейбус рванулся с места, и Ирина Степановна промахнулась рукой мимо рычага. «Как мне не везёт!» – наверняка подумала Ирина Степановна, когда промахивалась мимо рычага компостера. Она промахнулась мимо рычага компостера и ударила рукой по голове Игоря Александровича – инженера, молодого специалиста, окончившего недавно высшее учебное заведение.
Игорь Александрович совсем недавно окончил высшее учебное заведение, но был человеком печальным и нервным по причине своей неудачной жизни. Он уже лысел. Ему было уже под тридцать, и ничего хорошего от этой жизни он уже не ожидал. Поэтому он ехал сидя, не обращая внимания ни на инвалидов, ни на пассажиров с детьми, ни на пожилых женщин, ни на молоденьких женщин, ни на кого не обращая внимания. Вообще-то Ирина Степановна была женщиной молоденькой, но это не имеет никакого значения.
Когда Ирина Степановна ударила Игоря Александровича по голове, то Игорь Александрович подумал, наверное: «Боже, как мне не везёт!» – и притворился, что спит, а то, чего доброго, пришлось бы уступать место. Ирина Степановна сначала, было, испугалась, что молодой мужчина, которого она шандарахнула, начнёт возмущаться, но потом увидела, что он как будто спит, и успокоилась. Она даже не стала извиняться, а опять протянула руку к компостеру, чтобы прокомпостировать билет, но тут…
Иногда жизненные совпадения имеют такую явную направленность и назойливость, что кажется, будто действительно существует судьба и в душе рождается даже некоторая наклонность к фатализму. Но люди обычно не замечают руки судьбы, потому, наверное, что не умеют смотреть на происходящее со стороны.
Троллейбус неожиданно дёрнулся в сторону, как раз в то время, когда Ирина Степановна хотела нажать на рычаг компостера. Ирину Степановну бросило назад, она опять промахнулась и ударила Игоря Александровича по голове.
Боже мой! – думаю я, глядя на эту картину – Какая рутина! Какое будничное однообразие посещает человека, когда ему не везёт! Как уйти от этого невезения? Как вырваться из бесконечной цепи неудач и обид? Последнее время я даже начинаю бояться тех людей, которым не везёт.
Кто знает, что было бы на земле, если бы всем людям везло, если бы Игорь Александрович поднял лицо своё, открыл глаза и увидел бы, что на улице оттепель, что в мутных окнах троллейбуса проплывают мимо мокрые деревья, люди шагают по слякотным тротуарам, стены домов разрисованы потёками капели и много чего другого. Он увидел бы Ирину Степановну и, может быть, он тогда догадался бы уступить ей место, и… нет, я вовсе не хочу сказать, что с этого начался бы их роман. Но, может быть, увидев испуганное лицо Ирины Степановны (а Ирина Степановна действительно испугалась немного, ведь, надо же так второй раз садануть человека по голове), Игорь Александрович улыбнулся бы ободряюще, дескать: «Ничего, ничего, со всеми такое случается» – и уступил бы ей место, и билет бы сам за неё прокомпостировал, а может быть, и он тоже промахнулся бы и ударил бы её по голове, а Ирина Степановна спросила бы: «Вы что же это, нарочно меня посадили, чтоб расквитаться?» А Игорь Александрович ответил бы: «Да что вы! Я случайно» – и опять промахнулся бы, и снова ударил бы её по голове. Не сильно, конечно, чтобы не обидеть. Это было бы действительно смешно. Но Игорь Александрович не поднял лица, а только вздохнул про себя со стоном и продолжал сидеть как сидел, с закрытыми глазами.