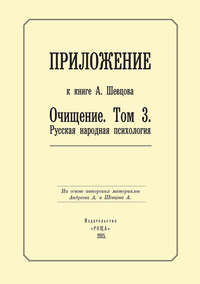полная версия
полная версияВ этой сказке… Сборник статей
Орфизм, как известно, разносился бродячими проповедниками. Значит, этой средой и были бродячие проповедники, которых принимали как в домах богачей, так и бедняков. И слушали рабы, женщины, дети. Эта среда и разносила сказку о том, как преодолеть свое тело, победив духом, от Индии до Иберии и от Египта, до Дуная, как народный орфизм.
Все это лишь догадки, сказки, а сказка – ложь. Но в ней намек…
Однако у моей догадки есть важнейшее подтверждение. Это полное соответствие волшебной сказки мифу об Орфее. Этот миф, безусловно, являющийся инициационным, в совершенстве укладывается в обязательные шаги, которые должен пройти герой сказки по В. Я. Проппу. За исключением последнего – благополучной женитьбы и воцарения.
Именно путешествие в нижний мир, в царство 90 смерти, является сутью обряда инициации во всех культурах. Путешествие в нижний мир – это испытание, которое должен пройти герой, чтобы умереть и возродиться иным. Для индоевропейцев это действие, ведущее к тому, чтобы стать дважды рожденным.
Нигде в мифе не говорится, что Орфей умер, спустившись в Аид, но и в сказках это редко говорится о герое. Он просто идет в иной мир, который, по сути, есть мир мертвых. Поэтому он должен вкусить пищи того мира, доказав, что он свой. А затем, пройдя все испытания и обретя чудесные способности, герой возвращается в свой мир и принимается в члены общества, получая право вступить в брак. Этим правом Орфей пренебрег, за что и был наказан обманутыми возможными женами.
Поэтому инициация всегда ведется так, чтобы мальчики, проходящие ее, победили и стали мужчинами и полноправными членами общины. Свадьба сказки – это черта не мифа. И ни один миф не мог иметь этой черты как закономерного завершения испытаний. Это именно черты преодоления мифа сказкой.
Сказка очень строга в жанровом отношении, она не просто рассказ, она содержит в себе 31 обязательный шаг, который должен проделать герой. И только при их наличии повесть становится сказкой.
31 шаг сводим к семи основным, которые выводит Пропп из сопоставления множества волшебных сказок. Они являются той обязательной основой сказки, которую должен знать любой сказочник. И это принципиально.
Сейчас многие пишут авторскую сказку, иногда это получается занимательно, чаще скучно. Но очень редко авторская сказка становится сказкой! В действительности то, что называют авторской сказкой, по преимуществу – вид рассказа или повести, в которых присутствуют элементы фантастики. Даже сказочной фантастики.
Чтобы писатель смог написать действительную волшебную сказку, он должен не просто понимать, из чего состоит сказка, как жанр, но видеть мир глазами человека, погруженного в основной миф сказки. Со сказкой так же сложно в литературе, как с трагедией. Лишь дважды за историю человечества трагедия смогла родиться: в пятом веке до нашей эры у Софокла, Эврипида и Эсхила, и в 16 веке у Шекспира. Чтобы писать трагедию, нужно обладать видением рока!
Все остальное – драма!
Вот и сказки пишут многие, но сказка приходит к тому, кто наделен чувством, видением мифа и верой в то, что герой обязательно победит, потому что он способен себя изменить.
Искусство сказывания сказок
Сейчас мы непроизвольно говорим: прочитать сказку. Даже когда мы рассказываем сказки детям, мы сказки им читаем. Культура чтения сказок – довольно новое явление, возникшее в конце восемнадцатого века и утвердившееся лишь в веке двадцатом. И если читать волшебную сказку себе еще допустимо, то читать ее детям неверно, потому что при этом теряется какая-то важнейшая часть того сложного явления, которое называлось волшебной сказкой.
Во всяком случае, так было, пока сказка еще была живым явлением русской культуры и грамотность не стала всеобщей. Очевидно, что в новом мире, где все умеют читать, сказка сначала стала явлением читающей культуры, а сейчас превращается в явление виртуальной культуры, где в нее надо играть, проживая как собственное приключение.
В этом смысле, мы наблюдаем замыкание витка спирали нашей культуры, возвратившем молодежную инициацию на новом уровне. Но в этой статье я говорю о том, как жила волшебная сказка в культуре устного сказывания.
Волшебная сказка предназначалась для сказывания. Причем, сказывать ее должен мудрый человек человеку молодому, юному, даже ребенку. То есть человеку, вступающему в новый и неведомый ему мир, в котором его поджидают не только опасности, но и выборы. Выборы путей к целям, которые уже есть в мире.
Мир определяет нам, что является ценностями, за которые стоит бороться. Но при этом он всегда содержит несколько путей к этим целям, хотя не все эти пути очевидны и даже видны. Но от того, какими путями ты избираешь добиваться этих ценностей, зависит не только твоя нравственность, но и само устройство общества. Общество, в которое собрались люди, предпочитающие определенные пути, отличается от всех прочих обществ.
Поэтому сказка не просто ставит ребенка, проживающего ее приключения, перед выбором. Нет, она не дает свободного выбора, она требует, чтобы ребенок избрал вполне определенный путь, который и считается человеческим. Более того, сказка не только требует избрать действовать как человек, она закрепляет этот выбор, переводя в измененное состояние сознания. Иными словами, это очень глубинный выбор.
Что это за измененное состояние? Думается, в точности такое же, как и при молодежных инициациях. Только ослабленное, разнесенное на множество легких воздействий, поскольку они оказываются в течении множества прослушиваний сказки, а не за один обряд. Иначе говоря, воздействие сказки воспринимается сознанием не через проживание, а через переживание или даже сопереживание герою.
Какое воздействие оказывалось при прохождении инициации? В. Я. Пропп в «Исторических корнях волшебной сказки» на материале этнографии показывает, что именно оно стало важнейшей частью всех волшебных сказок:
«Обряд всегда совершался в глубине леса или кустарника, в строгой тайне. Обряд сопровождался телесными истязаниями и повреждениями (отрубаниями пальца, выбиванием некоторых зубов и др.). Другая форма временной смерти выражалась в том, что мальчика символически сжигали, варили, жарили, нарубали на куски и вновь воскрешали.
Воскресший получал новое имя, на кожу наносились клейма и другие знаки пройденного обряда. Мальчик проходил более или менее длительную и строгую школу. Его обучали приемам охоты, ему сообщались тайны религиозного характера, исторические сведения, правила и требования быта и т. д. Он проходил школу охотника и члена общества, школу плясок, песен и всего, что казалось необходимым в жизни» (Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – СПб.: изд. СПБУ, 1996, с. 56).
Мы видим, что пережить такое было бы не просто. Никакие экстремальные виды современных развлечений не дают всего комплекса ощущений и переживаний, которые испытывал проходивший инициацию в традиционном обществе родового строя. А Пропп вполне доказательно утверждает, что именно это описывается в волшебной сказке. Значит, мы можем видеть сказку ослабленным обрядом инициации, дающим школу всего того, что «казалось необходимым в жизни».
В сущности, это обряд второго рождения, то есть перерождения в иное по сравнению с исходным, биологическим состоянием.
«Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Такова социальная функция этого обряда. Формы его различны, и на них мы еще остановимся в связи с материалом сказки.
Формы эти определяются мыслительной основой обряда. Предполагалось, что мальчик во время обряда умирал, а затем вновь воскресал уже новым человеком» (т. ж.).
Высказав мысль, что формы сказки, то есть способы воздействия, определяются мыслительной основой обряда, Пропп вплотную подошел к наблюдению, которое в 1929 году сделал Андре Иоллес, подметивший, что главное отличие сказки от мифа в том, что в сказке все так, как должно быть. Иначе говоря, сказка всегда соответствует нашим ожиданиям, ожиданиям слушающего.
Но Пропп, хотя и много думал о психологии сказки, пошел в своем исследовании другим путем, который он считал психологическим. На деле этот путь был впоследствии признан структуралистским, хотя сам Пропп к структурализму себя не относил. Он говорит о морфологии, как о науке о формах, а то, что определяет наши поступки, он называет функциями. Функциям соответствуют формы.
«Отметая все местные, вторичные образования, оставив только основные формы, мы получим ту сказку, по отношению к которой все волшебные сказки являются вариантами» (Пропп В. Я. Морфология сказки. – Л.: ACADEMIA, 1928, с. 98).
Именно изучение этой Первосказки, или Основы всех волшебных сказок, приводит Проппа к утверждению:
«С точки зрения исторической это означает, что волшебная сказка в своих морфологических основах представляет собою миф» (т. ж., с.100).
Такое утверждение с неизбежностью ставит нас перед вопросом: а какой именно миф? Современные исследователи сказки, безусловно, признают, что сказки могут содержать в себе куски различных мифов, но Пропп ведь говорит не об этом, а о том, что сама по себе Первосказка есть переложение некоего вполне определенного мифа.
Впоследствии Пропп не будет столь категоричен, и в «Исторических корнях…» он всего лишь исходит из задачи «привлечь миф как один из возможных источников сказки» (Исторические корни…, с. 27). Но в «Морфологии сказки» он находится под очарованием поразившей его воображение гипотезы, и потому делает смелые предположения:
«Но все-таки хочется поставить вопрос: если все волшебные сказки так единообразны по своей форме, то не значит ли это, что все они происходят из одного источника?» (Морфология сказки, с. 116).
Это положение он уточняет:
«Единый источник» не означает непременно, что сказки пришли, напр., из Индии и распространились отсюда по всему миру, приняв при странствии своем различные формы, как это допускают некоторые.
Единый источник может быть и психологическим» (т. ж.).
Однако психология не была его коньком, да и понимал он ее в духе исторической психологии Вундта. Поэтому окончательным ответом становится все же некий миф. И миф вполне определенный:
«Таким образом можно предположить, что одна из первых основ композиции сказки, а именно странствование отражает собой представления о странствовании души в загробном мире» (т. ж., с. 117).
Это утверждение вплотную подводит нас к изысканиям петербургского мифолога Александра Зайцева, который связывал происхождение сказки с орфизмом. Причем, как географически, поскольку ореол распространения сказки совпадает с ореолом распространения орфизма, так и содержательно. Но с поправкой на соображения Иоллеса.
Миф об Орфее, как и сказка об «Амуре и Психее», – это миф о странствовании души в загробном мире, но миф кончается плохо, а сказка – так, как должно быть.
Пропп еще не понимал этой разницы между сказкой и мифом. Поэтому в «Исторических корнях…» он пишет:
«Миф не может быть отличаем от сказки формально. Сказка и миф (в особенности мифы доклассовых народов) иногда настолько полно могут совпадать между собой, что в этнографии и фольклористике такие мифы часто называются сказками» (Ист. корни… с. 27).
Совершенно не важно, как этнографы и фольклористы путаются в понятиях. Важно лишь то, что если рассказ не ведется так, как должно быть, это миф, но не сказка. Если в сказке не будет заложено нужное воздействие, она перестает быть тем уроком, которым воспитывали молодежь в традиционном обществе, она перестает быть школой, которая дает то, что казалось необходимым в жизни…
Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок! Вот та основа, которая на сегодняшний день кажется бесспорной в отношении изучения сказки.
Дальше появляется вопрос: как сказка доносит свой урок до слушателя, как осуществляется воздействие, которое переводит слушателя в измененное состояние сознания и заставляет его сопереживать злоключения и победы героя, как свои собственные, благодаря чему и меняется нечто внутри нас? Вероятно, душа совершает выборы и мудреет, впитывая мудрость старших.
Тут я вступаю в область гипотез. И первая из этих гипотез вполне проста: сказка возникает, согласно исследованиям А. Зайцева, во времена орфизма, то есть позже мифов, и даже позже эпоса Гомера. Но в основе сказки лежит миф о путешествиях души, предельно сходный с мифом об Орфее.
Однако сказка свободно использует осколки любых других мифов, включая их в тело своего повествования. Поэтому мифологическая основа сказки гораздо древнее орфизма. Она ровесница молодежных инициаций, а это значит, ровесница всех мифов вообще, поскольку мы не можем точно определить ни время возникновения мифов, ни время возникновения инициаций.
Но если сами основы сказки возникали гораздо раньше 7–6 веков до нашей эры, то мы можем говорить не только об ареале распространения сказки, но и об ареале распространения мышления, необходимого для возникновения волшебной сказки. Иначе говоря, если предположение о мифической основе сказки верно, то мы должны обнаружить ее предпосылки в культуре индоевропейцев.
Понятно, что следы этой культуры удается разглядеть только с помощью сопоставительных исследований гораздо более поздних текстов, чем время существования индоевропейской общности, однако следы эти просматриваются. Поскольку меня интересует в данном случае именно сказывание сказок, то я воспользуюсь подсказкой, сделанной французским санскритологом Шарлем Маламудом в 1975 году в работе «Испечь мир». Точнее, в главе, посвященной риторике древнеиндийских текстов, вроде «Махабхараты», которую он сравнивает с одним изречением Монтескье.
Что важно в этом сравнении: европеец наращивает воздействие от первого высказывания к четвертому, древний индиец дает три шага усиления, а в четвертом вдруг переходит совсем в другую плоскость рассмотрения, совершая качественный скачок. Все как в сказке: герой бьется три раза со змеями, у которых от боя к бою прибывает количество голов. И только после этого вступает в главную битву своей жизни – женится.
Вот эту риторическую фигуру речи 3+1 и рассматривает Маламуд как особенность мышления творцов ведической культуры. При этом он сам говорит:
«Тексты, которые легче всего анализировать в терминах последовательности или перечня событий, чаще всего являются сказками…, или текстами, описывающими развертывание ритуала или его определенной части, например, «три шага Вишну, плюс еще один шаг, который жертвующий должен сделать в конце ведийского жертвоприношения» (Маламуд Ш. Испечь мир. Ритуал и мысль в Древней Индии. – М.: Вост. лит-ра, 2005, с. 166).
О чем речь? Монтескье говорит:
«Если бы я знал что-то, что полезно для меня, но вредно для моей семьи, я бы выбросил это из головы.
Если бы я знал что-то, что полезно для моей семьи, но не для моей родины, я постарался бы это забыть. Если бы я знал что-то, что полезно для моей родины, но вредно для Европы или же полезно для Европы, но вредно для рода человеческого, я бы рассматривал это как преступление» (Цит. по Маламуд, указ. соч., с. 164).
Это молодость Нового Света, эпоха рационализма. Европеец только учится рассуждать в рамках научной картины мира. Но вот как рассуждала древность.
Махабхарата:
«…для [сохранения] семьи нужно [уметь] отказаться от человека; для [сохранения] деревни – от семьи; для [сохранения] страны – от деревни: для сохранения собственного Я – от [всей] земли» (т. ж.).
Перевод не слишком удачен, потому что в Махабхарате стоит не Я, а Атман. То есть твой же Дух, который един с тем Атманом, что есть Дух мира. Это суть всех йог, всего духовного роста: в конце всех усилий должен произойти скачок качественного изменения, про который скажут: «Ты достиг!» Это и есть временная смерть и появление дваждырожденного.
С точки зрения молодежной инициации необходимо сопоставить первые строки и последние: для сохранения семьи и деревни нужно отказаться от человека, вернее, нужно заставить проходящего инициацию потерять себя, то есть умереть, отказавшись и от себя и от семьи. Из антропологии известно, что мальчики во время посвящений отторгались от семьи, переставая принадлежать ей. Но в итоге они обретали право завести собственную семью.
А вот с точки зрения сказки надо сопоставить последнее: ради сохранения Атмана надо отказаться от всей земли, и тогда ты обретаешь свою землю, потому что становишься Царем…
Как можно донести эту мысль до сознания человека, который не привык думать глубоко? Или, говоря современно, как можно донести такую большую мысль до людей короткой мысли, до людей клипового мышления?
Нужны какие-то приемы. И Маламуд раскрывает это прием через присутствующее в приведенном изречении сочетание 3+1: три понятных шага, творящих мир, и добавленный к ним шаг преодоления, четвертый шаг. Издававшая книгу Маламуда с названием «Испечь мир» Виктория Лысенко сделала важное замечание:
«Испечь мир» – это перевод санскритского словосочетания локапакти (lokapakti, буквально – выпечка мира). Русский глагол «печь» по своему фонетическому облику больше напоминает санскритский корень «пач» (PAC), от которого образовано существительное пакти, чем французские cuire, поэтому в переводе на русский название книги Шарля Маламуда даже ближе своему индоевропейскому первоисточнику…» (Лысенко В. Шарль Маламуд и его антропология // Маламуд Ш. Испечь мир, с. 7).
Вот так же и четвертый шаг этой фигуры речи легче понять по-русски, чем по-французски, потому что на санскрите четвертый, четверка звучит почти так же: чатуртха. Но мы утратили понимание, что первый слог – чеили ча-, как это звучит в некоторых областных говорах, самостоятелен, как и второй: тверка, твертый, то есть твер. А вот санскрит это еще помнил:
«Сам санскрит как язык… свидетельствует о двух таких способах рассмотрения «четвертого»: ведийский санскрит располагает фактически двумя формами этого порядкового числительного: чатуртха (caturtha) и турия (turiya)…
…в поздних ведийских текстах, где эти формы сосуществуют, чатуртха предпочтительно применяется к четвертому члену… в серии линейного типа, тогда как турия, или ее вариант турья (turya) – к «четвертому», когда оно является тем +1, которое дополняет серию из трех членов…» (Маламуд, с. 167).
Понятие турьи зарождается еще в ведийской культуре, но сохраняется и в отрицании Вед Ведантой. Там турья – четвертое, чистое состояние сознания, в сущности, приравниваемое к йогической самадхи. Об этом пишет и Маламуд:
«С другой стороны, …прилагательное турия начиная с упанишад является одним из способов обозначения Абсолюта: за бодрствованием (jagaritasthana), сном со сновидениями (svapna) и сном без сновидений (susupti) следует и вместе с тем им противостоит радикально отличное состояние сознания, которое тождественно брахману (другое имя Абсолюта): оно неопределимо и не имеет никакого другого имени, кроме этого порядкового числительного» (т. ж.).
На самом деле другое имя есть, и любой желающий может найти в текстах индуизма, что Абсолютом является Атман, который одновременно и мое Я, и высшая духовная сущность, проникшая в меня.
Однако меня сейчас занимают не теологические сложности, а сложности речи при сказывании сказки. И тут этот экскурс в ведийское мировоззрение дает неожиданную подсказку.
Маламуд сравнивает это состояние сознания с устройством ведийского общества, состоящего из трех варн дваждырожденных и четвертой варны шудр, являющихся полностью неопределенными сущностями в отношении общества. Так же и Веды делятся на четыре, причем первые три составляют трайя-видья – «тройное знание», а четвертая – «Атхарваведа» выпадает из числа настоящих Вед, хотя идущие ее путем прославляют ее больше других.
Это же относится и к космическому Пуруше, и к речи: «…речь, вак (vak), состоит из трех частей, недоступных человеку, и четвертой – человеческой речи» (т. ж., с. 168). Так же и юная дева является последовательно супругой трех божеств – Агни, Сомы и Гандхарвы, и лишь в четвертую очередь становится супругой мужа-человека, вроде прошедшего инициацию юноши.
Но в отношении той речи, что оказывает воздействие и переводит в измененное состояние при проведении обряда или сказывании сказки, важнее следующее наблюдение:
«Прямо противоположный порядок: за тремя первыми частями, воспринимаемыми и конечными, следует четвертая, символизирующая прорыв в бесконечность: ведийская строфа, называемая гаятри, состоит из трех стихов (буквально, из трех «четвертей», пада), но упоминают лишь четвертую паду, которая «сияет по ту сторону атмосферы (воздушного пространства – АШ)».
Существуют три мира и существует не-мир; три священных слова плюс молчание» (т. ж. с. 168).
Три священных слова рассказывают о трех битвах героя, но воздействие оказывает молчание!
Именно его проглядели исследователи сказки, потому что читали сказки в записи и не слышали в детстве. Даже когда этнограф или фольклорист записывает сказку у сказителя, он занят тем, чтобы точно передать текст, но он не пытается понять, что делает сказитель с помощью сказки. Да и как это понять, ведь ученый – не ребенок, чтобы позволить сказителю оказывать воздействие на себя!
Но сказки без воздействия не существует! Значит, не существует и сказки без молчания!
Чтобы услышать молчание сказки, надо стать немного ребенком и попытаться в самом деле понять, что же хочет сказать сказка. И внезапно ты начинаешь слышать, что главное не в первой битве и не в последней, и не в количестве отрубленных у змеев голов, главное в том молчаливом воздействии, которое звучит громче слов вопросом: ты понимаешь меня, дружок? Ты ведь вправду все понимаешь?
Сказка как измененное состояние сознания
Сказки различаются.
Когда вы берете сборник народных сказок, то находите в нем множество разных записей, не все из которых можно считать действительной сказкой. Когда Афанасьев собирает свое собрание сказок по материалам РГО, он делит их на разные виды. Там есть сказки о животных, сказки-анекдоты и прочее. Все эти разные вещи названы сказками, но вслед за исследователями, вроде В. Я. Проппа, мы считаем настоящей сказкой лишь волшебную сказку.
Волшебная сказка обладает определенной структурой, в ней должны присутствовать обязательные шаги, описанные Проппом в «Морфологии волшебной сказки» в 1928 году. Однако есть еще одна черта, которую не заметил Пропп. Она была подмечена голландским исследователем Андре Иоллесом в 1929 году в работе с названием «Простые формы». В настоящей сказке все происходит так, КАК НАДО, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
Мы все с вами непроизвольно чувствуем и ожидаем этого, глядя сегодня американское кино. Все оно делается по сценарным разработкам, построенным на теории сказки, созданной Проппом, но при этом обязательно учитывает находку Иоллеса. И поэтому, глядя фильм, мы знаем, что добро победит, зло будет наказано, и очень плохо, если злой герой все-таки победит, как в соцреализме. Это неправильно!
Должно быть так, как мы внутренне ожидаем и хотим. Это психологическое наблюдение очень важно для того, чтобы распознавать сказку…
Но и этим не исчерпываются те черты, по которым мы отличаем сказку от не сказки.
Я не просто разделяю мнение петербургского филолога Александра Зайцева о том, что волшебная сказка возникает примерно в 7–6 веках до н. э., в то время, которое называлось осевым, когда пришли все мировые учителя… Я считаю, что создавалась сказка не как литературный жанр, а как все мировые религии, одним из таких великих учителей. Я предполагаю, что Орфеем. Почему?
Исторические соображения о том, что ареалы распространения орфизма и сказки совпадают, и о том, что сказка, подобно христианству, переняла из орфизма многие черты, я высказывал в другой статье. В этой я хочу обратить внимание на следующее психологическое наблюдение.
Стоит сказке зазвучать, и мы знаем, что все будет, КАК НАДО, и готовы расстроиться, если нас этой награды лишат. Мы словно переводимся в особое состояние сознания, в котором готовы сопереживать герою, проходить вместе с ним испытания, пребывать в ужасе, но усиливать надежду и веру в самих себя. Сказка не просто написана так, что в финале добро побеждает. Она сразу ввергает нас в мощное сопереживание герою. Причем, мы всегда знаем, что сопереживание ему и есть сопереживание добру.
Это воздействие не описывалось исследователями. Но оно очевидно, причем, оно обладает удивительной силой захватывать наши души, удерживая их в трепете и в то же время в состоянии ученичества. Сказка родилась как орудие воспитания задолго до того, как греческая пайдейя была осмыслена теоретически. Но греки осмыслили как пайдейю даже медицину, о чем писал еще Вернер Йегер в своей «Пайдейе». Не говоря уж о театре.