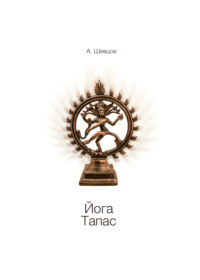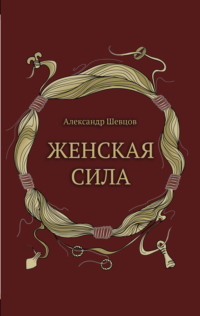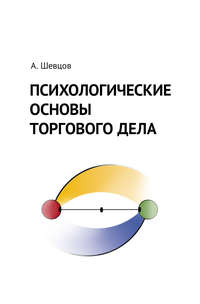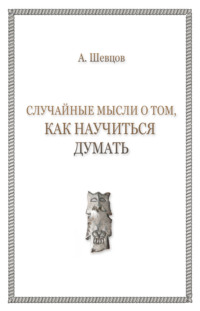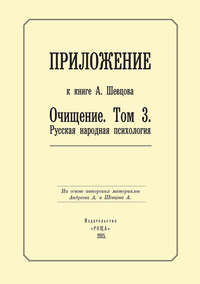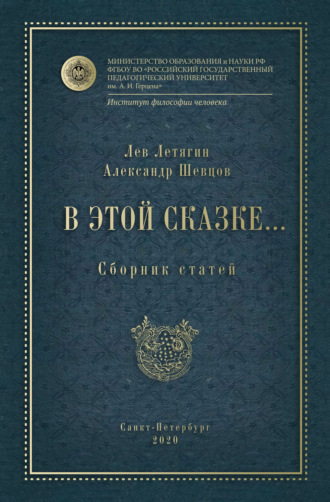 полная версия
полная версияВ этой сказке… Сборник статей
Даже наоборот: включение в игру позволяет прививать ребенку те качества, которые потребует от него жизнь, не навязывая их, не принуждая явно, а подсказывая исподволь, вводя в сознание ребенка как его собственный необходимый выбор того, как он должен жить и каким ему нужно стать, чтобы быть успешным в этом новом мире.
В сущности, статьи Элькониновой, когда она начинала размышлять самостоятельно, а не пересказывать предшественников, вели именно к этому. Как она писала в статье «Знаковое опосредование, волшебная сказка и субъективность действия»:
«Его субъективность выражается в принятии на себя труда и решения задачи, заботы и работы по выполнению действия» (Эльконинова Л. И. Знаковое опосредование, волшебная сказка и субъективность действия // Психология игры и сказки. Хрестоматия. – М.: АНО «Пс. эл. библ., 2008, с. 17).
Если мы вдумаемся, это и есть самая суть той «терапии», которую может проводить сказкотерапевт.
Иными словами, помогая ребенку создать воображаемый мир, психолог или родитель, играющий с ним «в сказку», ставит его в положение, в котором ребенок должен принять на себя ответственность за решения и действия. Даже если действовать будет его волшебный помощник, все же толчок этому должен задать герой сказки. Или герой игры в сказку.
Это так же, как с самодвижущимся источником, который несет душа. Без души тело недвижно, оно просто кусок плоти. Но появляется душа, и рождается движение и действие. Но для этого душа должна быть! Ребенок должен рассматриваться не только биологическим субстратом нервной деятельности, для сказки нужна душа!
И ее не пробудить в ребенке, если управлять им снаружи, как рефлекторным автоматом. Душа просыпается, когда где-то внутри зарождается потребность действовать и отвечать за свои решения и действия. Это нужно внести в самую глубину маленького человечка с помощью хирургического инструмента, именуемого сказкой или игрой в сказку.
Таким образом, играя с ребенком в воображаемые миры, воспитатель нацелен на то, чтобы из биологической особи ребенок превратился в человека.
А это значит, что цель сказкотерапии все же весьма и весьма терапевтическая: настоящая сказкотерапия излечивает тех, кто рожден как тело, но не имеет души. Она будит в детях их души, и выше лечения, чем это, не существует! Причем, делает это независимо от намерений сказкотерапевта и даже вопреки им, если только он для достижения поставленных целей, вроде развития каких-либо навыков или способностей, пытается построить сказочную игру.
Можно ли использовать сказку дома?
Сказку просто необходимо использовать, дети должны слушать сказки каждый день, чтобы засыпать с образами, пришедшими из сказки. Так их души обретают душевность.
Можно ли использовать сказку как-то иначе? Вот этот вопрос сложнее. Все зависит от человека, который собрался это делать, от его чутья. И тут необходимо определиться с тем, что понимать под сказкой и под ее использованием.
Сказка как жанр создавалась для сказывания о путешествиях души. И это очень точный инструмент. Его легко испортить. Иначе говоря, если вы используете сказку не точно, не как разговор о душе и ее мире, она перестает быть сказкой, даже если вы так называете то, что рассказываете. Вреда от этого немного, но и польза будет не та.
Однако это не плохо. Все, что построено по образцу сказки, работает на ту цель, которую ставил перед собой тот, кто сказывает. Можно, как это делали советские педагоги, подать как сказку привитие навыков пионера, и навыки будут прививаться. Вот душа при этом останется, как у строителя социализма.
Если только вы не хотели оказать именно то воздействие, которое оказывает ваша работа с ребенком, то сказка тут неуместна. Вы можете создавать игры, вы можете рассказывать ребенку поучительные истории или показывать мультфильмы, но не называйте это сказками, чтобы не обманывать его.
Какое воздействие может оказать настоящая сказка, понимают не многие. А вот какое воздействие они хотят оказать на детей, люди знают гораздо лучше.
Для желательного воздействия может подойти любой фантазийный рассказ, любая игра или притча. Сказка слишком громоздка, чтобы оказывать малые воздействия. Она рассчитана на то, чтобы менять душу целиком, создавая Человека с большой буквы.
Нужно ли это вам? Нужно ли тратить столько сил и времени, сколько вкладывали древние в свои инициации? А сказка – это именно следы инициаций, то есть посвящений детей во взрослых членов общества. Но того общества, которое еще не отказалось от души.
У каждого родителя есть какой-то жизненный опыт, в силу которого он чувствует себя всецело умнее своего ребенка. Кроме того, просто по праву старшинства и родительства, он ощущает власть над ребенком, а потому тот должен быть таким, каким хочет видеть его родитель. По крайней мере, родитель постарается этого добиться.
Что в итоге? То, что вы и наблюдаете вокруг. Все умные, добрые, заботливые? Тогда откуда столько ненависти в социальных сетях, в чатах ваших детей, в школе? В общем, что вложили, то и имеем. При этом любой писатель знает, как написать сказку для детей, любой психолог – как создать для них развивающую игру, а любой воспитатель – что прививать как воспитание. Да и учителя хорошо знают, чему учить детей. Вот только сердятся, когда дети учатся не у них, а в гаджетах.
Если мы хотим иметь уют в семье и хорошие отношения с ребенком, достаточно просто любить его и пытаться понять, чем он живет. Если вы это понимаете, совсем не сложно придумать «сказку» или сказочную игру, которая помогает ребенку преодолеть страхи, развивать какие-то личные качества, даже понять, к какой цели стремиться, и какие способности ему понадобятся, чтобы победить.
К сожалению, мы даже такое усилие делаем неохотно. Мы хотим жить сами и не хотим вкладываться в детей. Это потому, что мы больше не боимся будущего. Мы знаем, что можем погибнуть лично, но не исчезнем как вид, племя или община. Человечество выживет в любом случае, а потому можно о нем не думать, а заниматься собой.
Дети – будущее человечества, к тому же, их слишком много. Значит, всегда можно будет найти достаточное число нужных людей на каждое освобождающееся место.
Выживание ребенка больше не дело общества, это его личное дело, что ярко видно в России. Хуже того: общество резко разделилось на верхний и нижний мир. Мест в Верхнем мире мало, и постоянно идет борьба за то, чтобы выдавить оттуда лишних из числа уже поднявшихся. Поэтому впускать туда новичков никто не заинтересован.
С одной стороны, попасть в верхний мир прямо соответствует тому, что описывает сказка, как битву героя за то, чтобы стать царем. С другой, герою древности об этом говорили, как о его задаче, а вот современному ребенку мало кто скажет, потому что общество утратило эту культуру.
Если мы хотим использовать сказку в жизни, мы должны осознать, что есть сказка о том, как стать царем, по сравнению с твоим сегодняшним состоянием. И что значит, стать царем в сегодняшнем мире. А для этого тебе мало быть добрым или вежливым, тебе, как учит сказка, надо стать охотником за силой, преодолеть множество препятствий и раскрыть особые способности. Какие? Зависит от пути вверх, который ты изберешь.
Сказка о том, как добиться царского положения в мире, где тебя никто не ждет. Просто потому, что ты имеешь для этого внутреннюю силу. Сказки сказкотерапии, как советские мультфильмы про подлого труса Кота Леопольда, направлены на развитие способностей, удобных для тех, кто сверху, и не мешающих уживаться с теми, кто внизу. Так же и большинство тех историй, что придумывают психологи.
Мы непроизвольно принимаем их как культуру, которую и должны транслировать детям. Мы учим детей, как выживать и уживаться. А сказка учила, как побеждать, раскрывая свои способности. И если нужно – особые, чудесные! Сказка рождается во времена героического эпоса и по своей сути является героическим жанром. Человек, впитавший в себя сказочное мировоззрение с детства, был неудобен советской педагогике именно тем, что он знает себя, как душу, а душа бессмертна, и потому человек, воспитанной сказкой, не ведает страха!
У сказки и сказкотерапии совсем разные цели и пути.
Но вы можете использовать дома то, что больше подойдет для ваших представлений о хорошей жизни вашего ребенка. Хорошо бы только ваши представления об этой жизни были представлениями о той жизни, которая ждет его.
Сказка на взгляд психолога
Прекрасный петербургский филолог А. И. Зайцев в небольшой статье «К вопросу о происхождении волшебной сказки» сделал важнейшее предположение, что сказка вовсе не существует «вечно», в том смысле, в каком «вечно» существует миф. Она возникает позже мифа, как и эпос, и возникает в каком-то одном месте в Средней Азии или Средиземноморье.
«Географическое распространение волшебной сказки указывает на то, что родину ее мы можем искать в Европе, Северной Африке или Азии (Кроме Дальнего Востока), ибо в остальные районы земного шара она проникла сравнительно недавно».
Когда это могло произойти? Вопрос, вызывавший множество споров, поскольку кто-то возводил волшебную сказку, подобно Проппу, к неопределенной «дописьменной эпохе», кто-то, как фон Сидов, к праиндоевропейцам, кто-то даже к доиндоевропейской матриархальной культуре или к эпохе неолита… Но есть и противоположная тенденция – видеть возникновение сказки в Возрождении.
Исследуя доступные нам древние тексты, Зайцев вводит временные рамки, в которые могла возникнуть сказка. С одной стороны:
«Во всяком случае, во всей доступной нам письменности древнего мира нет никаких следов существования волшебной сказки в III, во II или начале I тыс. до н. э. Новые публикации текстов, прежде всего клинописных, приносят нам памятники различных жанров, в том числе и с явной фольклорной основой, но не волшебную сказку» (т. ж. с. 87–8).
С другой стороны:
«Однако неоспоримым фактом остается использование римским писателем II в. н. э. Апулеем во вставном рассказе об Амуре и Психее романа «Метаморфозы» типичной волшебной сказки» (т. ж. с. 87).
Таким образом, Зайцев постепенно сводит поиск к середине первого тысячелетия до нашей эры, ко времени, которое Карл Ясперс назвал «осевым»:
«Исследователи прошлого человечества давно уже обратили внимание на поразительные перемены, происшедшие в идеологии ряда народов от греков до китайцев в середине I тыс. до н. э.» (т. ж. с. 89).
Зайцев связывает эти перемены с распространением железа, появляющегося на рубеже первого тысячелетия до н. э., а значит, с ростом надежды преодолеть все сложности, с которыми сталкивается человек. Именно этим он объясняет ту особенность сказки, что она всегда завершается благополучно.
Гипотеза, что сказка возникает, как и важнейшие учения той поры, подобно греческой философии, зороастризму, буддизму, конфуцианству и даосизму, заставляет нас предполагать, что у сказки был создатель. Не в смысле рассказчика, вроде аэда, но именно создатель самого жанра.
Чем характерен этот жанр?
Определяя важнейшие черты сказки, Зайцев исходит из двух подходов. С одной стороны, он, безусловно, разделяет взгляды В. Я. Проппа на то, как строится сказка из обязательной последовательности типологически сходных шагов. Эти шаги были определены Проппом в 1928-м году в «Морфологии волшебной сказки», а затем уточнены в «Исторических корнях волшебной сказки».
Второй подход был высказан в 1929 году голландско-немецким языковедом Андре Иоллесом в «Простых формах» (Einfache Formen).
Я совершенно разделяю взгляды Проппа на то, что сказка возникает как инициационный текст и, по сути, описывает то, что проходит посвящаемый во время молодежной инициации, как путь преобразований и обретения состояния, дающего право стать членом общества и завести семью.
Но в данном случае я бы хотел остановиться на взглядах Иоллеса, поскольку они дают большой простор для психологического объяснения пути посвящения. В изложении Зайцева мысли Иоллеса выглядят так:
«В основе предложенной им общей теории фольклорных жанров лежат как-то связанные с романтической традицией довольно неопределенные представления о формировании фольклора из речевой деятельности. Эти идеи сразу вызвали критические замечания и являются неприемлемыми уже в силу того, что они едва ли могут быть сформулированы в поддающейся научной проверке форме.
Однако его конкретные характеристики ряда фольклорных жанров и в том числе сказки (Иоллес имеет в виду волшебную сказку), улавливают, как нам кажется, конституирующие признаки и могут в этом смысле считаться основополагающими» (т. ж. с. 84).
В сущности, Зайцев добавляет взгляды Иоллеса к базовой теории Проппа. И добавляет именно психологическую часть его взглядов:
«В отношении волшебной сказки вместо давно сделанного наблюдения об оптимизме этого жанра Иоллес говорит гораздо точнее, что в сказках все происходит, как это, по нашему ощущению (Empfinden), должно было бы происходить в мире: сказка противостоит в этом смысле действительности.
В сказке этот принцип проводится с поразительной последовательностью. Торжествуют чаще всего обиженные: младший брат или падчерица, герой, преследуемый не только «вредителем», но и ложным героем. Все препятствия оказываются легко преодолимыми для подлинного героя, с которым может внутренне идентифицировать себя любой слушатель.
Замечательное свойство сказки, которое подчеркивает Макс Люти: злодеи часто жестоко наказываются, но описывается это в такой форме, что никогда не вызывает у слушателя отрицательных эмоций» (т. ж.).
Сам Зайцев, определяя время возникновения сказки, связывал ее появление с культурным переворотом в Греции, «отвергающим мир орфизма», когда появлялись новые религиозные взгляды. Мы прекрасно знаем, что период греческой классики завершается к первым векам до нашей эры, так называемым, эллинизмом, во время которого появляются новые культы. Самым древним из них, безусловно, был культ Орфея. Затем приходит культ Митры, который продержится до четвертого века нашей эры, уступив место христианству.
Но христианство тоже относится к числу новых культов. И если мы вчитаемся в описание сказки, мы можем разглядеть, что основной миф христианства, который и захватил души людей, чрезвычайно похож на сказку по своим действенным чертам: верующим обещано, что за веру воздастся добром, что зло будет наказано, а мир будет принадлежать слабым, нищим духом и обиженным…
Исследователи давно установили, что большую часть культовой, церковной практики ранние христиане позаимствовали у митраизма. Вплоть до рождения бога 25 декабря. Даже иконография Митры была положена в основу иконографии Христа, как и победа его над змеем знакома каждому по образу Георгия-победоносца. Сходство христианства и митраизма было настолько сильным, что ранние христианские теологи, к примеру, Иустин или Тертулиан, усматривали в митраизме сатанинскую имитацию и подделку.
Гораздо меньше известно, что в той же мере иконописный Христос похож на Орфея. При беглом взгляде на картину, где менады убивают Орфея, невольно узнаешь побивание какого-нибудь христианского святого или распятие самого Христа. Однако внешнее сходство не главное.
Орфизм был полурелигиозным-полуфилософским учением о равенстве всех людей, независимо от сословий. Орфизм говорил о том, что в человеке есть низшее – титаническое начало, и высшее – духовное. И он должен очиститься от скверны в аскезе, то есть в упражнениях, и достичь близости с богами. Орфей запрещал проливать кровь, животные приходили слушать его игру на лире, подобно тому, как приходили они слушать проповеди христианских святых.
Чтобы услышать его пение, скалы и деревья сдвигались с мест… Что называется, если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», – и она перейдет! Орфизм передал христианству гораздо больше внутренних черт, чем Митраизм. И это, в первую очередь, мировоззренческие установки и вера в некую сказку. В какую?
Зайцев упоминает Апулеевскую сказку об «Амуре и Психее». То есть о душе и боге любви. Суть сказки в том, что сын Афродиты Эрот, или на римский манер – Амур, влюбляется в младшую дочь царя одной прекрасной страны. Психея была столь прекрасна, что сама Афродита стала ревновать к ее красоте и послала сына, чтобы он влюбил ее в какого-нибудь урода. Но судьба судила иначе…
Жениться на Психее он не мог, но отгонял от нее всех женихов. Старшие сестры вышли замуж, а прекрасная Психея оставалась одна, и никто не мог понять, в чем причина. Устав ждать, родители обратились к оракулу, и он велел отвести ее в лес на вершину горы и там оставить. Родители подчинились и ушли в слезах, думая, что обрекли дочку на смерть…
Однако ветры подхватили ее на краю обрыва и отнесли в прекрасный замок, где по ночам к ней стал являться ее муж. Однако было условие: никогда не смотреть на него при свете.
Однажды сестры приехали к Психее в гости и по ее рассказам поняли, что она замужем за богом. Но из зависти наговорили ей, что муж у нее дракон, который пожрет ее вместе с ребенком. По их совету она берет бритву, масляную лампу и рассматривает спящего Амура. И обнаруживает не дракона, но прекрасного бога.
Однако рука ее дрожит, и она обливает мужа раскаленным маслом. От возмущения, что жена нарушила клятву верности, Амур улетает, и для Психеи начинается долгий путь возвращения любви, подобный русским сказкам о Финисте – Ясном соколе.
Девушке приходится прийти к Афродите, и та выступает для нее, как типичная сказочная Бабаяга, которая мучает девочку тяжелыми заданиями. И самое трудное из них – ради любви спуститься в Аид и вынести оттуда безделушку – стеклянный ларец. Очевидно, что суть не в ларце, а в способности души пройти любые испытания и развить такую внутреннюю силу, что даже боги смерти, звери и скалы отступают перед ней.
В итоге возлюбленные воссоединяются, а Зевс делает Психею бессмертной.
Это и есть высший идеал Орфизма, как мистического пути очищения души. Поэтому, хоть Зайцев и говорит, что сказка рождается во время того культурного переворота, которым преодолевается орфизм, сам миф об Орфее полностью сопоставим со сказкой об Амуре и Психее. Только в обратном, мужском варианте.
В нем деятелем выступает мужчина, как если бы перед нами было описание мужских инициаций. Однако до Орфея мы знаем вавилонский миф о том, как богиня Иштар отправляется за своим мужем Таммузом в мир мертвых. Миф этот был известен в Средиземноморье через финикийцев. Так что вопрос о поле основного героя в этом мифе не существенен. Героем сказки с одинаковой легкостью становятся как мальчики, так и девочки.
В самом кратком виде миф об Орфее таков. Сын речного бога Эагра и музы Калиоппы, то есть потомок титана Атланта, брата Прометея, а значит япетид, Орфей овладел игрой на лире до такой степени, что и живая, и неживая природа заслушивалась его. Он стал любимцем Аполлона, который подарил ему божественную золотую лиру.
Орфей влюбился в речную нимфу Эвридику и женился на ней. Но однажды, когда он играл, а она собирала ягоды в лесу, ее сильно напугали, и она, спасаясь бегством, вступила в змеиное гнездо и была укушена. Прибежавший на ее крики Орфей увидел лишь черные крылья смерти, уносившей его возлюбленную в Аид.
В горе Орфей отправляется вслед за любимой в подземный мир, вход куда живым запрещен. Но сила его пения такова, что даже Харон перевозит его через Лету, страдания душ прекращаются, а Аид и Персефона, прослезившись, соглашаются отпустить Эвридику при одном условии: если Орфей ни разу не обернется, пока не выйдет из Аида. Естественно, душа Эвридики идет столь бесшумно, что Орфей начинает сомневаться и оглядывается.
Эвридика остается в царстве мертвых. А он бродит по Фракии в тоске, пока однажды менады или вакханки, добивавшиеся его любви, не растерзали его за невнимание к ним…
Первое, что бросается в глаза – это резкая разница между сказкой и мифом, о которой и говорил Зайцев. В сказке происходят те же события, но все завершается «как должно быть» – благополучно, потому что человек может победить, если все сделает правильно и пойдет до конца, на любые жертвы и тяготы ради своей мечты. В мифе этого нет. Мифос, или мютос, во времена своего бытования означал в греческом языке просто «слово», то есть просто рассказ о действительных событиях.
Лишь с появлением эпоса он начинает означать быль, предание, то есть рассказ о прошлых событиях, которые уже могут быть не точны за давностию лет. А просто словом становится эпос. А ко времени классической Греции, то есть ко времени возникновения сказки, мифос уходит еще дальше в сумрак эпох. Теперь логос обозначает просто слово, которое описывает действительность, эпос – это предания, былины, а мифос – сказка. Но сказка не в смысле жанра, а в смысле выдуманности.
Сказка никогда не скрывает того, что она не есть истина. Миф же никогда не утверждает, что он выдуман, но люди считают его выдумкой. Однако сейчас мы видим принципиальную разницу между мифом и сказкой. Миф очень часто кончается плохо, а человек, слушая его, вправе хотеть, чтобы все кончилось так, как надо, как желательно! Именно об этом и писал Андре Иоллес.
И человек этот, слушая главный орфический миф и сохраняя его содержание, находит условия, при которых все может в жизни стать хорошо. Тут мы соприкасаемся с устройством человеческого разума, который должен обеспечить выживание своего хозяина, и сделает для этого все, что в его силах.
Сказка словно бы творится как осмысление мифа: а вот если бы он здесь сделал так, а здесь не сделал так, то победа была бы возможна!
Кто мог быть творцом сказки как жанра? Мог ли им быть не мифический, а исторический Орфей?
Орфизм, как говорит А. Ф. Лосев, подводя итог многочисленным исследованиям орфизма, никак не моложе Гомера. Точнее говорить трудно, поскольку тексты орфиков утрачены, и самые ранние свидетельства относятся лишь к шестому веку до нашей эры. Это значит, что человек, создавший орфизм, пришел в то же самое «осевое время», что и остальные создатели мировых религий.
Мифический Орфей родился за 11 поколений до Трои и участвовал в походе Аргонавтов за золотым руном. Но Орфей, которого можно считать исторической личностью, учился в Египте, усовершенствовал лиру, увеличив количество ее струн до девяти, и он был из Фракии.
Сам орфизм исходно имеет черты «рабского мировоззрения», как писали о нем исследователи. Но мне кажется, он был обращен к тому автохтонному населению Эллады, что было покорено греками во время завоевания Балкан. Именно поэтому в нем так много черт титанического противостояния Зевсу. В сущности, орфизм создает свою теогонию, существовавшую одновременно с теогонией Гомера и Гесиода, для которых верховенство Зевса бесспорно.
Судить об этом трудно, поскольку орфизм за тысячелетие своего существования менялся, и в трудах Прокла он выглядит уже совсем правоверным в отношении Зевса. К тому же аристократическим, что, видимо, произошло, когда орфизм стал в южной Италии сливаться с пифагореизмом.
Однако это сейчас не существенно.
Важнее предположение, что Орфей, будучи таким же реальным человеком, как и Пифагор, называвший себя сыном бога, вероятно, сочинил миф о самом себе, который и позволил создать учение. Этот миф предполагал его божественное происхождение от рода титанов-богоборцев. И так он втянул в сферу своего влияния низшие слои греческого населения, включая рабов и женщин.
Митраизм проиграл христианству только потому, что, будучи религией римских легионеров, он не впускал в свой культ женщину. Орфизм принимал и женщину, и раба. Но его бог не обещал чуда и спасения! Его бог, если им был Орфей, погибал, как Христос, но не возрождаясь и не давая надежды. Если же этим богом был Зевс, то он оставался богом аристократов.
Внешние черты божества христианство взяло у митраизма, а обращение к рабам и женщинам – у орфизма. Но христианство взяло и самое ценное: сказку о прощении, искуплении и счастливой жизни в конце всех мук и страданий, если ты вытерпишь все и проделаешь все необходимые усилия.
Мог ли творец мифа об Орфее создать и жанр сказки? Трудно сказать. Гомер и Гесиод создают мифы, но не переделывают их в сказки. Однако гениальный художник способен и подняться над собой, хотя мы не можем этого утверждать. Однако мы можем предположить, что сказка была создана теми, кто проводил мистерии по мифу об Орфее, как развитие мифа в мистерии.
Поэтому я предполагаю, что жанр сказки был создан в орфической среде. Был ли он создан без участия Орфея лишь его последователями, или же он сам, как человек, который чаровал своей музыкой, предписал, как служить мистерии, как чаровать сказками, – судить невозможно.
Однако распространение орфизма, как свидетельствуют источники, в точности соответствует ареалу распространения сказки. Поэтому мы можем сделать предположение, что сам по себе орфизм, как культ, тяготел к усилению закрытости и аристократизму служителей. Но его бытование вырвалось из рук служителей и ушло в ту среду, которая понимала сказку лучше, чем сложные космогонические построения.