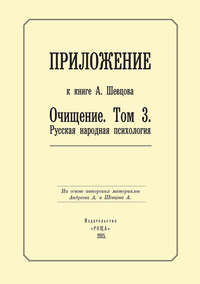полная версия
полная версияВ этой сказке… Сборник статей
Для Пушкина народная сказка – не только народное предание. Оставаясь частью национальной памяти, она являет собою факт отечественной истории. Вместе с тем в «Сказке о царе Салтане» можно видеть целый комплекс самостоятельных тем и сюжетов, находившихся с середины 20-х годов в поле творческого и исследовательского интереса поэта. Значимой в контексте 1830-х годов представляется не только связь «Истории Горюхина» с циклом «Повестей Белкина», но и работой Пушкина над его сказками. Это, в частности, отметит А. Герцен в статье «Русский народ и социализм», для которого сюжетная линия «Сказки о Салтане» послужит аргументом емкого обобщения: «в этой сказке, милостивый государь, вся наша история» (подробнее: 18, с. 363–364). Через три года после кончины няни, вспоминая образы собственного детства и отдавая невольный долг благодарной памяти, Пушкин начинает работу над сказками. Вступая в невольное профессиональное соревнование с писателями-современниками (31), он вряд ли старался конкурировать со своей няней Ариной Родионовной, оставаясь «угадчиком ее души, смиренным записывателем ее рассказов» (В. Розанов). В не меньшей степени, однако, в работе над сказками определялась степень его собственной творческой свободы. Позиция Пушкина-историка выходила за рамки фольклорного восприятия национального прошлого. Именно поэтому в его сказках важно видеть нечто большее, чем факт истории отечественной литературы.
Лето, когда Пушкиным были написаны «Бородинская годовщина», «Клеветникам России», отредактированы «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина», подготовлен к изданию 3 том собрания сочинений, опубликованы полдесятка критических статей и разборов, не принято сравнивать с Болдинской осенью предшествующего года. Вместе с тем, несомненно, это был один из наиболее продуктивных творческих периодов в биографии поэта. В доме Китаевой, на бывшей Колпинской улице, об этом осталось лаконичное напоминание:
«Здесь жил Пушкин в 1831 году»
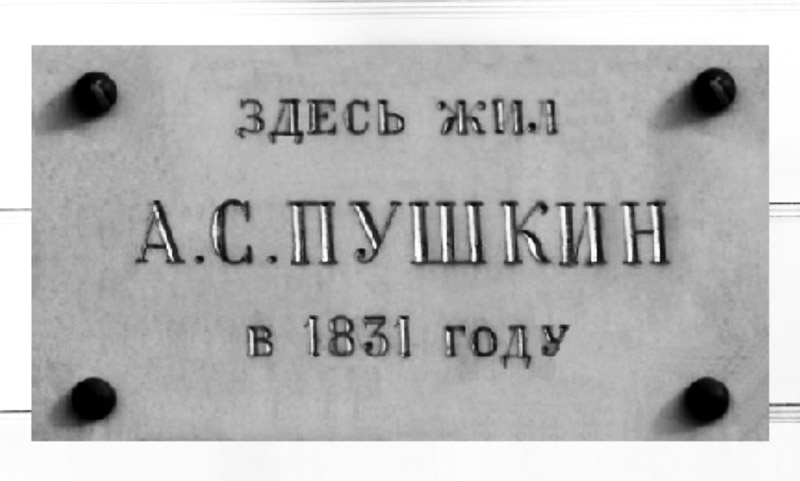
Предлагаемая вдумчивому читателю книга Александра Шевцова будет интересна не только как многолетний опыт авторского постижения философии сказки.
Поэт Михаил Светлов не без иронии, но вполне глубокомысленно утверждал, что все мы дети, только разного возраста. Информационная эпоха кардинально изменила как представление о человеке, так и сам тип современной личности.
Gadget и device стали обиходными вещами, и цивилизационные преимущества «устройств» и «приспособлений» существенно понизили актуальность столь значимых прежде понятий, как «способ» или «способность». Речь не только о клиповом сознании и изменении стиля мышления, а о перспективе сохранения интеллектуального языка.
Что «Homo Informaticus» способен обрести в диалоге с мировым наследием, когда перед ним стоят узко сформулированные функциональные задачи? В повседневном сознании почти утвердилась точка зрения на безграничность возможностей информационного пространства: «что есть в Интернете – есть в культуре, чего там найти нельзя – этого в культуре нет». Мысль о том, что духовность – понятие, которое не может быть виртуальным, в такой ситуации представляется беспомощной и наивной.
Вопрос о культурном статусе сказки как универсального по своей природе жанра оказывается актуализирован в переходные моменты истории, на «сломе» мировоззрений. Именно как «неумирающая ценность человеческой жизни» (Е. Трубецкой) сказка всякий раз оказывается в центре профессионального интереса (37; 39).
«Зачем нам отставать от поэзии бабушкиных сказок», – задавался непраздной мыслью П. Вяземский. Проблема культурной идентичности, столь часто сегодня обсуждаемая, определяется глубиной национальной памяти – ответом на вопрос не «кто мы», а «откуда мы». Можно ли воспринимать сказку как антропологический «ответ» на вызовы активно оцифровываемой реальности? Сказочные образы не имеют временнóго измерения – это «вечное настоящее» при каждом новом обращении. Моральные ценности сказки не сводятся к «контенту», однако каждая рассказанная ребенку сказка может рассматриваться как «инвестирование» в его будущее.
Насколько сегодня возможен «возврат к Пушкину», его сказкам, о чем сто лет назад задумывался Василий Розанов: «студент ни за что их не возьмет в руки по «превосходительной учености»; «Петя 11 лет» ни за что не отыщет в десяти толстых томах, с грудами примечаний и вообще ученой работы, «своей дорогой сказочки» о царе Салтане…» (47, с. 372). Поэтика сказки многослойна, здесь важно дотянуться не до книжной полки, а до смысла прочитанного. А потому совсем не наивной представляется мысль В. Розанова, чтобы Пушкин «вошел другом в каждую русскую семью, стал дядькою-сказочником для русских детей, благородным другом молодых матерей, собеседником старцев» (47, с. 372). Не менее важно и напоминание о том, что «задача ее – быть выслушанною», какая это сказка, если «в ней забыт слушатель» (46, с. 266).
Любимая сказка немыслима без интонации голоса, который с детства воспринимается и остается памятно-родным. Именно поэтому с воспоминаниями о сказках связаны самые светлые образы детства:
Будет дом. Будет много игрушек.Мы на елку повесим звезду.Я каких-нибудь добрых старушекСпециально для них заведу.Чтобы песни им русские пели,Чтобы сказки ночами плели,Чтобы тихо года шелестели,Чтобы детства забыть не могли.Доченьки, доченьки,Доченьки мои!..Анастасия Вертинская в одном интервью вспоминала: «Папа потрясающе рассказывал сказки. Например, у него был бесконечный сериал про кота Клофердона…» (14).
Легко ли придумать сказку? О сказке «родительской», сопутствующей образу детства на протяжении всей человеческой истории, по существу ничего не написано. В отличие от сказки фольклорной или литературной такая сказка чаще всего связана с моментом её сказывания. Как любая импровизация, она может никогда не повториться – в следующий раз будет или продолжение, или совсем другая сказка. Опубликованные отдельным изданием или затерявшиеся в Интернете, они сохраняют нечто бесконечно заветное (40).
«Любовь к напевной сказке слов…» (К. Бальмонт) – главный усвоенный с детства опыт, который непосредственно связан с обращением к истокам культуры и первым обретение себя.
«Вижу отца и за семейным столом после обеда: рисует иглой на медной доске <…> или читает вслух мне и сестре Елене «Сказку о царе Салтане» и «Скупого Рыцаря», – вспоминал Сергей Маковский. – С самых юных лет завтракали мы, а затем и обедали вместе с «большими» и особенно любили эти часы общения. <…> Жизнь в ту пору представляется мне вечным праздником…» (32, с. 13).
«Необыкновенные утра соединены в воспоминании и с первым моим литературным образованием: с чтением мне отцом сказок Пушкина…», – писал поэт и художественный критик Евгений Архипов (6, с. 110–111).
Очень теплые воспоминания о доме своего детства сохранит Мстислав Добужинский: «Отец прочитал мне также многие былины (дедушка мне подарил очень хорошее издание их с иллюстрациями). <…> Я заслушивался и «1001 ночью», и сказками Гауфа, и очень милой книжкой сказок Уайльда. Отец читал мне и сказки Пушкина, особенно я любил сказку «О Попе и работнике его Балде» и о «Царе Салтане» (20, с. 24).
«Скáзывание» – повествование особого рода, исключающее географические и хронологические привязки, но восходящее к первообразам национальной картины мира. Именно поэтому сказочная условность выступает критерием цельности не только личной биографии, но единства исторического бытия: всякая сказка «от начала зачинается, до конца читается, в середке не перебивается».
Андрей Синявский однажды заметил: «…читаю Гоцци и все больше склоняюсь к мысли, что жизнь имеет форму и содержание сказки». Аналогия возможная и допустимая, однако самое опасное и опрометчивое желание – это сделать сказку былью. Возможно, именно этому настоящая сказка и учит.
Велимир Хлебников говорил, что «провидение сказок походит на посох, на который опирается слепец человечества». Если избегать тривиальных суждений, вопрос – о чем сказка – оставляет серьезного читателя и внимательного слушателя в ситуации логической неопределенности: «не знаю, куда» и «не знаю, что». Сказка всегда сама по себе. Комментарий к ней бессмыслен и избыточен.
«Преклонение перед мудростью «незнания» составляет неожиданную черту сходства между философией Сократа и сказкой», – отметит Е. Трубецкой (56, с. 18). Кто решится утверждать, что перечитывая знакомый сказочный текст в полной мере способен приблизиться к исчерпывающему пониманию заложенного в нем смысла?
Лев Летягин, к. фил. н., зам. директора Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена
Часть 2
Статьи Александра Шевцова
Предисловие
Лет тридцать тому назад меня посетила мысль, что русские люди должны знать свои сказки, и я обнаружил, что сказки очень плохо изданы в России. Это было мое первое разочарование. Тогда я сделал издательство и начал издавать Полное собрание русских сказок. Но оказалось, что русские люди не слишком охотно читают свои сказки. Это было второе мое разочарование.
Что ж, надо признать: русский человек не слишком любит и ценит свое прошлое и свою культуру и, надо полагать, терял историческую память неоднократно. Будем надеяться, что это позволяет ему легче входить в будущее, то есть в число современных народов.
Но не сдаваться же из-за этого и не терять при этом сказки?! Поэтому я посчитал, что культуру сказки надо возвращать, для чего пропагандировать ее через социальные сети…
Вот уже несколько лет я веду на Фэйсбуке блог, называющийся Сказочным миром. Все это время я собирал в блоге материалы, относящиеся к сказке и мифу, публиковал народные сказки и свои мысли о сказках. К тому же последние годы я провожу Сказочный клуб в Петербурге и Москве. Большая часть этих встреч выложена в Сети.
Вполне естественно, эта работа способствовала осмыслению сказки с теоретической стороны. Не скажу, что это осмысление было как-то обильно или особо глубоко, но оно позволило написать несколько статей на стыке сказковедения и психологии, поскольку я психолог по исходному образованию. Эти статьи кажутся мне достойными внимания читателей.
В этих статьях я пытался осмыслить то, насколько совпадают между собой миры, в которых мы живем: мир нашего тела и мир души. Мир тела описывается естествознанием и Физической картиной мира. Мир души наукой не изучается, а та наука, что носит сейчас имя психологии, в действительности есть наука о веществе мозга и призвана стоять кордоном на пути в мир души.
Поэтому я считаю, что единственной наукой о душе и ее жизни сейчас остается только сказковедение. А поскольку человек все же больше своего тела и без развития души вырастает уродом, думаю, что издание сказок и поощрение размышлений о сказке – дело благое и душеспасительное.
Надеюсь, что этот сборник положит начало изданию серии книг о сказке, исцелении душ с помощью сказки, и созданию сказочных игр, оздоравливающих современного человека. Более того, я считаю, что человечество стоит перед страшным временем, гораздо более опасным, чем любые чумы или коронавирусы. Это эпоха цифровизации, когда человека попробуют срастить с машиной. И первым шагом к этому является повсеместная зависимость детей от гаджета.
Дети растут, как зародыши человеческих тел в антиутопии «Матрица», но подключены они к Матрице не в особом пространстве, а прямо рядом с нами, через компьютер и телефон. Их пора спасать. Но этого не сделать снаружи. Все родители проверяли и знают, что запреты тут не работают, а отвлечь ребенка не удается.
Спасти ребенка, ставшего зависимым от приставки, можно только изнутри, войдя в подчинившую его программу вирусом сказкотерапии. Но для того чтобы он стал действенным, эта сказка должна научиться не только обучать детей, но и развивать у них самые необходимые в новых условиях способности, так чтобы эти дети-индиго вырастали над подчинившей их программной средой и становились механиками игровой действительности.
Иными словами, цифровизация – это стихия, которая сломает весь наш привычный уклад и даже представления о том, что такое человек. И если мы сразу не поймем, что это вызов в развитии нашего разума, и не заложим основы для его развития, наступит долгое и мрачное цифровое средневековье. Тем не менее, человеческий разум, создавший цифровой мир, способен и управлять им.
Однако управлять им сможет только тот, кто освободился от страха перед цифрой и от зависимости от нее. И это тем важнее, что в зависимости у этой стихии не столько мы сами, сколько наши дети, которых мы потеряем, если не поймем, насколько их душам нужна сказка.
Александр Шевцов, доктор психологических наук, профессорВозможна ли современная сказка для детей?
Вопрос этот кажется неуместным, поскольку в современной культуре сказка исходно считается чем-то детским, и множество писателей-сказочников пишут детские сказки. Однако он не так прост и состоит, в сущности, из двух вопросов: возможна ли сказка для взрослых? И чем современная сказка должна отличаться от традиционной?
Увлечение сказками взрослых неявно порицаемо общественным мнением, как невзрослое поведение. И это не случайно. Даже простое психологическое наблюдение показывает: дети жадно впитывают сказку, словно это необходимое для их развития молоко матери. Но с годами желание пить материнское молоко должно уходить, как и желание слушать сказки.
Иными словами, сказка ощущается чем-то прямо необходимым в детском возрасте, но со взрослением потребность в сказке должна истощаться, и человек должен переходить на взрослую духовную пищу. Мы все это знаем и чувствуем.
Однако это свидетельство собственных органов чувств не столь просто: мы не так уж легко можем сказать, что же мы чувствуем и что знаем в действительности. Чувствуем ли мы, что с какого-то возраста больше не нуждаемся в сказке, или же мы чувствуем, что общественное мнение, проникшее в наше сознание, так считает. Соответственно, и «знание» это у нас может быть как знанием самих себя, так и знанием того, что прилично взрослому человеку, то есть знанием того, как надо себя вести в каждом возрасте.
И как же надо себя вести? Простой ответ: взрослый должен вести себя как взрослый. Что при внимательном рассмотрении означает: не как ребенок! Иными словами, это «знание», идущее еще из первобытного общества, уж слишком похоже на то, как древние общества были разделены на части, к примеру, мужские союзы, тайные женские общества, подростков, детей, мальчиков и девочек.
Мужчины до сих пор не допускаются внутрь женских сообществ: сидеть на кухне и болтать с женщинами о «бабьих делах» считается неприличным для мужчины, примерно как для женщины крутиться возле гаража, где мужики пьют пиво. Это наследие той древней эпохи, во время которой ребенок получал право узнать мифы своего племени, только пройдя инициацию. При этом мальчикам сообщались эти мифы в «мужском доме» – в лесу, куда женщины не допускались.
Более того, в некоторых обществах у всех мужчин племени были тайные от женщин знания. К примеру, у племени баруйя у мужчин была тайна о том, как они украли у женщин изобретенные ими флейты, на которых теперь играют мужчины, призывая плодородие. Это исходное преступление надо скрывать!
«Именно ценой этого нарушения принципа, установленного в самые давние времена, как необходимого для регулирования отношений между полами, мужчины смогли завладеть средствами пере-рождения мальчиков вне женского мира, вне чрева их матерей» (Морис Годелье. Загадка дара, – М.: Вост. лит, 2007, с. 160).
Именно эта изначальная тайна лежит в основе главного мифа общества баруйя, порождающего весь институт молодежной инициации.
Этнография полна примеров подобных условностей, в рамках которых общество имеет деление как по горизонтали, так и по вертикали. Горизонталью могут быть фратрии, брачные союзы родственных племен, из которых можно брать себе невесту. Вертикаль же может быть властной, как уровни приближения к богу, может быть возрастной, как допуск к правам, включая право завести семью.
Когда современный взрослый «знает», что ему неприлично любить сказки, он знает, что ему неприлично любить именно детские сказки. Но при этом с удовольствием смотрит голливудские сказки для взрослых, которыми полно телевидение. Иными словами, запрет на сказки для взрослых – это запрет на детское поведение, а не на сказки.
Однако и теория сказки знает, что не все то сказка, что так называется в сказочных сборниках. В. Я. Пропп прекрасно обосновал признаки волшебной сказки, которая по праву является для нас самой любимой. Он выделил все обязательные признаки волшебной сказки и увязал ее как с инициациями, так и с мифами. При этом его открытия до сих пор являются бесспорными для науки.
Однако в сборниках сказок, составленных собирателями, много разделов самых разнообразных произведений сказительства, и все они во время бытования назывались сказками. Однако большая часть сказок никак не подпадает под требования к волшебной сказке. При этом часть с очевидностью древнее волшебной сказки и является осколками мифов, а часть моложе – от рассказов о действительности семнадцатого-восемнадцатого веков, до бытовых анекдотов, перекочевавших в репертуар сказителей.
И означает это, что во все времена народ, сказывающий сказки, прекрасно понимал, что считать сказкой, и его понимание не совпадает с научным. Как и понимание писателей-сказочников, которые пишут свои сказки, несмотря на всю теоретическую несостоятельность. А зачем она сказочнику? Ему нужна не наука, а слушатель или читатель!
И вот мы приходим к вопросу: так что же такое сказка? И, соответственно, возвращаемся к вопросу, чем отличается сказка для детей от сказки для взрослых? Готового ответа нет, придется рассуждать.
Если склонность к детской сказке является определителем детского поведения, то не относится ли сказка к поведению? Тем более что детские сказки прямо содержат в себе некую мораль, предписывающую детям, как себя вести правильно.
Однако связь сказки с поведением очевидна лишь на первый взгляд. На деле сказка оказывается связанной с воспитанием, а вот воспитание, безусловно, определяет поведение. Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Урок – это не то, что предписывает поведение, а то, что учит думать, познавая мир, учитывая его ценности и опасности, и так накапливая опыт.
Но не будем забывать, что однозначного понимания и определения сказки не существует даже в науке. Само слово «сказка» означает то, что сказывают, но это не рассказ. Это единственная определенность. Рассказ – это не сказка!
Рассказ в быту – это повествование о событиях, происходивших с рассказчиком. Даже если он не был участником этих событий, он как-то о них узнал – прочитал или услышал от кого-то, и рассказывает именно об этом: как услышал или прочитал, разыскал в источниках. И даже если опускается и это, все же сам литературный стиль предполагает, что рассказчиком является не автор, а некий рассказчик, который рассказывает о том, что знает.
Условно говоря, в рассказе рассказчик выступает свидетелем либо передает слова свидетелей. Литературный рассказ, хоть и полностью выдуман, имитирует свидетельствование за счет самой подачи. Поэтому рассказ обладает качеством подлинности, а значит, и лжи. Рассказчик всегда может солгать!
Сказка – это не рассказ, потому что ее рассказчик не был и не мог быть свидетелем событий своего рассказа. Поэтому она исходно исключает требования подлинности. Рассказчик изначально предупреждает, что не был при событиях, а потому за подлинность не отвечает. А отвечает он только за точность пересказа: за что купил, за то и продал, так рассказывали старые люди, бабушка моя сказывала…
В силу этого сказка исходно может содержать вещи, которые не случаются в обычной жизни, выходят за рамки обыденного, являясь чудесными. И это не оценивается как ложь, поскольку сказитель и не обещал говорить правду. Правда сказителя только в том, чтобы точно пересказывать сказку, как ее сказывали.
Однако сказка не будет сказкой, если в ней не будет ничего, кроме подлинных событий, сказка просто должна выходить за рамки обыденной жизни. Эти выходы и называются чудесным. Наличие чудесного в том, что рассказывается, отличает сказку от рассказа вернее всего.
Для сказки оно естественно и обязательно, а в рассказе, если даже появляется, то должно быть подано как необъяснимое и вызывающее недоумение. Поэтому чудесное рассказа – это всегда позиция героя или рассказчика, который недоумевает, в силу чего предполагается, что объяснение есть, но недоступно именно герою. В сказке не так.
Понятие чудесного позволяет задаться вопросом: что за граница отделяет рассказ от сказки?
С психологической точки зрения, это Образ мира. Все, что укладывается в бытовой Образ мира, является рассказом, обладающим качествами подлинности или лжи. То, что выходит за границу обыденного Образа мира, обретает качество чудесного.
Чудесное не подлинно и не ложно. Оно иное, потому что не относится к нашему миру, даже если и прорывается в него сквозь границу.
Таким образом, сказка – это рассказ о чем-то, что находится в мире, окружающем наш и отделенном от нас границей обыденного Образа мира. Иными словами, сказкой в сказке является лишь то, что повествует о чудесном мире, все остальное – еще рассказ.
Рассказ же этот, вполне бытовой и обычный, имеет право присутствовать в сказке в качестве повествования о пути сквозь наш привычный мир к его границе, за которой произойдет встреча с чудесным. Либо наоборот – о пути, который проделало чудесное сквозь наш мир, чтобы встретиться с тобой.
Иными словами, рассказ в сказке – это та его часть, что об обычном человеке, в обычной жизни, до встречи с чудесным, либо до решения искать путь в мир чудесного. Сказка же в рассказе – это та часть повествования, к которой подводит рассказ, как к границе нашего мира или к прорыву этой границы. Это очевидно.
Но рождает вопрос: почему и чем различаются сказки для детей и сказки для взрослых?
Удивительные вещи обнаруживаются, когда задаешься этим вопросом. Неожиданно открывается, что взрослые сказки рассказывают о чудесах без чудес!
Достаточно пробежаться в памяти по ряду фильмов, которые мы зовем голливудскими сказками, и мы обнаружим, что они об обычной жизни, а точнее, об успехе в обычной жизни. Об успехе, удаче, о невозможном счастье, о не случающемся.
Иначе говоря, сказка для взрослых – это рассказы о чем-то очень желанном, как выигрыш в лотерею, но никогда и ни с кем не происходящем обычно. А если и случается, то с кем-то и где-то, но только не с тобой. Поэтому если оно все же произошло, это чудо! И поэтому – сказка! А если все же случилось с тобой, то можно смело говорить, что однажды ты попал в сказку!
С точки зрения психолога, сказки для взрослых – это рассказы о невозможных в рамках обыденного Образа мира событиях, случающихся только как чудо.
Сказки же для детей о том, что за рамками обыденного Образа мира или прорвалось сквозь эти рамки в наш мир. При этом очевидна одна общая черта в отношении взрослых как к детской, так и к взрослой сказке: происходящее в них считается невозможным, но очень желанным. Вернее даже, очень желанным, но невозможным.
При этом детское и взрослое невозможно по-разному. Детское невозможно исходно, просто потому, что так не бывает вообще! А взрослое, потому что так обычно не бывает.
Если в это вглядеться, то взрослое невозможное возможно в обычном мире, но обычно не бывает. Детское же в обычном мире невозможно. Ребенок этого еще не знает, а взрослый знает. Откуда? Он долго искал, но не нашел! Таков итог его жизненного опыта.
Очень похоже, что граница между детством и взрослостью проходит именно там, где кончается обыденный Образ мира. Как только для человека за границами Обыденного мира все кончается, он становится взрослым. Детство кончилось, и увлечение сказками воспринимается, как нежелание принять свою судьбу и свои обязанности.
Что это за обязанности? Очевидно, что обязанности взрослого человека, борющегося за выживание в этом жестком мире и обеспечивающего выживание тех, кто рядом. Ясно, что выживать в этом мире надо в соответствии с законами и условиями этого мира. Как это сейчас говорится: быть реалистом!
Реальный мир – это мир вещественный, поскольку латинское realis – вещественный от корня res – вещь.
Но «вещь» в русском языке – удивительное слово. С одной стороны, оно означает то, что сделано из вещества. С другой – это основа мудрости, а вещий – мудрый. Принять мир, в котором себя обнаружил, как вселенную или поселенную, то есть место поселения, – это мудро. И если это плотное место вещественно, надо выжить в мире вещей и вещества. Так и живут взрослые, стараясь стать все более плотными и так вытесняя легких и рыхлых.