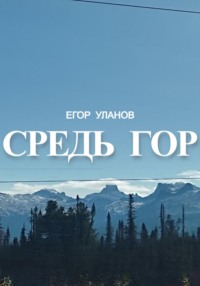полная версия
полная версияТунисские напевы
Кирго опять стало тяжко. Гайдэ очевидно не заботило, что среди них был мужчина. – Чем он занимается, этот Сеид? – спрашивала она, – Я знаю, что он кади, но что это значит.
– Судья, – выдавил из себя евнух, – это значит, что Сеид судья. Он назначен на целый город Сусс, раньше его назначали Османы из Стамбула, а теперь, когда над этой землёй властен Бей Хусейн, он назначает. Но он не стал сменять Сеида, поставленного ещё Султаном Османов Мустафой Вторым, а переназначил его, завёл с ним дружбу.
– То есть он единственный судья? – уточнила Гайдэ.
– Да, и судит строго по шариату, так что его решение окончательно. Можно сказать, он самый влиятельный человек в городе, даже выше имама великой мечети. Все купцы жаждут его дружбы.
– Так вот почему дядя подарил меня именно ему, – глаза Гайдэ опустились. – Будь он хоть трижды кади, хоть султан, разве мы достойны такого обращения?
– О чём ты? – удивлённо посмотрела Гайнияр, встав с ложе и приблизившись к Гайдэ.
– Мне противна эта страна. На улицу не пускают, ходить в чадре, ребёнка заберут. Какие-то старики решают, что нам делать и как жить. Заперли нас здесь и чахнут, как над золотом, которое не в силах потратить. Этот гарем ужасен! Разве не видите?
– Я тоже часто о таком думаю, – не без лукавства отзывалась Гайнияр, – много к нам пренебрежения; меня раздражает. А что делать? Мы одеты, обуты, сыты.
– Лучше спать на голом полу, – махнула Гайдэ рукой, – лучше голодать!
Мусифа лежала на животе и дрыгала ножками, словно ребёнок. Она заговорила.
– Мой отец был бедный фермер. Маленький, с черными от работы руками. А я родилась красивая. Когда я была маленькая, отец говорил мне, что я буду богатая и счастливая. А когда подошёл девичий возраст, он отдал меня в гарем. Наверное, радовался, когда получил деньги; может быть, открыл на них лавку или купил скакуна.
– Тебе не грустно, что ты не дороже скакуна?
– Нет. Ведь я голодала, а мне с детства пели песни, что когда я выросту, окажусь в гареме и буду в золоте и шелках. И я грезила о такой жизни.
Мусифа игралась со своими мягкими локонами. Гайдэ пристально смотрела на неё и не находила в её лице ни тени сожалений.
– Хотела бы я быть такой как ты: ни о чём не сожалеть, не метаться душой.
– Да ладно тебе, всё не так и плохо – улыбалась Гайнияр.
– И всё же так тоскливо, – при сих словах Гайдэ откинула волосы с плеч; взгляд её сверкнул, как зажженный порох в пистолете. – Тоскливо от того, что нет настоящего чувства, нет любви. Нет того, кто полюбил бы меня, и я бы могла отвечать ему.
Кирго поёрзал в кресле.
– А как же господин? – простодушно крикнула Мусифа.
Гайдэ махнула рукой.
– Он любит нас как вещи. То есть любит сам себя, за то, что мы у него есть.
Гайнияр погрозила пальчиком в воздухе: – А как тебе надо?
Гайдэ села опять на своё ложе, скрестила ноги в лотос и призадумалась, подняв чудные обсидианы глаз на люстру, от чего прожилки стали белее самого дорогого жемчуга, а по зрачкам пробежали огненные блики.
– Я хочу, чтобы тот, кто меня любит, сделал для меня всё на свете, даже пожертвовал жизнью. Хочу точно знать, что нет для него ничего дороже.
Мусифа мечтательно вздохнула, перевернулась на спину, свесив хорошенькую головку вниз с ложе. Гайнияр положила ладони одна на другую и молча смотрела на них. Кирго сидел затаившись.
– О, как глупо будет прожить жизнь и не полюбить – произнесла Гайнияр с сожалением.
– В жизни длиною в полвздоха не планируй ничего, кроме Любви… так сказал Джалаладин Руми, турецкий поэт – молвил Кирго, поймав на себе томный взгляд Гайдэ.
– Не знала, что ты читаешь такие книги – говорила она.
– Когда-то давно, когда я учился читать, у одной из наложниц была книга Руми, и она обучала меня. Она очень любила его стихи и каждодневно их перечитывала – отвечал он, улыбнувшись.
– Хорошая она была, – начала Гайнияр, – А где же она теперь?
– Умерла.
– В гареме? – с сожалением вопрошала Гайдэ.
– Да. Роды.
– Печально. Всю жизнь читать о любви и ни разу её не испытать.
– Кто знает… – хотел что-то сказать Кирго, но замолк.
– Зато в гареме много еды и золота, – громко начала Гайнияр, стремясь развеять тяжелые мысли, – скоро будет день покупок! Пойдём на базар! Будем выбирать себе ткани, платья, украшения там разные!
Гайдэ уже не возражала и молча сидела, облокотившись на деревянную перегородку.
– К тому же нас охраняют от разных опасностей, – добавила Мусифа, – вот, Кирго, например, вора поймал.
– Расскажи, Кирго! – подхватила Гайнияр, хлопая ладошами по своим полным налитым бёдрам.
Кирго мельком взглянул на Гайдэ, – Да ничего такого, – начал он, стремясь как можно правдоподобнее скрыть собственное бахвальство и сыграть безразличие, будто для него это безделица. – Я, как всегда, ночью обходил дом, вижу силуэт, окликнул его, а он достаёт кинжал. Удар. Я уклонился… ещё… тут я попал в него, он упал.
Мусифа мило вздыхала, выпучив глазки от картины, представлявшейся её воображению. – Ты же мог погибнуть! – не выдержала она, и ресницы её увлажнились.
– В ту минуту я не думал. А потом уже… утром, когда проснулся; мыслю, что вчера мог умереть. Также бы солнце встало, птица запела, и ничего бы не изменилось.
– Мы бы плакали, – успокаивала себя Мусифа, – без тебя было бы так плохо!
– Хорошо, что всё так закончилось – порадовалась Гайнияр, соединив ладони на груди.
– А ведь ты бы тоже умер, ни разу не полюбив – высказала Гайдэ, словно оправившись от какой-то жгучей дремоты.
Кирго молчал. Гайдэ взглянула на него с участием любовницы – так, что все прошедшие её взгляды показались ему лишь подготовкой к этому нежному, прозрачному, немому, но выразительному взору.
Попрощавшись с девами, Кирго вышел из спален и пошёл на обход. Тушили свечи. В средней и старшей спальни уже давно стоял полумрак. Так и закончился тот вечер.
Если вы, мой читатель, не обратили внимания, то у Гайдэ теперь была уже целая горсть украшений, достававшихся ей по одному за ночь любви. Следовательно, ночей прошло не мало. И хоть Гайдэ стала любимицей Сеида, но вызывали её не чаще двух раз в неделю. Значит, миновало уже несколько недель, а Кирго всё ещё молчал о своих чувствах.
Теперь, однако, его уже не сдерживало уважение к Сеиду, которое он полностью изрос и снял, как снимают наряд, сделавшийся маленьким. Ему важно было понять её чувства. Это было последним препятствием признанию. А Гайдэ была непонятна: толи холодна, толи обжигающая. Жар и холод схожи. Если прикоснуться к чему-то очень холодному и быстро одернуть руку, то покажется, будто эта поверхность раскалена. Не удивительно, что их так часто путают. И теперь у юноши была лишь одна мечта.
11
Кто из вас, читатели, бывал на просторах Туниса? – Кто наблюдал его виды, бедные разнообразием, где взгляд привлекает лишь море да небо? Не эти ли пейзажи были свидетелями зарождения человечества, великих переселений, потрясений, счастья и горя? Не эти ли далёкие неведомые края пустыни когда-то были одним сплошным лесом или, может быть, океаном? Да и Тунис, и Сусс, всего лишь названия, кои ничего вам не скажут. Приходиться бесконечно сравнивать, вооружившись незаменимыми «как», «словно», «будто» и прочими дарами словаря. А меж тем, над каким сравнением нельзя не посмеяться? Какое «как» сможет отделаться от обвинений в несправедливости?
Море в то утро было беспокойное, как узкая горная речка, бегущая меж скал. Волны с яростью оббивали берег, вынося косматую пену на хребтах. Что-то гремящее, громадное поднималось со дна. И звуки этого чего-то разносились по пустынному пляжу, испещренному камнями, рваными сетями и дырявыми лодками. Порт был дальше по дороге и ближе к городу. А это место было никому не нужно из-за его удалённости; хотя оно и было прекрасно.
Мы встретили Кирго здесь вначале нашего рассказа; и вот он опять тут. Молча сидит юноша. Тишина – язык Бога, кружит над его головой невидимыми искрами. Море, казавшееся ему в первую нашу встречу обыкновенным, теперь видится иначе: каждая его волна воспринимается как собственная мысль, чувство или тревога. И пена страсти мешает разглядеть что-то в глубине. И смутное ощущение дрожит на кончиках пальцев.
«Я уже немного знаю женщин, – размышлял Кирго, глядя в бушующие волны, – они подобны морю. Также толкают тебя в бока, щипают, валят с ног и кружат, когда ты им не угодил, а через секунду нежно обнимают, смеются и прижимают тебя к груди, словно уже не помнят прошлого».
Возвращаясь степью, Кирго с напряжённым вниманием осматривал окрестности, точно никогда раньше здесь не бывал. Новые мысли забурлили в нём при виде ветхих саклей и нескольких фермеров, бредущих к ним. Мысли, которые он не умел ещё формулировать и похоже только учился отгадывать в себе.
По счастью, подобные мысли посещали и автора, потому попробую их описать. Когда я смотрю на бедный, жалкий народ фермеров и крестьян, мне вспоминается один стих у Джалладина Руми; название ему «Рассказ о садовнике». Там три законодателя: суфий, сеид и богослов, без спроса вошли в сад и стали требовать угощений. Разгневанный садовник, понимая, что не справится сразу с тремя, рассорил их, наклеветал сначала на одного, потом на другого, и затем поодиночке убил. Мораль выводит сам автор словами последнего убитого: «Я кару горше заслужил в сто раз, Как всякий, кто друзей своих предаст!». И эта мораль хороша… да только я вижу здесь и другую. Ведь эти три законодателя приходят в дом простого человека, который тяжёлым трудом добывает себе кусок хлеба. Они как должное принимают его кров, угощения, красоты его сада и тепло скромного очага, не заботясь о мнении хозяина. Садовник видит в них нахлебников; и пусть месть его сладка, но она также и необходима. Он властелин своего сада, а его лишают прав, он самостоятелен, от него требуют подчинения. Он, наконец, видит, что люди, стоящие выше, ничем не лучше его и также полны порока. Однако они строят из себя святых. Не урок ли это всем власть предержащим? Не приходить без приглашения, не забирать нажитого; или, по крайней мере, не верить черни.
Но вот уж Кирго достиг стен города; мы помним этот маршрут. Навстречу ему, как и в прошлый раз, вели невольников. Однако теперь в юноше всё содрогнулось. Вид коричневых пыльных лохмотьев, верёвок, натирающих шеи до кровавых мозолей, и глаз… необычайно пустых глаз… один этот вид вызвал новый виток возмущений в горниле его разума.
«А вдруг кто-то из этих бедолаг оставил дома семью… любимую» – подумал Кирго и стиснул зубы так, что подбородок его заострился, а на скулы легла глубокая тень.
И высокий худой мавр, идущий сзади, слабо хлестнул одного из невольников плёткой, видимо, от нечего делать; словно траурная процессия прошли они мимо. А Кирго хотел уж идти в гарем, но от полноты чувств в нём родилась потребность поделиться с кем-то. Пристань была не так далеко, и он не заметил, как оказался уже возле шхуны Карпера.
Контрабандист встретил его без особого усердия. Утомлённый безветренным зноем он сидел в тени мачты и по своему обыкновению проклинал день, когда родился. Они обменялись приветствиями и Кирго сразу перешёл к тому, что его беспокоило:
– Послушай, Карпер, я хотел спросить: есть ли у тебя… девушка?
– Есть. В одном греческом городе я гуляю с крестьянкой. У неё стан струной, груди – волны, и лицо не без красоты. Говорит любит меня до смерти. А когда я уплываю, гуляет со всеми подряд.
– А ты её любишь?
– Нет.
– А любил кого-нибудь?
– Любил, – ответил Карпер, – давно. Безответно, не знаю, но всё одно.
– А как ты понял, что любишь?
– Когда такие вопросы задавать стал.
Кирго вздрогнул.
– Ты чего, евнух, влюбился?
– Да, – неожиданно легко ответил Кирго.
– В кого? В торговку или крестьянку?
– Нет.
– Не в одну же из наложниц?
Кирго молчал.
– Ну, молодец, это я уважаю. Правильно! Бедные красавицы сидят под замком, а их и приласкать некому.
– Я не знаю, что делать!
– Признавайся да люби. Радуйся, Кирго, ты мужчина.
– Мне всегда твердили обратное.
– Да уж, ты был искалечен и не можешь насаживать. Зато можешь любить! А ведь часто я видел людей, которые могут первое, и, тем не менее, никогда не смогут второго.
– А если она не любит?
– И что. Может хоть от скуки, да даст.
– Так не хочу.
– Всё равно признавайся. Хотя бы ясно будет.
– Верно!
– Ты, Кирго, хоть куда! Я, когда познакомились, хотел было, чтобы ты меня в гарем провёл – такое приключение. Но ты ответственный, что аж тошно. А выходит, сам не промах.
– Мне пора, Карпер.
– Потом расскажешь!
Карпер лёг на палубу и уставился в небо. Ветер показался ему свежим и приятным; не чувствовалось запахов смолы, протухшей рыбы, гнилого дерева и нечистот. Чья-то чужая любовь, явственно возникшая перед пропащим контрабандистом, напомнила ему собственную утерянную юность: заблуждения, мечты и мгновения, которым не суждено да и не следует повторяться в одной и той же жизни. Он так и остался лежать на одном месте, а Кирго исчез.
Не то чтобы Кирго нуждался в ободрении Карпера. Не то, чтобы контрабандист что-то знал о евнухах и их физиологии. Всё-таки он несколько ошибался в своих резких суждениях, именно в том, что Кирго не имел возможностей к плотской любви. Таких возможностей, как вы наверняка знаете, множество; да к тому же, выражаясь языком садовников, плоды его были срезаны, а ветка оставлена. Ей, может, даже можно было воспользоваться, но Кирго всё же чувствовал себя неполноценным; он слышал кое-что о евнухах от служанок и грубых мавров, поэтому с детства привык считать себя ниже мужчин. Лишь недавно проснувшаяся страсть нарушала эту привычку. А всё же каждый раз перед глазами он видел коричневый изогнутый шрам, вьющейся меж ног его, будто ядовитая змея; видел и содрогался.
Проходя мимо мечети, Кирго ускорил шаг, опустив глаза, чтобы случайно не встретить знакомого взора. Он не был в стенах храма с того дня, как приехала Гайдэ. И не творил намаз с той ночи, когда Гайдэ была отправлена к Сеиду. Юноше было совестно, что Аллах давно не видел его ракаат, не слышал от него аятов и покаяний, которые ранее он возносил без принуждений. Ведь Кирго верил в бога; совестно не может быть перед ничем.
Минуя большую дверь приёмной, Кирго летел на встречу Гайдэ. Уверенность в нём бушевала, скрывая сомнения, как море в прилив скрывает острые рифы.
Но в прихожей, на лавке разлёгся Малей. Он грубо окрикнул Кирго, спрыгнув на пол.
– Где ты был, мелкий червь?
– Я… мне нужно было… – от неожиданности запнулся Кирго, не в силах ничего придумать.
– Собачье дерьмо и то больше пользы приносит Аллаху, чем твои оправдания! Где был?
– Я гулял! – выпрямился юноша.
– Гулял? – запищал Малей от раздражения – Ты, семя шлюхи, нечестивый бездельник! Я лишаю тебя жалования в этом месяце! Я буду бить тебя кулаками; нет, того мало с тебя, скажу, чтоб Ракыб тебя высек! Да я…
Малей хотел ещё что-то сказать, но Кирго прыгнул на него, словно горный барс на добычу, и толкнул его в плечо так, что тот повалился на землю.
– Какое право ты имеешь надо мной? – прорычал Кирго. От испуга воинственному старшему евнуху перехватило дыхание. Грозный вид и блестящие глаза юноши произвели на него какое-то неизгладимое впечатление. Дух непокорности, проснувшийся в Кирго, словно давал ему право теперь презирать Малея, будто делал его выше. Он сам не ожидал от себя такой силы. И вышел во внутренний двор, будто ничего не было, оставив распростёртого на полу Малея.
Старый евнух никому не рассказал. И после того не только не придирался к Кирго, но побаивался его, позволяя ему не давать уж более о себе никакого отчёта. Кирго же относился к нему теперь с пренебрежением и либо не замечал, либо прогонял, как жалкое и несчастное существо.
Но вернёмся. Юноша пришёл к Гайдэ и меж ними завязался разговор: обыкновенный, а потому нам не надобный. Вот самая примечательная часть.
Гайдэ спросила: – Ты вчера говорил о смерти. Ты боишься?
– В моей жизни не так много радостей, чтобы бояться лишиться их.
– А вечность, она страшит?
– Вечность… мы ведь уже в ней; так чего бояться?
В продолжение разговора Кирго решался, думал; оба они чувствовали, что вызревает нечто. Гайдэ не понимала что, и потому ждала.
– Ты говоришь, тебе трудно сидеть взаперти, – наконец вытеснил из себя юноша – Завтра я отведу тебя на море.
– Но как? – наклонилась она, взяв его за руку.
– Не важно. Главное, завтра вечером.
– Как же это волнительно! Какое ты чудо, Кирго! – в восхищении вскрикнула она и обняла его за шею.
12
Первое, что увидела Гайдэ, скользнув из прихожей – это городская стена, которая как мы помним, была перед домом и завершала улицу. На стене рос дикий вьюн с маленькими белыми цветочками. Он толи спускался сверху, толи поднимался туда от земли; никто не знал, потому как никто не сажал его и не ухаживал за ним.
Тень от дома падала на стену; тот вьюн, что забрался выше, был весь иссушен, так как солнце нещадно жгло его; а тот, что был у земли – спокойно цвёл полный влаги и жизни, защищённый тенью. И это была словно иллюстрация к какому-то вечному, изначальному закону жизни. Но Гайдэ было не до того. Они с Кирго уже спускались вниз по улице. Чадра непривычно путалась в ногах у девы; чёрная ткань начинала нагреваться, складки по временам сползали на лицо, загораживая обзор.
– Неужели нельзя снять с себя эту глупую тучу? – возмутилась она.
– В городе нас непременно увидят – начал Кирго, улыбаясь, – и если ты будешь не покрыта, тебя схватят, а меня в лучшем случае накажут.
– Даже нарушая правила, мы нарушаем их вполовину! – обиженно заметила Гайдэ.
И они шли теперь мимо Великой мечети Сусса, по площади Медины, сворачивали в проулок мимо рынка; средь двухэтажных белых домов виляли узкие проходы; в открытых лавках сидели толстые арабы, с любопытством глазеющие на любого прохожего кофейными глазками. Подойдя к воротам, ведущим к пристани, Кирго сказал: – Это выход из города, здесь стены заканчиваются, а далее идёт дорога к гавани и поворот к морю.
– Мы ведь идём к одинокому пляжу? – вопросила Гайдэ, – Там я смогу снять Чадру.
Спустившись за стены, они пошли медленнее. Вокруг не было ни одного деревца, лишь пыльные кусты и кактусы. По широкой утрамбованной копытами дороге временами прокатывались одинокий наездник или дрянная повозка торговца, запряженная клячей. Гайдэ обернулась и посмотрела на город Сусс. Он стоял на пригорке, оползая вниз оранжевыми стенами и белыми домами. Отсюда, снизу, он казался одним большим дворцом с множеством комнат.
Вдруг Гайдэ вздрогнула. У обочины лежала мертвая собака; судя по борозде у неё на боку, она бросилась под колесо. Мухи облепили нескладный труп: жужжали, махали крылышками, с наслаждением обсиживая открывшуюся плоть. Жара стояла обыденная, и от лохматого тела шёл пар. Гайдэ, проходя мимо, съежилась, но не отвела взгляда, старательно разглядывая каждую деталь; за время проведенное в гареме дева отвыкла от ужасных картин жизни. И теперь мёртвая собака была для неё чем-то новым, неведомыми, к тому же очень живописным. Застывшие на облезлой морде страдания, стеклянные глаза; распухший язык, торчащий из полуоткрытой пасти, куда мухи стремились с особым рвением. Завораживающая картина, не правда ли?
Вот герои наши прошли уже мимо пристани. Вдалеке сидели несколько нищих, просящих подаяний: грязных и рябых, с волосами колтуном и сальными лицами, с язвами на руках и телах; живой укор всевышнему выражали оне. Их беспрестанно отгоняли подальше от деревянных прилавков, где торговали рыбой; а они всегда медленно возвращались на прежнее место. И эта живая картина показалась Гайдэ интересной; пока они шли, она ещё пару раз оборачивалась, чтобы посмотреть, чем там всё закончится.
Но вот Кирго указал на поворот, и они брели уже по степи, удаляясь всё дальше. На бесплодном пространстве, как родинки разбросаны были низкие сакли. В убогих жилищах, казалось, никто не жил и лишь изредка можно было видеть слабые не убедительные следы чьего-то присутствия.
Долог был путь, и пусть вечернее солнце уже затухало, подобно отгоревшей свече, а жар песков, тем не менее, утомлял и раздражал всё более. Наконец, Кирго показал куда-то пальцем, они сошли с дороги. Через двадцать минут нежные волны гладили ноги Гайдэ. Дева сидела у брега и самое море, будто тянулось к ней. Чадра валялась позади, смятая и забытая, как кандалы, брошенные сбежавшим узником. А Кирго разлёгся поодаль и молча любовался тем, как пустынный пляж может расцвести в присутствии лишь одной красавицы.
И так хорошо сделалось на душе у юноши, что он незаметно начал напевать странную мелодию из детства, слова которой забыл; мычанье его, становящееся всё громче, напоминающее завывания пустыни, дошло до слуха Гайдэ.
– Что за напев? – произнесла она без усилия или вздоха, смотря в морскую даль.
– Не помню – придя в себя, отвечал Кирго, набирая песок в ладонь.
– Красивый.
– Мне его мама пела… или кухарка Милима… не знаю.
Гайдэ повернула голову к Кирго, ударил ветер и раскидал её кудри. – Спой ещё – попросила она, взглянув мягкими, будто любящими глазами.
И Кирго вновь стал мычать, как телёнок. Уже громче и яснее становился его голос; иногда мелодия напоминала звуки какого-то неизвестного языка, иногда почти слова обретались в ней – так занесённые песком замки или пирамиды обнажают часть своих линий, силуэтов, смутных очертаний, когда дует ветер и песок осыпается с их краёв. Но появляются лишь вершины зданий, а сами они остаются под непроглядным слоем времени.
Гайдэ встала на ноги и с её мокрых брюк полилась морская пена. Зеленоватые капли опадали на песок и застывали в нем, подобно воску, падающему со свечи. Они также как воск неуклюже ложились на поверхность, обволакивая её. Бёдра девы обрисовывала прилипшая от воды ткань, отчего каждый шаг, сделанный ею, становился тем прелестнее, будто буква, отписанная каллиграфическим подчерком. Дева начала танцевать, бегать из стороны в сторону, грациозно махая ногами и подбрасывая вверх песок с кончиков пальцев.
Кирго сидел молча, то тяжело отводил взгляд, то неустанно следил за пируэтами. Руки его поднялись к голове, он поднёс пальцы к бровям, провёл по ним, опустив на закрывшиеся глаза, потёр веки; и, открыв глаза, медленно, дрожащими зрачками посмотрел на Гайдэ, которая, казалось, и не замечала на себе его взора.
– Гайдэ, мне нужно кое-что тебе сказать – начал юноша, вставая на ноги и отряхивая от песка шаровары.
– Говори – просто ответила она, продолжая в танце рисовать узоры в воздухе.
Как радость делает человека прекрасным, как она заразительна и полна неги – так необходимость открыть себя, для иных людей, делается тяжким бременем, омрачающим их. Голос Кирго зазвенел, сам он скрючился под тяжестью скорого неизведанного будущего; под весом ещё несказанных слов. Все грёзы, продуманные им, разом упали на него, как холодный ливень падает на осенние долины, сбивая последнюю листву с голых деревьев. К тому же Гайдэ была к нему невнимательна, что усугубляло его неуверенность. Он, точно обижался на неё, за то, что она до сих пор не догадалась о его любви. «Какая слепая ты, Гайдэ!» – промыслил юноша.
Кирго начал издалека, по обыкновению первых в жизни объяснений. Затронул свою жизнь, с его слов пустую и жалкую; описал день её появления и их первый разговор. А окончил словами благодарности за дружбу. Она вдруг стала так нежна, так робка, смущённый взгляд её зениц скользил то по его плечу, то уходил в сторону моря любоваться горизонтом, то вновь возвращался полный ещё большей неги. Она, казалось, слушала внимательно, что он ей говорил, но когда Кирго обратился к ней с каким-то абстрактам вопросом, она смолчала, смешалась, и, быть может, хотела ответить на другой, главный вопрос, который всегда задают после абстрактных.
– Я знаю… – начал Кирго и зрачки его обрамила печаль, – Знаю! Ты не можешь любить такого как я; и всё равно говорю: я люблю тебя! Хоть тело моё искалечено, но душой… До тебя я был лишь тенью, подобной той, что бесцельно ложиться на пустыню. Сердце во мне не билось; не хотелось ни свободы, ни счастья… даже мечтать я разучился. Но ты… ты всё изменила! Теперь я снова мечтаю: о свободе, о родине, о тебе. Сначала я мечтал робко и невольно, но теперь уже не могу остановиться и делаюсь всё смелее в грёзах своих. Настолько, что и теперь, имею дерзость мечтать, будто ты ответишь мне… о твоей любви. Я глупец, я знаю – я глупец… но ты показала мне волю и теперь ярмо раба тяготит. Всё вокруг сковывает, душит… так отвратительно видеть эту клетку! Всё вздор, всё несбыточно, всё глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Слушай Гайдэ, мы можем… – тут он хотел заговорить о побеге, о родине и счастье, но решил, что сначала нужно дать высказаться ей.