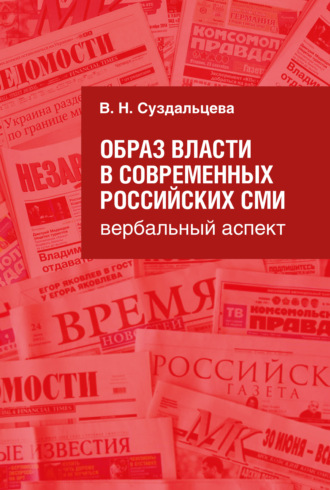 полная версия
полная версияОбраз власти в современных российских СМИ. Вербальный аспект
– о Горбачеве: детская обидчивость, «младенческие «приметы», с последствиями его «шалостей» разберутся взрослые [Козина: 15-19];
– о Е. Гайдаре и Г. Явлинском; гарвардские близняшки, графини Вишенки (героини детской книги «Приключения Чиполлино») [там же: 19];
– о С. Кириенко: детская неожиданность Сергея Кириенко; Киндер-сюрприз, очередной «знайка» [там же: 27-28];
– о Н. Белых: Топ-топ-менеджер [там же: 44].
И обо всех вместе: «бэби-бум»: «С плачевным опытом Киндер-сюрприза в России завершился стартовавший в Перестройку «бэби-бум»» [там же: 30].
Все метафоры этой группы – насмешливо-иронические. Они привносят в континуум «власть» метонимически связанные с понятием 'детство' негативные представления: 'незрелость', 'неопытность', 'неумелость'. Эти компоненты импликационала выдвигаются на первое место и программируют негативную оценочность у адресата: пренебрежение, скептицизм.
См. также: «Миклушевскому понадобились дорогие игрушки: Администрация Приморья не собирается отказываться от закупки вертолетов иностранного производства» (загол. и подзагол., Незав. газ., 20.05.14); «на фоне относительно либерального благополучия народ уяснил, что новые социальные леденцы быстро тают в кулачках…» (АиФ, 2012 № 6).
б) геронтологические метафоры. Это знаменитая метафора старцы. В советские годы в текстах андеграунда был в ходу термин 'геронтократия' – о тогдашнем руководстве страны (см.: «Геронтократия –…О правлении, верховной власти глубоко пожилых людей» [Большой толковый словарь русского языка: 201]. Тогда же в разговорной речи появилось насмешливое «кремлевские старцы» – о правительстве СССР времен застоя: Брежневе, Подгорном, Черненко и др.
[ТВЦ, События. Время московское, 11.03.05]. Эта язвительная характеристика возродилась, уже как метафора, в ходе предвыборной кампании 2011 года: «думские старцы» – высказывание М. Прохорова о Г.Зюганове и В. Жириновском (оба – депутаты Государственной думы всех созывов: с 1993 по 2011 гг.). В 2016 году, накануне выборов в Государственную Думу-7, метафора вернулась на страницы СМИ: «Судя по отчету, думские старцы поработали на славу. Новым законам нет числа» (В. Костиков. Про лошадку и прутик. – АиФ, 2016, № 28). См. там же пренебрежительные сопоставления и метафоры: «Российская политика все больше напоминает занятие фитнесом в зале для престарелых: крутятся колеса велосипедов, вверх-вниз вздымаются штанги… а молодость все равно уходит»; «…на носу важнейшее событие – выборы в Государственную Думу….Обещано нашествие новых партий и лиц. Кремль вроде бы и не против. Очень уж надоели партийные перестарки…».
С помощью метафор обеих подгрупп автор речи акцентирует несоответствие возрастной категории названного лица его официальному статусу – занимаемой высокой государственной должности. Высказывается сомнение в способности названного справляться со служебными обязанностями, Негативная оценочность обусловлена традиционным психоэмоциональным неравновесием в отношениях между старшими и младшими. Старшие часто смотрят на младших, на их действия свысока, скептически. В массмедийных публикациях роль такого «старшего» берет на себя употребивший «младенческую» метафору автор-журналист, Молодежь, наоборот, в конечном итоге, раздражают старики. Старик, старец, с точки зрения молодого, – это несовременность, отсталость и скучища. Поэтому «думские старцы» и тем более «партийные перестарки» – крайняя степень пренебрежения и инвектива. В целом метафоры этой модели – средство психологического и эмоционального принижения тех, кто назван.
3. Криминальные метафоры: братки, банда, рейдер, рейдерство, дедовщина и т. п. После 90-х гг. криминальная тема уверенно вошла в культурное пространство, стала содержанием многих художественных фильмов. Криминальная метафора оказалась новой отличительной чертой политического дискурса. О «разгуле» криминальных метафор в 90-е гг. пишет А.П. Чудинов [Чудинов: 140]. Такая метафора по-прежнему была весьма распространена в текстах о власти, в первые 10 лет нового тысячелетия особенно: «Братки в белых воротничках» (загол., Арг. нед., 29.04.07 – о невмешательстве чиновников в работу игорных домов и казино); «Дедовщина как государственный уклад» (загол., Apr. нед. 31.01.08); «Дедовщина в армии – это лишь отражение устройства нашего государства. Неуставные отношения пронизывают всю систему, начиная с самых верхов, судебных органов, силовых структур, образовательных учреждений, не говоря уже о зоне» (там же); «Наша страна – станица Кущевская» (АиФ, 2010 № 48) – метафорическое использование названия новой прецедентной ситуации; «Банду Смольного – вон из города!» – надпись на оранжевых майках антиглобалистов в Санкт-Петербурге, накануне саммита Большой восьмерки (ТВЦ, События, 04.07.06); «Более того, эта вертикаль [власти – B.C.] не может быть теневой. Не может функционировать «по понятиям»» (МК, 04.04.08) и т. п.
Криминальная среда – нравственно-этическое «дно» общества. На преступников смотрят с презрением, страхом, на раскаявшихся и нацелившихся на исправление – сочувствено. Но всегда – сверху вниз, социальные роли здесь: ПРАВЫЙ / ВИНОВАТЫЙ. Поэтому использование криминальных метафор неизменно принижает названного, Кроме того, включение криминальных метафор в смысловое пространство «власть» и регулярное их употребление в этом пространстве вводит в отношения мнимого тождества власть и криминал, с которым она борется. Происходит перераспределение сем: криминал и его представители – это власть; власть в значительной части криминальна. СМИ приучают массового адресата к такому отождествлению. Формируется образ не просто отчужденной от народа власти, но власти преступной.
4. Метафоры «строгости». Во второй половине первого десятилетия XXI в. многие россияне начали говорить о «сильной руке». Ностальгические воспоминания о временах Сталина (большинство говоривших представляло их весьма односторонне) актуализировали понятия 'строгость', 'дисциплина', 'наведение порядка'. В политическом дискурсе, в том числе и массмедийном, это отразилось в активизации соответствующей модели, куда входят и отдельные слова-метафоры, и метафорические фразеологизмы: чистка, зачистка, дрессировка, карательные меры, закручивать гайки, закручивание гаек, ежовые рукавицы и нек. др. См.: «…на первый план выходит вопрос квалификации и эффективности работы. Значит, политическая «чистка» неизбежна: бездельников в коридорах власти предостаточно» (Незав. газ., 07.11.14); «ФСБ начала зачистку Википедии» [freejournal. biz/article5465/index.html]; «Путин одобрил карательные меры» – загол. и далее: «Законопроект о карательных мерах в отношении депутатов-прогульщиков появился около полугода назад» [В-ДЕТАЛЯХ.РФ.Уралинформбюро. 04.05.2015 www.uralinform.ru/news/politics/250163]; «Президент объяснил стране, что такое закручивание гаек» (подзагол., Незав. газ., 07.09.12); «Винтики против гаек. Кончай закручивать!» (загол., Нов. газ., 09.12 – 15.12. 2004). См. данные словаря: «Подкручивать/подкрутить, закрутить, завинчивать/завинтить и т. п. гайки, гайку. Прост. Усиливать требования, делать их более суровыми с целью воздействия на кого-л.») [Словарь современного русского литературного языка в 20 томах. Т.З. 1992: 21]; «Минздрав берет курильщиков в ежовые рукавицы: Для спасения бюджета и нации акцизы на табак могут увеличить к 2015 году в 11 раз» (загол. и подзагол., Незав. газ., 09.10.12) и т. п.
Однако российскому сознанию и российскому характеру свойственно сопротивляться всякому, даже разумному, насилию и не любить того, кто давит. Реакция на насилие – внутреннее сопротивление при внешнем подчинении, недовольство, неприязнь, гнев. Поэтому все метафоры данной модели – негативнооценочные, с оттенками эмоций: от неодобрения (см. приведенные выше примеры) до ненависти. Например:
– дрессировка: «Этот новый телевизионный народец очень удобен для власти. Ему разрешено думать, но нельзя говорить… Ему можно голосовать, но нельзя выбирать, Он может любить Родину, но не имеет права критиковать ее… Результаты такой телевизионной дрессировки уже видны…» (АиФ, 2014 № 23);
– цепные псы: «…границы, которые расставляет вокруг куль турного пространства власть в лице своих цепных псов…» (Эхо Москвы, 30.06.12) и нек. др.
Социальные роли здесь: НАЧАЛЬНИК / ПОДЧИНЕННЫЙ, где НАЧАЛЬНИК – это власть, а ПОДЧИНЕННЫЙ -народ, в который входит и пишущий журналист. Это уже взгляд «снизу вверх», но взгляд не уважительный, не подобострастный, а недоброжелательный, ожесточенный – взгляд человека, вынужденного подчиняться.
Навязанное подчинение обусловливает, в свою очередь, презрение к тем, кто так же послушен, хотя мог бы протестовать. Отсюда – новая для отечественных СМИ формула метафорического переноса, связанная со строгостью, – пренебрежительное или презрительное обозначение результата строгости. Чаще всего оно выражено эпитетами: послушное большинство, послушный парламент, послушная Дума, ручной парламент, карманная Дума и нек. др. Например: «Возникла властная вертикаль, отменены выборы губернаторов, отстроены послушная Дума и телевидение» (Арг. нед., 31.05 – 06.06. 2012); «Большинство в парламенте позволяет ему [президенту В.В. Путину – B.C.] продвигать любые законодательные новации через послушный парламент…» (Вр. нов., 11.12.03); «Сегодня Госдума абсолютно «карманная»» (Ю. Грымов, режиссер, на ТВ РБК в передаче «Тема», 26.12.12) и т. п.
4. Метафоры «болезни». Эта модель – одна из самых «старших» в журналистских материалах, посвященных социальным и политическим проблемам. О.П. Ермакова высказывает предположение, что метафоры этой группы возникли под влиянием английских философов Ф. Бэкона и Т. Гоббса [Ермакова 2000: 51] и связывает такие переносы с идеей «уподобления общества живому организму со всеми его особенностями» [Ермакова: 51]. Исследовательница указывает на использование метафор этой тематической группы в произведениях авторов XIX века, которые писали о болезни русского общества: Герцена, Белинского, Салтыкова-Щедрина и далее – в сочинениях Н. Бердяева [Ермакова: 52]. А.В. Темирканова ссылается на американского ученого М. Осборна, который относит метафоры болезни к архетипическим метафорам, т. е. таким, которые опираются на универсальные архетипы [www.pglu.ru/publikations/University_Readling/2008/II/ush_2008II_00058.pdf].
Социальные роли здесь: ВРАЧ, КТОРЫЙ СТАВИТ ДИАГНОЗ / ПАЦИЕНТ Врач – автор речи, журналист; пациент – власть, ее представители, Россия – поле ее деятельности. Большинство метафор, входящих в эту модель, идет, как уже отмечалось, к тому, чтобы стать газетными оценочными штампами. Таковы регулярно употребляемые: бацилла, вирус, доза, инфекция, интоксикация, эпидемия, паралич и нек. др. Однако контекстные способы обновления этих метафор, в первую очередь за счет расширения сочетаемости, интенсивизируют и оценочность, и присущие данной ролевой ситуации эмоциональные нюансы, например:
– вирус чуровщины: «Когда к финалу не допустили Севару, певицу уникального дарования, стало ясно: вирус чуровщины распространяется на любые выборы» (Нов. газ., 12.12.12);
– доза, передозировка: «Не получится ли так, что при дальнейшем увеличении дозы вранья от передозировки умрет и наше младенческое общество?» (АиФ, 2011 № 8);
– выживаемость: «Эксперты оценили уровень выживаемости глав регионов. По отдельным – есть большие вопросы» (Екатерина Лазарева «Каждый несчастливый губернатор несчастлив по-своему» – URA.RU 26.11.2015 ura.ru/arti-cles/1036266411]).
В большинстве случаев журналист, «ставя диагноз», смотрит на «пациента», т. е. на власть, «свысока» и созданная метафора содержит негативную оценку с всевозможными оттенками негативных эмоций: «В России эпидемия официального оптимиза» (АиФ, 2007 № 33) – противоположно направленная оценочность существительных (эпидемия – негативная, оптимизм – позитивная – своего рода «оценочный оксюморон») создает язвительную ироничность; «Специалисты Независимого института социальной политики… считают, что это результат интоксикации российской экономики нефтегазовой наркотой» (АиФ, 2013 № 16) – пренебрежение, презрение; «Вот просто начинается бешенство, слюнотечение и обмороки при слове «иностранный грант»» (Известия, 20.11.12). В последнем случае модель пополняется метафорическими же обозначениями симптомов болезни, которые в контексте политики становятся инвективами. Метафорическая цепочка не просто выражает неприязнь, злобу, гнев, но и желание унизить, оскорбить. В каком-то смысле журналист, использующий метафоры этой модели, выступает одновременно и в роли священнослужителя, так как, с точки зрения религии, болезнь – это наказание за грехи. См. об этом, например, в исследовании концепта «болезнь» в русских говорах Приамурья Н.Г. Архиповой: «Гордыня, высокомерие, презрение других, крайний эгоизм ведут к болезням душевным, а от них к физическим. Шанс излечиться предоставлен только через покаяние и смирение» [www.amursu.ru/attachments/article/9492/a2_Архипова3.pdf]. Тот, кто констатирует болезнь, устанавливает диагноз, имплицитно упрекает в греховности того/тех, кто в этой болезни виновен, т. е. власть.
В отдельных редких случаях «врач» – журналист – сочувственно и заботливо относится к «пациенту». Таковы метафорические цепочки в некоторых передовых статьях А. Проханова, например: «Эти раны, эти кровавые порезы, истерзавшие Россию от Уренгоя до Ставрополя, надо лечить немедленно, не теряя ни дня. Здесь драгоценны все рецепты, все медикаменты, все целебные практики. Кроме тех, что сыплют соль и поливают уксусом эти обнаженные раны, вгоняют скальпель все глубже в кричащее от боли тело» (Завтра, июль 2013 № 29).
Итак, подведем итоги. В социально-иерархической модели мира, как уже было сказано, власть находится на самом верху. и в идеале такое же верхнее положение она должна занимать и в отношении интеллектуальном, профессиональном, нравственно-этическом. метафоры, связанные с представлением «верх/низ», «вверху/внизу», «высокое/низкое», бытующие в политическом и массмедийном дискурсе первых 16 лет XXI столетия, дают иную картину. Денотативные области, из которых черпаются метафоры, и импликационал метафоризируемых слов работают на «понижение» объекта метафоризации, т. е. власти. Это: – профессиональный и интеллектуальный «низ»: школьные метафоры, метафоры инфантилизма, геронтологические метафоры;
– нравственно-этический низ: криминальные метафоры;
– эмоциональный низ: метафоры строгости (строгость, равняющаяся с жестокостью и безразличием к людям и принуждающая к недобровольному подчинению).
Это «дно», таящее угрозу для общества: яма, пропасть, провал и т. п.; «дно», чреватое страданиями и гибелью: метафоры болезни.
В результате перед читателем предстает модель мира, отдельный важнейший фрагмент которой – российская власть – диаметрально противоположен идеальному образцу, то есть перевернутая модель мира. Наполнение континуума «власть» единицами лишь одной из двух смысловых групп ориентационных метафор, т. е. метафорами «низа», и метафорами, в которых выражается «взгляд свысока», обеспечивает устойчивое негативное восприятие власти. Метафора становится средством создания негативного образа власти и помогает манипулировать общественным сознанием.
2.8. Лексика элятивной семантики
Лексика элятивной семантики – вербальные единицы, в ядро семантической структуры которых входит сема 'очень', придающая слову элятивное значение: не хороший, а прекрасный, не способности, а гениальность, не плохой человек, a мерзавец, не большой, а гигантский, не прозорливый, а провидец, не страдалец, а великомученик, не намного больше, а неизмеримо больше и т. п. Главная способность этих слов – создавать эффект гиперболизма, который является одним из способов эмоционально-психологического воздействия. Изданный в 1907 «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» Ф. Павленкова так объясняет значение слова гиперболизм: «…Хватающая через край преувеличенность или фигуральность» [dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/14946/гиперболизм]. В.П. Москвин, цитируя А.С. Бушмина, видит назначение гиперболизма в том, чтобы «ярко выделить», «крупно выставить те или иные стороны предмета», усиливая оценку, иронию [Москвин: 198]. Следовательно, гиперболизм следует считать одним из способов акцентирования в конструировании оценочной интерпретации картины мира. К приемам создания гиперболического эффекта можно отнести, на наш взгляд, прием «сияющего обобщения» (о нем пишут исследователи социальной психологии, изучающие особенности внушающего воздействия). Суть его заключается в сдвиге в системе обозначений. А именно. Для называния какого-либо явления или какой-либо личности из синонимического ряда выбирается слово наиболее общей семантики, обладающее интенсивно выраженной эмоциональной окраской, обычно положительной [Крысько 2003: 311]. «Сияние» сверхэмоциональности доминирует, «ослепляет» адресата, не дает увидеть темные стороны обозначенного источника «сияния» и адекватно его оценить. Так, солнце все земляне видят как сияющий золотой шар, его интенсивное излучение не дает различить без специальных оптических устройств темные пятна на нем. Подобно этому слова элятивной семантики являются теми обозначениями, которые «поглощают» возможность неоднозначного отношения к названному: выраженная в них исчерпанность проявления свойства, признака обладает большим суггестивным потенциалом и притупляет способность реципиента к обдумыванию полученной информации. Семантике элятивности неизменно сопутствует оценочный компонент, причем не только положительный, но и отрицательный. В результате реципиент автоматически принимает и эту оценку.
В современных СМИ обращение к лексике элятивной семантики – особенность индивидуального стиля главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова. В качестве примера приведем фрагмент статьи «Святомученик Иосиф» (Завтра, январь 2013, № 4):
«Кто такой Сталин вчера, сегодня, завтра? Сталин вчера, реально существовавший Сталин, – это суперреалист. Человек, который блестяще знал и понимал реальность в ее динамике, в движении. Он оперировал колоссальным количеством фактов, явлений, умел эти факты выстраивать, умел их предвидеть, Он создавал комбинации из огромных массивов реальных явлений, как внутрироссийских, так и мировых, Причем в эту реальность были включены его знания о метафизической сущности. Ведь это была не просто реальность, двухмерного мира, двухмерной среды. Но еще и запредельная, это было знание о той реальности, которая складывается на небесах, а потом проецируется в земную жизнь. Где и совершаются войны, революции, судебные процессы, строительство гигантских заводов, освоение территорий и происходят такие события, как великие победы, а также великие поражения. Все это – проекция явлений, происходящих в иных мирах. Владея этим гиперреализмом, Сталин обыграл всех своих противников… Для этого надо было быть кибернетиком, гиперстратегом». Употребленные здесь характеристики качеств Сталина – слова с приставками элятивного/суперлятивного значения: суперреалист, гиперстратег, гиперреализм, Рассказ о поле его деятельности изобилует определительными словами с семой'очень': блестяще знал, колоссальное количество, огромные массивы, гигантские заводы, великие победы, великие поражения, запредельная реальность, мировые явления, – а также другими словами, обозначающими предельную выраженность признака: массивы, обыграл всех своих противников. Здесь же – метафоры-конфессионализмы, которые, как уже было отмечено (с. 169), способны не просто выражать положительную оценку, но и представлять названное лицо как фигуру сакральную, возвышающуюся над всеми. Это заявлено в заголовке: «Святомученик Иосиф» и развивается далее в тексте в метафорах данной модели с предельной степенью выраженности положительной оценки:
«реальность, которая складывается на небесах»; «явления, происходящие в иных мирах», «…сегодняшний Сталин – это монастырь, в котором сберегается русский народ, где он лечит свои раны… Монастырь, куда он сносит свои святыни, скрижали, реликвии. Где он молится, готовится к новым сражениям. Монастырь, из которого по подземным ходам выбирается в поле и там бьется, сражается, наносит удары по врагу». Здесь особенно отчетливо проявляются характерные особенности приема «сияющего обобщения»: верность памяти Сталина и надежда только на него позиционируются как единственный путь к нравственному спасению и духовному возрождению нации. Развернутый метафорический образ апеллирует к архетипическому оценочному отношению к понятиям монастырь, святыни, скрижали, реликвии, молиться. Авторитетность метафорического образа воздействует на реципиента на эмоциональном уровне и воспринимается частью массовой аудитории как единственно верная оценка.
2.9. Генерализующие высказывания в арсенале воздействующих средств СМИ
«Homo homini lupus est» (т. е.: «Человек человеку – волк») и: «Человек человеку – друг, товарищ и брат». Эти высказывания противоположны по смыслу: смысл второго опровергает смысл первого. Но каждое из них воспринимается как некое истинностное суждение, обобщающее жизненный опыт, как мудрость, применимая к разным ситуациям. Фразы построены по одной и той же лексико-синтаксической модели, с заменой лишь последнего – предикативного – компонента. Однако суждения, заключенные в каждом из выражений, – взаимоисключающие. В «Большом словаре крылатых слов русского языка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко и С.Г. Шулежковой, где дается происхождение обоих высказываний (первое – фраза из «Ослиной комедии» Плавта – римский комедиограф, 250-184 г. до н. э.; второе – «пословица, образованная на основе декларативного призыва из Программы КПСС, принятой на XXII съезде этой партии в 1961 г» [Берков, Мокиенко, Шулежкова 2005: 539]), отмечено, что второе высказывание возникло «в результате антонимического «отталкивания»» [выделено нами – B.C.] от первого [там же: 539]. За счет чего носитель языка может воспринять мысль, выраженную в каждой из этих фраз, как некую непреложную истину?
В научной литературе не раз отмечалось, что авторитетность источника, авторитетность автора речи относятся к числу факторов, которые обеспечивают доверие массового адресата к полученной информации [КРЫСЬКО 1999 www.evarist.narod.ra/tex19/001.htm] и фидеистическое ее восприятие. В фидеистическом отношении к авторитетному слову видит Е.И. Шейгал когнитивную основу авторитарного дискурса [ШЕЙГАЛ 2004: 61] и напоминает М.М. Бахтина, который характеризовал такое отношение к чужой речи словами «благоговейное приятие авторитетного слова» [там же: 61]. Важно отметить, что авторитетным и, следовательно, стимулирующим принятие информации без ее рационального осмысления, может быть не только автор речи – авторитетными могут быть и сами по себе средства языка: интонация, семантика побудительности/долженствования, а также некоторые единицы речи. К последним относятся прежде всего высказывания с семантикой обобщенности, или генерализующие высказывания (они же – универсальные [Гаврилова 1986:56]; они же – обобщающие [Сластникова 1992: 3]; они же – генеритивные [Завьялова 2002: 3]. Генерализация (от лат. genera – ‘общий’) – это «мысленное выделение каких-либо свойств, принадлежащих некоторому классу предметов, и формулирование такого вывода, который распространяется на каждый отдельный предмет этого класса, переход от единичного к общему, от менее общего к более общему» [Энциклопедия социологии: 2009 wwwpsyoffise.ru/5-socio-620]. Например: «Человеку свойственно ошибаться» (марк Анней Сенека); «Больше всего говорит тот, кому нечего сказать» (Л. Толстой); «Где слабый ненавидит – сильный уничтожает» (А. Грин); а также: «Самое страшное, когда ты становишься начальником, – ответственность» (Нов. изв., 08.10.15); «Звать в бой должны генералы, а не служители Бога» (НГ Религии, 07.10.15); «Не любить власть – все равно что не любить жизнь» [Вл. Сурков (псевдоним Натан Дубовицкий) rubook.org/book.php?book=162753] и т. п. В русском языке давно сложился специальный набор разноуровневых средств, взаимодействие которых служит для выражения генерализующих смыслов. Это: а) местоимения обобщающей семантики: всякий, каждый, любой, весь, все – так называемые «кванторы общности» [Шмелев 2002: 81]; б) личные местоимения мы, ты в обобщенном значении;



