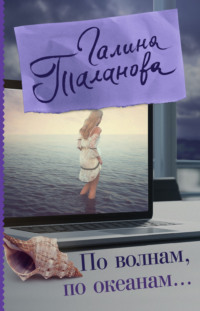Полная версия
Красная Луна
Она будто превратилась в пластмассовую куклу, которая может шевелиться только с помощью чужих рук, а внутри дрожь и обморок, в зажмуренных глазах кромешная тьма и ни одной звёздочки, чужое горячее дыхание прижимает её к земле, точно страх взрывной волны… И кажется, что всё это только тяжёлый сон, поскорее проснуться – и всё кончится: она лежит в мягкой постели, обнимая плюшевого мишку, прижимая его к своей груди, точно ребёнка… С мягкой игрушкой ей не так страшно засыпать, когда комната погружается в ночную тьму…
…Огненный шар взорвался у неё между ног, разбившись на мелкие осколки, больно впившиеся в её нежные внутренности. Олеся закусила губу, чтобы не закричать. Почувствовала солёный вкус крови на пересохшем и разбухшем языке… От обивки сиденья муторно пахло пылью и бензином. Ей показалось, что они несутся куда-то опять на большой скорости по ухабам – и у неё было единственное желание, чтобы эта дорога закончилась поскорее и она могла бы глотнуть свежего воздуха, которого ей здесь не хватало. Она чувствовала, что жар хлынул в её тело и добрался до головы, дышит ей в лицо, как Змей Горыныч, затягивая горло удушьем от шерстяного свитера… Она откинула голову вбок и смотрела на медленно покачивающийся потолок, который сейчас ей казался поверхностью воды… Она будто лежала под ее мутной толщей, придавленная тяжёлым грузом, и не имела никакой возможности всплыть и глотнуть воздуха… Последние мелкие пузырьки, срывавшиеся с её губ, поднимались вверх и представлялись ей теми же осколками от разорвавшегося внутри неё шара. Она закрыла глаза – и отдалась стихии, которая потащила её по острым камням, обдирая до крови тело и душу…
Внезапно её вынесло на берег. Она лежала почти бездыханная, не в силах пошевелиться… Рядом с ней валялось такое же безжизненное тело немолодого мужчины, в которого она была влюблена… Она больше не чувствовала любви к нему; любовь, потянувшая её камнем на дно, осталась где-то там, среди зыбких водорослей растерянности, стыда, страха и боли…
Она думала тогда, что камни не всплывают… Но оказалось, что реки мелеют и вода уходит…
Она потом решила, что, если бы не эта её первая любовь, ворвавшаяся с осенним промозглым ветром, её жизнь сложилась бы иначе… Она была неопытной, наивной и романтичной девочкой, которой хотелось встретить идеал, любимого человека, с которым можно будет счастливо прожить до конца дней, обзаведясь детками… Умного, заботливого, надёжного…
Чужие пальцы быстро перебирали её позвонки, точно кнопочки аккордеона…
– Ты моя малышка!
Аккордеон молчал… Ошеломление от случившегося парализовало её. Она лежала, будто птица, принявшая стекло за небо, которое в нём отражалось… А облака продолжали плыть по окну медленно и бесстрастно, не зная о том, что им суждено: развеяться или собраться в фиолетовые тучи, похожие на гематому.
«Как он мог, он же немолодой преподаватель, и у него есть жена? – подумала она. – Зачем?» Кожаное сиденье пахло бензином и пылью. К ней возвращались запахи и звуки внешнего мира. За окном раздражённо каркала ворона: «Дура! Дура! Беги скорей!»
Но она никуда не побежала. Лежала рядом с Олегом, пытаясь подавить в себе растущее чувство неловкости, и даже не пробовала привести себя в порядок. Так бывает у семейной пары, прожившей долгую жизнь… Олег бережно поправил на ней скомканную и задранную одежду, поцеловал в мокрый висок, откинув прядку с её лба:
– Прости меня, какое-то затмение нашло. Одну лишь тебя вижу. Только ты перед глазами. Околдовала, точно лесная нимфа…
Собрал её ещё тогда длинные волосы в кулак, а потом закинул себе на лицо и зарылся в них, будто умываясь родниковой водой. Он снова и снова опускал пряди на кожаное сиденье, которое, как казалось Олесе, прилипло к ней, и опять плескал ими в лицо…
12После той поездки Олег Борисович сказал ей:
– Малыш! Ты же понимаешь, что не надо афишировать наши отношения…
Так у неё появилась тайна. Если раньше она всячески старалась обратить на себя внимание, то теперь она сидела на занятиях с непроницаемым лицом, напряжённая, как на экзамене, упорно отводя взгляд от своего преподавателя. Она перестала им восхищаться и старалась ничем не выдать свою любовь, хотя её просто распирало от желания поделиться с девочками. Иногда она наталкивалась на взгляд Олега, чёрный, будто глубокий колодец, в котором отражается луна, – и тогда мгновенно летела в темноту на дно, как ведро, привязанное на цепи, – и всё в ней звенело от счастья… Она почему-то была уверена, что это ещё не конец. Это только начало – и она ещё дождётся тех дней, когда будет под ручку шагать с красивым профессором, ни от кого не скрываясь…
До отъезда оставалось два дня. Вечером она вышла прогуляться напоследок до реки – и натолкнулась на пустынной околице на Олега. Выслеживал ли он её или она столкнулась с ним случайно, Олеся не поняла.
– Гуляешь? Возьмёшь в попутчики?
Пошли по просёлочной дороге, спускающейся к осенней реке, казалось, окрашенной кровью… Багряные листья, освещённые багровым солнцем, отражались в равнодушной воде – и мерещилось, что в реку падают капли крови, растворяясь в ней и меняя её оттенок. Уже холодное солнце смотрело в щёлочку затёкшим красным глазом, под которым расплывался здоровенный лиловый фингал…
Шли рядом, но каждый по своей колее. Резиновые сапоги засасывала развезённая дождями дорога – и идти было тяжело, ноги приходилось вытаскивать из месива с налипшими на них килограммами светло-коричневой глины. Она выбралась на обочину и пошла по траве, которую здесь не косили, путаясь в чертополохе, цепляющемся не только за брюки, но и за рукава её синего свитера, когда она разгребала колючий кустарник руками. Увидели яблоню, совсем не дикую, на которой висели огромные яблоки, сантиметров по десять в диаметре, – и оба, как по команде, кинулись их рвать в пакеты, которые случайно оказались в карманах.
– Интересно, откуда она здесь? Кто-то явно посадил… Для нас. Символично очень. – Олег достал из кармана ветровки носовой платок в синюю крупную клетку, вытер им яблоко и сочно захрустел. Два раза откусив с одной стороны, протянул ей:
– На, кусни с другого бочка, вкуснотища!
Она засмеялась и укусила яблоко прямо из его руки. Сладкий сок потёк по губам и закапал на ключицу, видневшуюся в растянутом вороте свитера. Олег наклонился и снова откусил от яблока. Их носы соприкоснулись – и сердце сладко заныло. Яблоко полетело на землю, точно маленький резиновый мячик, и закатилось в бурые колючки ежевичных кустов.
Проворная змейка чужого языка слизала каплю сока на её ключице и принялась облизывать её подборок, а потом перепорхнула к губам… Сумеречное осеннее небо, по которому катились шарики розового мороженого, оставляющие после себя натёкшую лужицу, опрокинулось на её лицо… Губы Олега пахли яблочным соком – и она становилась пчёлкой, учившейся собирать нектар. Заполнять им соты она так и не научилась за всю жизнь. Проворная змейка исследовала потайные складки её тела – и сладко ныло и вибрировало теперь не только её сердце…
Перед отъездом домой местные жители устроили для них прощальную вечеринку, где деревенские бабушки пели частушки:
«Глянь-ка, миленький, на небо,После неба – на меня.Как на небе тучи ходят,Так на сердце у меня…»Олеся слушала заливистые частушки, что пелись старческими дребезжащими голосами, и ей казалось, что горло этих бабулек – будто треснувший, но ещё не расколовшийся кувшин, льющий песню и омывающий ей не затянутые раны. Слёзы блестели на её глазах, точно дождевые капли, что спрятались в скукожившемся и свернувшемся в трубочку осеннем листе, что никак не отлетит от ветки. Как она будет жить дальше?.. Что скажет мама, если узнает? Она уж точно расстроится и будет против её любви, налетевшей, как осенний шквалистый ветер, срывающий одежду, холодным ужом заползающий под рубашку и пахнущий упавшими яблоками с коричневыми вмятинами и трещинами на боках, в которых копошатся муравьи.
Луна не светила в тот последний вечер. Бабье лето кончилось, от земли тянуло сыростью и холодом, и она чувствовала себя пылинкой, вроде семечка одуванчика, что случайно прицепилось к рукаву Олега.
13У Олега Борисовича была квартира, оставшаяся ему от родителей, которую берегли для дочери и не спешили сдавать, так как успели сделать в ней плохонький ремонт…
В первые же дни после возвращения в город Олег привёз её туда – и она не сопротивлялась, снова попавшая под власть его голоса, певшего на лекциях кантаты о высоком. Она опять смотрела на него восторженными глазами, посылая ему своей серебряной авторучкой солнечные зайчики. Вновь находила его сходство с «Демоном» и думала с горечью о том, что, должно быть, это не только внешнее сходство… Сопротивляться его притяжению она не могла. Так, наверное, бывает у альпинистов, которые карабкаются по отвесной скале, неловко ставя носочек ноги в небольшие углубления в скале… Ради чего? Впереди перед глазами только серый холодный камень, а оглянуться и посмотреть назад с высоты птичьего полёта – рискуешь сорваться и полететь камнем вниз… Может быть, можно будет посмотреть вниз потом, если докарабкаешься до вершины? Только уже белый туман окутывает газовым облаком гору, навёртывает слой за слоем полупрозрачную ткань – и вот уже очертания мира, в котором ты недавно парил, можно разглядеть только в своих воспоминаниях. Но пока это лишь догадка, и нужно взбираться выше и выше, долбя себе маленькие и ненадёжные ступеньки в отвесной крути, уходящей в поднебесье.
Это был какой-то морок, розовый дым… Он позвал её первый раз на квартиру посмотреть старинные книги, оставшиеся от деда, но она знала точно, что зовут её не за этим… Но всё равно пошла… Она опять глядела на него на лекциях широко распахнутыми глазами, но кроме восхищения в них уже поблёскивал магнит собственника: притянуть и не отпускать от себя, стать с ним единым целым…
Встречи были недолгими, рваными и скомканными… Олег торопился домой, не стесняясь её, разговаривал с женой, хотя и очень лаконично, жестом призывая её помолчать… Тогда не было ещё мобильников и жена не очень им докучала: Олегу достаточно было не брать трубку в квартире… Мало ли в какой библиотеке он мог быть… Договариваться о встрече им было довольно трудно. На работе глаза и уши… Дома у неё ревнивая и бдительная мама, у него – жена и дочь… Она звонила иногда на кафедру из телефона-автомата, пробежав c полквартала в поисках работающего аппарата… В большинстве автоматов телефонные трубки были оборваны и телефонный провод болтался почерневшей виноградной лозой… В некоторых, вроде, всё было цело, но когда она с замиранием сердца набирала заветный номер, готовая бросить трубку, как вспыхнувшую в руках бумагу при розжиге костра, если услышит голос его жены или дочери, то натыкалась на глухое молчание, которое иногда нарушал шум, похожий на рокот волн… Звонить же из дома она опасалась вообще и делала это только в отсутствие мамы… Хотя иногда она выжидала момент, когда мама шла принимать душ, – и тогда она звонила своему любимому. Или же мама ложилась отдыхать – и она тянула длинный чёрный провод, весь перекрученный в запутанные петли так, что на всю длину его вытянуть было давно невозможно, через всю комнату и коридор в ванную, пускала воду, включала газовую колонку, чтобы она шумела, точно доменная печь, и только после этого звонила Олегу. Сам он не звонил ей никогда – и это её устраивало: не было маминых въедливых вопросов, на которые она совершенно не знала, как отвечать, ибо врать не умела: научилась только скрывать и умалчивать… Впрочем, вскорости Олегом была предложена такая схема: она берёт трубку и говорит: «Я вас внимательно слушаю», – и тогда он будет знать, что это действительно она, а не её мама… У них с мамой были удивительно похожие голоса, которые многие путали… Если же к телефону подходит мама и произносит другие слова, то он просто кладёт трубку… После нескольких таких кодированных звонков Олег научился отличать Олесю по какому-то одному ему ведомому тембру её голоса: больше их с мамой не различал никто… Но разговаривать им всё равно было неудобно. Олеся отвечала всегда очень односложно, прикрывая трубку рукой, точно голос Олега мог выпорхнуть из неё, словно птица из клетки, и полететь по комнате…
Через два месяца их близости Олеся уже не могла воспринимать свою любовь как случайную… Она всерьёз стала мечтать о том, чтобы Олег развёлся и стал её мужем, но никогда не говорила ему об этом… Иногда она думала о том, что такой брак будет не так уж хорош, когда Олег начнёт стареть. Однажды она увидела жену Олега. У Олега была на кафедре презентация какой-то его литературоведческой монографии, после которой он устраивал небольшой банкет, и, видимо, пригласил свою половину помочь. Олеся была очень удивлена, когда увидела его жену: выглядела та значительно старше Олега: располневшая седеющая женщина с подкрашенными в цвет пшеницы волосами, собранными в пучок сзади, из которого вылезали, точно гвозди из сгнивших половиц, чёрные шпильки… На висках натянулись струнами не прокрашенные седые прядки, похожие на паклю… Очки в роговой коричневой оправе с крупными стёклами, за которыми прятались какие-то бесцветные водянистые глаза (Олеся потом никак не могла вспомнить их цвет) в обильных лучиках морщин, расходившихся от век серой паутинкой матовых теней… Была она в брюках, хотя преподаватели-женщины в университете в брюках в те времена не ходили, и какой-то бордовой кофточке с чёрными разводами… Олеся увидела её, когда она тащила по коридору увесистые полиэтиленовые пакеты, нагруженные едой. Видно было, что женщине тяжело их нести, и она даже подумала, что Олег поступает нехорошо, заставляя жену таскать такие нагруженные сумки. «Бабушка прямо! – удивилась тогда Олеся… – И как он только с ней живёт?»
В тот период их отношений она не осмеливалась даже спросить его про жену и уж никак не решалась жаловаться на своё бесправное положение… Жила лишь призрачной надеждой, что однажды всё поменяется… Она слышала о том, что во многих творческих парах кто-то парит в облаках и пытается ухватить звезду с неба, а кто-то держит лестницу, чтобы партнёр не упал. Подумала тогда, что, может быть, его жена и является тем человеком, который держит лестницу… Ведь они столько лет живут – и лестница, если и шатается, но стоит…
И всё же, даже увидев супругу Олега, она была совсем не уверена, что ей удастся развести его… И разве она сможет удержать лестницу? Она маленькая для этого. А взбираться по лестнице – у неё кружится голова, и она сама ещё совсем не может жить без страховки… Лестница обязательно упадёт – и придавит её. Думала ли она тогда, что вся её жизнь сложится так, что её лестницу не будет держать никто и никогда… Она всегда сама будет ставить её в чавкающий глинистый грунт, осторожно проверять, не шатается ли стремянка, но, без страха перешагнув пару ступенек, начнёт понимать, что лестница проваливается одной ногой в мягкий грунт и уже сильно накренилась, так сильно, что она рискует упасть вместе с ней, хватаясь руками за воздух…
14Когда у Олеси случилась задержка, то она страшно испугалась. Думала: «Что теперь будет? Как сказать маме, если она решится рожать? Как воспримет это её немолодой и семейный возлюбленный?» Шла по весенней улице – и слёзы наворачивались на глаза, словно капель стекала с крыш, обласканных мартовским солнцем. Было тревожно… Под ногами был скользкий лёд, в который превратился подтаявший под первым тёплым солнцем снег… Почти белое, как дневной электрический свет, солнце лизало сугробы, точно мороженое, по тротуарам текли первые ручьи, звенящие хрустальными колокольчиками. Жизнь перевернулась – и так неожиданно, словно песочные часы, поставленные с ног на голову. Она решила, что сначала всё точно узнает о своём состоянии, а потом уже скажет Олегу. Она даже не знала, где у них женская консультация. Нашла по телефонному справочнику адрес. В первый раз в жизни пошла к гинекологу и долго блуждала по закоулкам, пока отыскала серое обшарпанное здание поликлиники.
Со страхом вошла в это здание, поблёскивающее оконными стёклами, точно зеркалами, пытающимися тебя ослепить… В регистратуре на неё завели карточку, и она получила талончик, написанный от руки на газетной бумаге. Около нужной ей двери в самом конце коридора она увидела большую очередь. Притулилась в конец очереди к врачу, опасаясь встретить кого-нибудь из соседей. Хотелось прилипнуть к стенке – и стать тенью… На душе было пакостно…
Через два часа, прочитав все двенадцать страниц брошюры, которую она взяла в свободном доступе на столике около регистратуры, содержащей подробное описание разного рода контрацептивов, она наконец постучалась в кабинет врача и открыла дверь, не дождавшись его ответа, зажав под мышкой своё пальто.
– Здравствуйте, – еле слышно, замирая от неловкости и страха, поздоровалась Олеся с врачом, писавшим в чьей-то разбухшей карточке… Врач был мужчина лет пятидесяти с редкими седеющими волосами, среди которых блестел кратер лысины…
– Почему с одеждой? – спросил он. Вы что, не знаете, где находитесь?
– Простите, я не знала, где гардероб, – сжавшись от смущения, пролепетала Олеся, чувствуя, как кровь приливает к щекам, и они становятся горящими, как после пощечины.
Положила неловко скомканное пальто на стул рядом с кушеткой.
– На что жалуетесь?
Растерявшись и не зная, как сказать о своём подозрении, Олеся начала судорожно соображать, как правильно выразиться.
– Вы что, первый раз у гинеколога? – почти закричал врач, посмотрев на неё так, что ей захотелось провалиться сквозь землю. Сердце закололо от страха и жалости к самой себе.
– Первый. У меня беременность, наверное, – всхлипнула Олеся.
– Раздевайтесь ниже пояса, – раздражённо буркнул врач, щёлкнув шариковой ручкой, убирая в неё стержень, и отложил свои записи.
15После посещения кабинета врача она позвонила Олегу… Будущее для неё теперь заволокло густым туманом – и она шла на ощупь, обшаривая растопыренными пальцами предметы… Она успокаивала себя, что большой и сильный Олег непременно разведёт этот туман рукой – и снова на землю хлынет яркое весеннее солнце, слизывающее своим горячим языком остатки снега… Она находилась будто внутри сферы с толстыми стенками, искажающими и размывающими весь мир.
Встретились они тогда в скверике у памятника Пушкину. Шёл сильный снегопад. Хлопья парили клочками ваты и пуха из разорванных одеял и подушек, засыпали уже осевшие и посеревшие сугробы, возвращали ту чистоту, что бывает в начале зимы.
Когда она подходила к памятнику, Олег расхаживал взад-вперёд, словно маятник, видимо, чтобы согреться. Его ссутулившуюся фигуру, напоминавшую знак вопроса, она увидела издалека – и почти побежала, перепрыгивая тёмные лужи, наполненные кашей тающего снега, перемешанного с песком. Брызги летели из-под её каблучков, но она не обращала на это внимания. Кинулась в распахнутые объятия: руки, как два крыла чёрной птицы, готовящейся взлететь… Уткнулась лицом в мягкую дутую куртку, будто кинулась навзничь на подушку, сдерживая и заглушая плач…
– Ты моя радость! Я так соскучился!
– Я беременна!
Олег от неожиданности разжал объятия. Она еле удержалась на ногах и стояла с бессильно опущенными по бокам руками, похожими на две плети.
– Ты уверена? Была у врача?
– Конечно была.
Олег замер, растерянный, глаза за толстыми стёклами очков больше не излучали свет, а казались жучками, ползающими между двойными рамами и не знающими, как выбраться из ловушки… Схватил её обеими руками за рукавчики пёстрой песочной шубки, пошитой из сурка. Шубка была старая и холодная, ещё мамина, но зато из настоящего меха: маленькие, жёлтые, в коричневых пятнышках шкурки отливали серебром под светом фонаря, который качал забинтованной головой, колеблемый ветром.
– Заяц, ты же понимаешь, что тебе надо закончить университет… А я могу лишиться работы – и тогда даже помочь тебе ничем не смогу. Если всё это выплывет наружу… Ты же у меня умная девочка – и не будешь портить себе жизнь! Эта проблема решается просто. Выход только один. Надеюсь, что твоя мама не знает об этом? Мне кажется, что не надо её расстраивать. Иди ко мне…
Олеся помнит, как она снова зарыла своё лицо в его куртке, будто спряталась от внешнего мира, а Олег нежно и успокаивающе гладил её вздрагивающие плечи.
– Ну что ты, девочка моя! Всё образуется. Это у всех женщин бывает. Это не страшно… У тебя вся жизнь впереди, и не надо её портить.
Они ещё с полчаса побродили по вечернему городу, освещённому цветными огнями вывесок и реклам. Олег заверил её, что постарается помочь деньгами, если надо будет при операции, но настаивал, чтобы она шла в государственную больницу, а не к частнику…
Снег сыпал и сыпал, словно пытался завалить их следы на белом покрове: один поменьше, раздвоенный, с печатью от каблучка; другой большой, рифлёный, на полшага опережающий маленький… Она не поспевала за его размашистыми шагами.
– Мало ли что… Ты направление бери прямо завтра, не тяни, Леся. Чем раньше, тем лучше… Если у меня не будет лекции, я тебя подвезу до больницы.
Её тогда очень обидело это его «Если не будет»… До сих пор глаза Олега в тот момент не уходят из её памяти. В них бегут, бегут, снуют туда-сюда муравьи, которые ожгут тебя кислотой, если задеть.
16Маме она сказала, что идёт на занятия в университет, и очень боялась, что что-то может пойти не так и она не вернётся в этот день домой.
…Лекции не было – и Олег Борисович подвёз Олесю на такси до больницы, но в больницу с ней не пошёл, обнял за скособоченные плечи, точно у девяностолетней старушки, и, поцеловав её на прощанье сначала в щёку, а потом в лоб, как покойника, остался в такси. Прощание было какое-то наспех, чувствовалось, что он торопится и боится «засветиться», и от этого Олесе хотелось плакать… Где та большая и надёжная спина взрослого, о которой она так мечтала?.. С горечью подумала о том, что её отец так бы не поступил…
– Ты приедешь за мной?
– Конечно, малыш. Не трусь. Всё будет хорошо.
Она помнит тот день, как будто это только что произошло… Отчётливо, словно на киноэкране, видит, как она зашла в просторное помещение с белыми стенами, выкрашенными масляной краской, которая начала желтеть как-то неровно, неопрятными пятнами, напоминающими потёки на туалетной бумаге… Она хранит в памяти длинный прямой коридор, в глубине которого теряются очертания предметов и всё размыто, как сквозь слёзы или дождевые капли на стекле. В кабинете слева от неё стояли и разговаривали врачи – их лица она забыла, да и не разглядела тогда: все казались одинаковыми, как в детстве солдаты. На них на всех были напялены белые халаты и такие же белые шапочки-беретики на резиночке, очень похожие на те, что продаются для душа, только эти из какого-то другого материала, не из полиэтилена, но натянуты они так же низко, почти по самые брови, отчего врачи кажутся ей насупившимися. Говорили они очень громко, внятно и почему-то слишком резко, даже иногда на повышенных тонах, не приглушая своего голоса, но о чём они беседовали, до неё не доходило: она была вся в себе и слышала только свой страх…
– Чего трясёшься? – спрашивает ослепительно белокурая пергидрольная блондинка, из-под шапочки которой выползли погреться под лампами дневного света змейки локонов. – Рожать надо, раз трясёшься, а если не можешь рожать – так сделаем всё, и делу конец.
– Мне надо сегодня будет вернуться домой! – чуть слышно выдавила из себя Олеся.
– А уж это сколько надо, столько и продержим…
Эта же врачиха проводила тогда Олесю в палату, где её начала бить дрожь, настолько сильная, что с ней невозможно было справиться: крупные судороги, которые прокатывались по поверхности её ног и которые ничем нельзя было успокоить, – так бывало, когда у неё при заплывах резко сводило икры, и она тогда, с трудом доплыв до берега, с силой вставала на носок, стараясь снять спазм икроножных мышц, – спазм проходил, но начинались мелкие судороги. Олесе стало казаться, что у неё жар, но всё дело было лишь в температуре помещения, в котором топили на полную катушку – и о батареи можно было обжечь руки. Сквозь окно она увидела невзрачные, неумытые дома и небо, напомнившее ей обезжиренное молоко, сделанное из сухого порошка. Всё было очень серое, тусклое и как будто утратившее свой цвет, обескровленное, выгоревшее, истлевшее, точно одежда на мумии… В палате стояли рядком очень близко друг к другу четыре узкие железные кровати с панцирными сетками. Ей сказали, что нужно раздеться догола. Она стащила с себя старенькие сапоги без каблуков и вязаное зелёное платье с жёлтым орнаментном из миниатюрных шашечек на груди, потом, помявшись, сняла с себя нижнее бельё, тут же закрыв одной рукой грудь, а ладонью другой руки – лобок. Её кожа мгновенно покрылась пупырышками гусиной кожи, и она начала дрожать ещё сильнее, так, что слышала, как клацает зубами, словно старушка со вставными челюстями. Было очень холодно. Она стояла будто на свежем ветру. Затем ей нужно было надеть на себя полупрозрачную голубую накидку, напоминающую дождевой плащ, сквозь который просвечивало её прекрасно сложенное тело, отражающееся в небольшом зеркале над раковиной, и одноразовые голубые бахилы на голые ноги. Потом медсестра велела ей лечь. Она чувствовала животный страх, который вязким рвотным комком поднимался к самому горлу. Ей казалось, что от страха она вся одеревенела, но руки её ещё двигались – и она закрыла лицо ладонями, чтобы хоть не видеть яркий белый свет на потолке, режущий глаза, будто ланцет. Она зажмурилась, чтобы спрятаться от этого взрослого мира, точно маленькая девочка в мамину юбку.