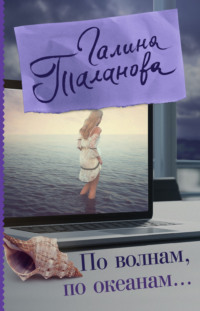Полная версия
Красная Луна
Рядом с ней лежала темноволосая женщина, вероятно, армянка – она едва говорила по-русски, которая смотрела на Олесю испуганными и затравленными, как у загнанного в капкан кролика, полными сочувствия чёрными глазами, в которых раскинулась дождливая осенняя ночь: они выглядели неестественно огромными из-за отчётливых синяков под веками, как у очковой змеи.
– Почему? – задала вопрос армянка. – У тебя нет мужа?
– Нет, – ответила Олеся и добавила: – Мне так страшно. А тебе?
Армянка кивнула головой в ответ, прикрывая глаза, отчего казалось, что чёрные ресницы углубляют синяки под веками, и ещё что-то стала говорить, и тараторила долго, быстро и сбивчиво на своём непонятном для Олеси языке, вставляя русские слова «ужас», «кошмар», «жуть» и «кобель».
Холодный пот полз ящерицей по спине Олеси, а капли солёной росы дрожали на верхней губе, раскрывшейся, как увядающий лиловый цветок. Она чувствовала, что пряди волос стали мокрыми и приклеились ко лбу, точно она попала под изморось.
Со скрипом, таким, что Олесе померещилось, что провели пилой по кости, открылась дверь в палату.
– Кого возьмём? Эту? – услышала она равнодушный голос врача.
Они увели соседку Олеси, но потом очень быстро, спустя пару минут, возвратили ту в палату, потому что перед наркозом нельзя было есть, и теперь ей нужно было ждать в палате целый час. Люди в белых халатах пристально смотрели на Олесю, точно их глаза – это были рентгеновские лучи, что просвечивали её насквозь… Олеся вся сжалась в комок мёрзлого грунта и прилипла к кровати. Ей очень хотелось распластаться на постели, будто на снегу белому зайцу, дрожащему под прозрачным кустом, листья с которого давно погребены под снегом…
– Иди тогда ты, – бросил ей врач.
Олеся встала и медленно пошла, точно запрограммированный робот, не видя практически ничего, кроме врача и ещё двух пациенток, со страхом провожающих её глазами со своих кроватей.
Ей нужно было преодолеть коридор: он был очень небольшой, но ей хотелось думать, что он длинный, а белый цвет зрительно увеличивал пространство. Однако они практически тут же дошли до комнаты, куда её завели врачи. Но это была не операционная. Она с облегчением вздохнула с призрачной надеждой отсрочки.
– Вставай на весы, – велела ей немолодая обитательница этого помещения в белом халате.
Они были маленькие, эти весы. Она едва на них помещалась и думала: «А как же здесь стоят большие и толстые тётки?» От её нервного топтания на весах стрелка судорожно металась между отметками «50» и «60»… Олеся не могла разобрать точно, сколько же она весит, – неловко оступилась, покачнулась, словно пьяная, и сошла с весов.
Побрела по коридору, будто ослепшая от его снежного сияния. Коридор с белыми стенами казался тогда ей тем туннелем, из которого не бывает возврата.
Неуверенно вступила в операционную. Комната была вся белая в тон стен, белесых от хлорки. Нужно было сесть на кресло, рядом с которым стояла тумба цилиндрической формы со шлангом, прикреплённым к ней. Олеся залезла на кресло, и женщина-врач начала двигать её к себе. Олесе было так страшно, что хотелось кричать, даже завыть в голос, будто ребёнок, расшибший колено. «Зачем я только сюда пришла?» – думала Олеся. Она видела напротив себя большое окно, за которым разлилось, как туман, мутное небо, и снова белую стену, покрытую старой мелкой пожелтевшей плиткой, выложенной очень неровно. Ей бросилось в глаза, что плитка вся в потёках дезраствора. Потом она повернула голову от окна и заметила сосредоточенное, измученное лицо немолодой врачихи, которая набирала в шприц лекарство. Она видела это лицо очень резко, точно в фокусе фотоаппарата: у неё был курносый нос с красными, как у августовской лебеды, прожилками, который явно был заложен от насморка, и глубоко посаженные глаза какого-то бурого оттенка болотной воды, – и ей очень хотелось поймать в этой воде хоть каплю сочувствия, выловить, как зелёную ряску, но её не было, вода оказалась холодна и мутна – и слёзы покатились из Олесиных глаз, блестящие в освещении операционной, точно шарики ртути. Она плакала и не могла остановиться. Так плачет прохудившаяся крыша, принимая удары грозы. Кап-кап-кап – и вот уже струйка воды образовала большую лужицу… Она не издавала ни звука, всё в ней сжалось, как пластилин на морозе, – и она заглушала готовые вырваться из горла всхлипы, кусая свои губы, словно детское колечко, которое дают ребёнку, когда у него начинают резаться зубы. Она и плакала так, как когда-то в детстве – беспомощно и тихо. Врач перевязала ей обе ноги резиновым жгутом, а потом то же самое сделала и с её рукой. Она казалась себе пленницей из какого-то фильма ужасов, где жертву собирались жестоко пытать…
– Сжимай и разжимай кулак. У тебя очень тоненькая ручка, и вен вообще не видно. Трудно будет попасть иголкой.
Она сжала кулак как можно крепче, будто для удара, но вдруг поняла, что сил даже для этого у неё недостаточно. Кулак разжался – и рука безжизненно легла на подлокотник кресла.
– Если ты будешь плакать, то тебя не возьмёт наркоз.
Врачиха поднесла шприц – и игла послала ей худенький солнечный зайчик от лампы дневного света. Голова врача зависла между Олесиных ног – и она услышала слова:
– Укол пошёл.
Врач достала какой-то довольно длинный металлический инструмент, пускающий солнечного зайчика побольше первого. Олеся зажмурилась – и снова открыла глаза. Она успела открыть глаза только два раза и подумать о том, что она пока в сознании.
Почувствовала ледяной холод и вибрацию, которая шла от шеи к голове, медленно ползла сначала к ушам, потом… Ей казалось, что она в самолёте, который взлетает и катится по взлётной полосе, подпрыгивая на неровном асфальте, – и никак не взлетит…
…Вдруг она услышала свой собственный крик. Она кричала несколько раз, пронзительно, надрывно – и от этого же воя и открыла глаза.
– Мне больно!
Она очнулась в палате, накрытая пледом в коричнево-чёрную клетку, и первое, что заметила, это то, что на её ногах были одеты серые носки. Олесю обожгла очень сильная, неиспытанная ранее боль внизу живота, и она, догадавшись о её происхождении, спросила у соседки:
– Мне уже всё сделали? Мне действительно всё сделали?
– Да, да, – ответила та. – Тебя на каталке привезли. Скоро поведут меня. Ты полежи немного.
Олеся очень медленно, словно сомнамбула, через силу натянула бельё, платье, часики. В палату зашла врачиха и сделала ей укол, от которого ей полегчало, и она почувствовала себя пустой и лёгкой, словно надувной мяч.
Через некоторое время её повели на УЗИ. Во время УЗИ она успела посмотреть на экран и увидеть, что чёрного пятна, внутри которого лежал, свернувшись, маленький человечек, больше нет. «Ещё совсем недавно оно было. А теперь его нет. Его не будет… – думала она с внезапно накатившей горечью. – Человек остался в комнате с белоснежными стенами, содержимое насоса скоро выльют – и не будет этого человечка, которому она была матерью, вообще…»
– А кто это был? Девочка? Да? – спросила она врача…
– Девочка, девочка… Была, да нету уже… В помойке валяется…
Когда шла назад в палату, то случайно увидела, как санитарка выносила чёрный полиэтиленовый мешок из операционной: мешок прорвался – и из него посыпались зародыши в сгустках крови и потекла кровавая жижа. Это были маленькие голые человечки… Она тогда, увидев это, упала в обморок, успев почувствовать, как тьма, которую перерезают летящие, точно от газовой сварки, искры, крепко обнимает её и прижимает к своей груди, заслоняя от этого жестокого и страшного мира. Очнулась она в кресле около медсестры…
– Ненавижу тех мамаш, которые дотягивают до четвёртого-пятого месяца. Плод уже сформировывается, и аборт становится тогда больше похож на расчленёнку, чем на операцию. Когда видишь на своей ладони оттяпанную щипцами ручонку, хочется прирезать ту стерву, которая вынуждает нас это делать! А некоторые ещё и спросят потом: «Кто там был: мальчик или девочка?» – раздражённо поделилась с ней медсестра. – Мы все хотели бы, чтобы плод был бесформенным, но это не так… Это уже маленький человечек… Будь моя воля, я бы вообще всем до абортов такие мешки показывала!
А потом у неё наступило состояние размягчённого мозга и притупленного сознания, почти удовлетворения, равнодушия ко всему, что с ней случилось и произойдёт дальше. Она ехала с Олегом в машине. Сидела на заднем сиденье и сквозь рукава видела свои руки, как будто изнутри подсвеченные, и тонкие синие вены, бегущие ручейками, как реки на карте, в которых пульсирует её холодная кровь. Её душа стала будто отделена от неё, она только смотрела на свои заледеневшие пальцы, лежащие на коленях и выбивающие от холода мелкую дробь, точно барабанные палочки, – она видела их, но совсем не чувствовала: это были просто предметы, у которых не было никакого отношения к её телу, просто белые обломленные с крыши подъезда стеклянные сосульки… Ей хотелось улыбаться оттого, что она теперь совсем ничегошеньки не ощущала – никакой боли, никакого страха и никакого счастья. Счастья больше не было. Будет ли оно? Она была тогда как мёртвая, как душа, отстранённо взирающая на своё тело, лежащее на столе…
17Первые два месяца после аборта Олеся ходила как зомби, потом начала осознавать, что наделала. Как она себя ненавидела тогда, как презирала его! А Олег был счастлив, что всё обошлось…
Однажды ей приснилось, как она отправляет своей дочке посылкой розовую тёплую кофточку, чтобы ей ТАМ было не холодно!.. Если случайно видела в магазинах детскую одежду, то тут же представляла свою девочку.
С каждым днём становилось больней и невыносимей от того, что она сотворила. Она убила того, кто был ближе всех на свете, свою кровиночку. Внутриутробная фотография девочки до сих пор стоит у неё перед глазами: головка, маленькие ручки и ножки…
У неё началась депрессия. Ей всё стало неинтересно. Она ходила в университет, но на лекциях у неё закрывались глаза, как у Вия: нижние веки будто примагничивали верхние. Проваливалась в минутный сон. Красное месиво, где из сгустков крови торчали маленькие ручки и ножки, заполняло её забытьё… Один раз возникло лицо младенца, который ей сказал: «Мама, мне тут холодно. Пришли мне тёплое одеяло и грелку…» Через минуту она вздрагивала, разбуженная тычком соседки в бок… Она радовалась, что красные пузыри исчезали… Но тут же вспоминала, что это не только сон, – и ей хотелось снова провалиться в дрёму… Жаждала всё забыть, а не могла… Ночью же спала плохо. Сны были рваные, будто рана, и такие же кровавые… Снились какие-то трубы, через которые высасывают все её внутренности вместе с младенцем – и она остаётся полая, как новогодний шарик на ёлке… Один раз приснилась девочка, которой она хотела дать имя Марина. «Нет, – сказала кроха кровавым ртом, – Арина без «м», я без мамы».
Сама же она была с мамой и под её бдительным оком. Мама заподозрила, что с ней происходит что-то неладное, по её сбившемуся циклу. Спросила встревоженно:
– У тебя всё нормально?
Олеся заверила её, что всё…
Олег пытался несколько раз дозвониться до неё, но она клала трубку. Как-то поймал за рукав после лекции, на улице, уже за территорией университета, когда она торопилась домой…
– Стой! Ты что от меня бегаешь? Поехали ко мне?
– Нет, не бегаю я. Я просто плохо себя чувствую и у меня ничего не зажило… Пусти! – вырвалась и гордо пошла прочь, покачивая бёдрами на тонких каблучках, на которых она ходить не любила и не умела.
Как же она его презирала и ненавидела тогда!.. Такой большой и сильный, а на поверку оказался слабак, слизняк, который утратил свой домик, но не совсем, а выползает из него на охоту, оставив раковину неподалёку.
Постепенно ненависть рассосалась, как гематома… Сначала был красный цвет, потом стал синий, как не отмытые до конца следы от шариковой авторучки, затем иссиня-чёрный, словно некрозное пятно, а потом появился цвет: жёлтый, лиловый, голубой… Всё проходит, особенно когда тебе двадцать лет, подруги втягивают тебя в хоровод студенческой жизни, то и дело взрывающейся заразительным смехом, услышав который в конце своей жизни, она будет вздрагивать, как от фальшивой ноты в гармоничной мелодии. Но тогда пока жизнь была ещё белый снежный лист, на котором хоть и остались глубокие и кровавые следы, но новый снег мягко припорошил их чистым снежком, а порывистый ветер занёс все следы, ровняя поверхность…
Она всё ещё любила его. Когда он поехал с двумя студентками-старшекурсницами на конференцию, потому что те помогали ему с презентацией, а их собственные курсовые заняли на конкурсе студенческих работ призовые места, она места себе не находила… Одна из девушек, Даша, была дочерью начальника железной дороги города – и ей казалось, что эту девушку он пригласил с собой специально, чтобы что-то поиметь от её отца. Избавиться от этой мысли она никак не могла… Представляла, что он эту девочку тоже обворожил, как и её, и та так же запуталась, словно бабочка в паутине, в ажуре его красивых, сладких и липких слов, как совсем недавно она… Трепещет шёлковыми крыльями, пока он не высосет весь нектар её молодого тела. Впрочем, она услышала от второй студентки, что Даша познакомилась на конференции с каким-то парнем из Риги и ночевала у него в номере… У неё отлегло от сердца, словно сдвинули неподъёмный камень… Но оказалось, что этот булыжник удерживал горный поток любви и ревности, которые снова окатили и захлестнули её с головой… Она, она должна была быть с ним в этой поездке, а не какие-то там девочки с обеспеченными предками! Такую бы уж он не заставил избавиться от своего ребёнка, побоялся бы, поджал бы хвост, женился бы, оставил свою тётку, ибо больше не надо было бы никому держать лестницу: она была бы из белого мрамора и покрыта зелёной дорожкой, в которой мягко утопали бы ноги, словно в лесном мхе… Не получилось! Рижанин помешал… Молодой и бесшабашный…
Она тогда после долгих колебаний позвонила ему домой, просто так, чтобы услышать его голос… в надежде, что он поймёт по её притихшему дыханию, кто это обрывает ему телефон… Долго ждала, что возьмут трубку, слушая протяжные и надрывные гудки, точно у поезда на переезде, когда машинист боится кого-нибудь задавить. Но услышала голос его жены. «Алё… Кто говорит?» – спросила та. И Олеся бросила трубку на рычаг, как мокрую и грязную половую тряпку на кафель в ванной, поближе к батарее.
Через два часа позвонил Олег Борисович и предложил встретиться: сходить на Тарковского… Сердце у неё опять поскакало мячиком по кривым и качающимся ступенькам… Покатилось, покатилось… Не догнать… Она полетела вслед за своим сердцем, словно птица, возвращающаяся в родные края.
Олеся сидела, прижимаясь к нему в тёмном кинозале, чувствуя тепло его бедра, греющего, как домашняя резиновая грелка. Олег закинул руку ей на плечо, запустив ладонь под её жакет… С ним было тепло и уютно, так, как ей было когда-то хорошо с папой…
Потом она сидела у него на коленях в его квартире, превратившись в маленькую девочку, и плакала. Нет, она не собиралась устраивать такого концерта. Это было как неожиданный ливень сквозь лучи солнечного света, играющий на струнах дождя, словно на арфе, превращая каждую каплю в алмаз, каждую ноту в симфонию, когда поникшие от зноя и пыли цветы поднимают свои головы, раскрывают бутоны, будто губы, для поцелуя дождя и начинают одурманивающе пахнуть…
Он сказал ей, что ушёл из дома… Нет, он не развёлся ещё… Но две недели живёт уже один и возвращаться не думает…
Слёзы были слизаны нежным языком и стёрты горячими ладонями, высушены, как феном, горячим дыханием, срывающимся с губ, раскрывшихся, будто по осени цветок шиповника.
18…Олеся опять стала частенько бывать у Олега в жилище. Созваниваться стало проще, так как теперь он жил один… Дома врала, что уходит заниматься в библиотеку. Ей верили и считали её «книжной девочкой». А книжница взбегала по лестнице на третий этаж в чужом подъезде, пропахшем кошками, с блаженной улыбкой на лице, будто и не было того времени, когда ей снились младенчики в кровавом желе и аппарат, высасывающий все её внутренности, даже сердце, – и она оставалась пустой, как выпотрошенная консервная банка, о края которой можно израниться, если взять её в руки.
Олег открывал дверь – и она падала в его объятия, ныряла, как в омут, уплывала, увлекаемая пенными волнами отлива, не думая сопротивляться: только потеряешь все силы… Постепенно привыкала к нему – и уже не могла без его душных объятий, без его губ, жующих мочку её уха, точно козёл поросль молодых деревьев, взметнувшихся к небу из упавшего в неподходящем месте семечка. Сладкий морок, когда продвигаешься на ощупь, узнавая знакомые впадины и рытвины тела…
После она удобно устраивалась у него на коленях, прижимаясь к его груди, как ребёнок, – и никуда не желала уходить… Его большие ласковые руки гладили её по голове и щекотали за ушком – и ей хотелось замурлыкать, точно кошке… Она забывала тогда о разнице в возрасте, об его оставленной семье, ей хотелось быть с ним всегда…
Она смотрела на неумолимую стрелку циферблата больших настенных часов-картины, где над морем, купаясь в лучах заходящего солнца, катящегося розовым воздушным шариком к горизонту, кружились белые чайки, а стрелки тоже были крыльями чайки, то взмахивающей крыльями, то опускающей их… Когда правое крыло чайки оказывалось направленным к розовому облаку, похожему на сбитую белковую пену на торте, а левое начинало тянуться к правому, чтобы взметнуть чайку высоко в небо, она вздрагивала и говорила:
– Ой, мне надо бежать… Мама будет волноваться…
Олег всегда провожал её до автобусной остановки, целовал на прощание легко, как бы в рассеянности, то ли страшась людских глаз, полных любопытства, зависти и злобы, то ли просто от усталости… Будто палый лист касался её щеки, словно метёлка травы щекотала её губы – и тогда она чувствовала запах увядания, печаль окутывала её с ног до головы, точно облако пыли от пронёсшегося мимо внедорожника.
Её мучила необходимость постоянно изворачиваться дома, надо было как-то объяснять своё отсутствие, ей давно уже надоели эти конспиративные уловки со звонками, она устала от маминой опеки, которая считала её маленькой девочкой, и от её заботливого диктата, когда дочери надо было выкладывать свою судьбу по траектории, заведомо проведённой её твёрдой рукой… Шаг вправо, шаг влево – расстрел укором, что она не оправдывает её надежд и ожиданий. Олесе так хотелось быть взрослой и свободной… Надоела и конспирация в университете… Девочки делились своими романами, она же вынуждена была делать вид, что не встретила ещё свою любовь… Она думала иногда, что действительно ещё не повстречала свою судьбу, что главная любовь её жизни, конечно, впереди. Это будет человек, с которым она встретит старость на равных… Но глупое и неразумное сердце скакало на одной ноге, как девочка, играющая в классики. Бессмысленное скакание, странные клетки, что сотрутся от шагов прохожих, которым наплевать на расчерченный асфальт… Колокольчики звенели у неё внутри от любого прикосновения Олега, точно пустая жестяная баночка, летящая по кривым клеткам, нарисованным на асфальте…
Начались первые студенческие свадьбы… И она втайне завидовала… А одна пара из их группы даже успела родить карапуза, молодые родители ходили теперь на лекции по очереди: девушка не брала академического отпуска – так им было удобнее: учиться вместе… У Олеси тоже уже могла быть девочка, которая научилась бы ходить и, может быть, даже немножко уже говорила бы… Это была её затаённая боль, о которой она иногда забывала, но которая всегда теперь давала о себе знать, как только она видела маленьких детей.
Мама начала подозревать, что у неё появился мальчик. Наивная мама даже несколько раз намекала на то, что неплохо было бы пригласить его в гости. Олеся отнекивалась, уверяла маму, что она выдумывает невесть что… И ещё больше хотела теперь свободы от родительского ока…
Когда мама сказала, что ей на работе предложили профсоюзную путёвку в санаторий, то сердце Олеси перестало играть в «классики», а подпрыгнуло с шестом, перелетая через недосягаемую планку. Целый месяц она будет свободна от бдительного родительского ока и сможет жить у Олега! Или нет? Мама будет звонить… Часто и настойчиво, проверяя, как она живёт…
«Может быть, предложить Олегу ночевать у меня, пока нет мамы?» – размышляла Олеся.
Провожать её в аэропорт мама запретила: «Как ты возвращаться будешь? Не надо. Я на такси доберусь».
Олег пришёл в этот же вечер…Так у них началась семейная жизнь. В мамину комнату она его не пускала… Старалась приготовить всё время что-нибудь вкусненькое: испечь сладкий кекс или шарлотку, сварганить какой-нибудь салат, накрутить голубцы или нафаршировать перец. Накрывая на стол, стелила салфетки из бамбуковой соломки. Олег покупал вино, получалось, что, в основном, для себя, так как она не пила почти совсем… Могла немного пригубить… Они просто устраивали себе каждый вечер праздник, наслаждаясь тайной свободой и общением друг с другом… Кидалась в его объятия, словно прыгала с вышки в волнующееся зелёное море, раскинув руки для полёта, как птица…
В выходные выбирались на природу, не на дачу: на дачу к себе Олег не хотел приглашать из-за своей семьи, ехать же на свою она боялась, опасаясь, что их могут увидеть соседи… Стояла почти летняя жара. Купались на песчаных берегах Волги, хватая изнеженным белым телом щедрые лучи майского солнца… Олег ловил рыбу. Она смотрела, как он забрасывает спиннинг, любуясь его подтянутой, поджарой фигурой, только начинающей обрастать жирком… Съездили посмотреть заброшенную старую церковь в лесу, за 100 км от города, сделанную из дерева, чем-то похожую на те, что увидела через несколько лет в Кижах… Побывали в Суздале и во Владимире. Она замирала от красоты и величия соборов и думала, что жизнь удивительна…
Она не помнит ничего про быт этого первого совместного медового месяца, кроме праздничных ужинов при свечах, когда пляшущие огоньки отражались в толстых стёклах очков, а взгляд прятался за дрожанием язычков пламени. Она снимала с Олега очки и целовала его в глаза, которые тотчас закрывались, как у куклы Наташи, когда она их трогала пальцами. Она проводила по веку языком – и смеялась оттого, что он неожиданно морщился, будто младенец, готовящийся заплакать…
Даже те вечера, что они проводили, смотря телевизор, были сладким временем умиротворения и гармонии, когда думаешь: «Неужели чудо возможно?» Сидели рядышком, обнявшись, точно две половинки грецкого ореха: в домике, который казался вполне надёжным, чтобы не падать на землю. Иногда Олег клал голову ей на колени – и тогда она гладила его по чёрной шевелюре, в которую вплелись первые метельные нити, отливающие, как серебристый дождик на ёлке…
Бывало, что Олег изредка даже готовил. Оказалось, что он мастер запекать вкусное мясо и курочку, умеет мыть посуду и пол… Бельё он стирал у себя дома – и Олеся почти не видела каких-то рутинных домашних забот…
Месяц пролетел как в тумане… В университет они приходили поодиночке, и хотя их завтрак был наспех, но вполне мог бы сойти за семейный. На его занятиях она сидела с каменным лицом, боясь, что кто-то догадается, что она наполнена любовью, будто воздушный шарик воздухом, и готова взлететь под облака в любую минуту. Она и домой отправлялась одна, но вечером, почти каждый день, он приходил… Ключей у него не было: она не дала… Олеся бросалась ему на шею, повисала, оторванная от пола, смешно дрыгая ногами и удивляясь тому, как внезапно в её жизни всё расцвело… Она была со своей скучной жизнью, где ей надлежало ходить по линиям, вычерченным заботливой и уверенной маминой рукой, будто тюльпан, долго лежащий в холодильнике, который наконец вытащили и поставили в тёплую воду поближе к батарее… Она не забыла, но простила Олегу свой аборт, кружилась в волнах его любви, точно щепка в водовороте: крутилась быстро и медленно отплывала от воронки по течению вниз…
Он получил развод и сказал ей про это как-то мимоходом за ужином, медленно разжёвывая резиновую сардельку.
До приезда мамы оставалась неделя – и от мыслей о том, что ей придётся жить без него, сердце ныло так же, как когда умирали папа, бабушка и дедушка. Она сказала ему об этом.
– Ничего малыш. Мы что-нибудь придумаем.
– Но я хочу быть с тобой всегда. Просыпаться утром от прикосновения твоих рук… Потом, меня не научили врать, я могу сидеть с мраморным лицом на твоих занятиях, но не могу ничего скрыть дома… Я боюсь, что мама начнёт догадываться… Мы могли бы переехать к тебе, только тогда нам придётся пожениться… Почему ты мне это не предлагаешь? Ты же развёлся уже…
Олег замер, точно зверь, увидевший опасность… Минуты две сидел неподвижно, будто спал с открытыми глазами. Взгляд растерянный, словно у студента, которого вызвали на семинаре, а он ничего не учил и собирается с мыслями, что ему ответить… Только пальцы, барабанящие по колену, выдавали его волнение…
– Зачем я тебе такой старый?