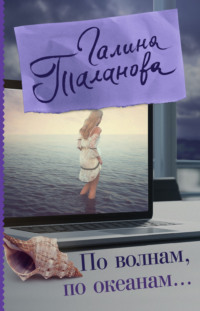Полная версия
Красная Луна
На обратном пути опять почти не разговаривали… Нагревшаяся от солнца машина запахла жжёной пылью, этот запах мешался с выхлопными газами и создавал отвратительный коктейль. Подъезжая к деревне, попали в пробку. Здесь дорожка шла по мосту через речку, который взялись ремонтировать – и перед мостом выстроился длинный хвост из машин. Их УАЗик притулился в конце хвоста… Машина теперь двигалась рывками, по метру, Олег Борисович то и дело выжимал сцепление… Он начал рассказывать ей о своей студенческой практике, осторожно, как бы случайно опуская горячую большую ладонь на её колено, туго обтянутое джинсами. Неожиданно вполоборота обернулся к ней и погладил бедро… Рука прожигала, как пролитый на брюки из термоса чай. Неожиданно провёл ладонью по её волосам, нежно, бережно, как гладил её когда-то дедушка, когда она была маленькая и устраивалась у него на коленях… Ей хотелось замурлыкать от счастья, прогнуться, как кошка, дугой… Её так давно не ласкали… Что-то совсем забытое, далёкое, из призрачного детства, всплыло со дна памяти, казалось, плотно подёрнутой ряской, которую, как выяснилось, без труда можно было развести размашистыми гребками.
– Какие у тебя волосы красивые, словно золотое руно… – осторожно, точно проскользнул лёгкий сквозняк из открытого окна, Олег Борисович отодвинул прядь с виска и поцеловал в щёчку около уха… Шепнул, боясь, что громкие слова выдадут его смятение и спугнут райскую птицу, опустившуюся рядом с ним на поляну… Она ощутила щекотку от его усов, какой-то пьянящий аромат дикого цветка от его духов, чувствуя, что кровь застучала в виске барабанной палочкой, будто проснувшийся под снегом ручей, и она вся пылает, как от чая с малиной… Потеребила горячую мочку уха, точно обожжённую, проверяя нет ли волдыря от ожога. Съёжилась вся, словно нахохлившийся воробушек, попавший под ледяной дождь, только щёки полыхали, будто солнце на закате в ветреный день. Отодвинулась к дверце, остужая висок о прохладу металла. Посмотрела в окно сквозь пряди своих развевающихся от сквозняка волос… Волосы дробили свет на мелкие осколки, летевшие солнечными брызгами ей в лицо. Она счастливо зажмурилась.
Очередь из автомобилей потянулась чуть быстрее. Олег Борисович теперь тормозил реже, но двигался по-прежнему рывками, отчего Олесе стало внезапно нехорошо. Тошнота подкатила под горло, перед глазами всё поплыло, точно она качалась на волнах: вверх-вниз… Она достала из карманов джинсов припасённую таблетку и больше не слушала Олега Борисовича: ей было всё равно, что он такое ей вещал. Закатное солнце на её лице запало в серую тучу над горизонтом – и больше не появлялось… Она сидела бледная и с трудом сдерживала рвоту, стараясь не поворачивать головы…
– Что-то мне нехорошо. Растрясло.
– Скоро, думаю, проедем эту пробку. Выйдем – пойдём грибы собирать. Воздухом подышишь.
Как только проехали мост через реку, Олег Борисович свернул в ближайший лесок. Вышел из машины, открыл со стороны Олеси дверь, подал ей руку. Подножка УАЗика была слишком приподнята для неё, Олеся не рассчитала высоту – и рухнула на землю, не дотянувшись ногой до ковра из разноцветных лоскутков. Но не упала: сильные мужские руки подхватили её – и она уткнулась лицом в чёрную вылинявшую футболку, пахнущую мужским потом, смешанным с лёгким запахом стирального порошка.
– Осторожно, воробушек! А то придётся скакать на одной ноге, – и погладил её по спине широким успокаивающим жестом, как гладят маленьких детей, захлёбывающихся плачем. – Подожди. У меня стул раскладной есть. Сейчас достану. Посиди.
Вытащил складной стульчик: алюминиевые трубки, на которые натянут брезент, – поставил его неподалёку от машины под огромной берёзой, уже осыпавшей половину своих листьев, так что крона её стала полупрозрачной и пропускала редкие солнечные лучи, играющие на охряных листьях и рождающие шевеленье теней…
Осторожно обнял её за плечи и повёл под дерево.
– Посиди тут. Подыши. Чуешь: воздух такой…
Воздух на самом деле был вкусный, настоянный на ароматах сухих трав: осоки, мяты, ромашки и зверобоя, в который вплетался отчётливый запах грибов… Пахло прелью, мхом, калиной и предчувствием любви… Да, да… Олеся почему-то отчётливо уловила этот запах предчувствия любви, который обычно кружит всем голову в марте, когда тают снега, снег на глазах чернеет и сугробы сдуваются, как воздушные шарики, проколотые иголкой, а ручьи весело журчат по тротуарам, огибая островки жёлтого льда, на которых сидят воробьи, по очереди купающиеся в журчащей воде.
Но была осень… Стояли последние дни бабьего лета – и воздух уже был пропитан запахом тления и ухода… Так, слегка, как ощущается в стариковских квартирах… Олеся вдруг остро, пожалуй, впервые в жизни, почувствовала вкус жизни… У неё немного кружилась голова… Корабельные сосны, убегающие своими вечнозелёными разлапистыми кронами ввысь, кружились в медленном танце… Она прикрыла на минуту глаза и прислонилась к берёзе, чувствуя щекой мягкий и нежный ствол дерева, на ощупь напомнивший ей кожу человека, продрогшего на ветру. Сдвинулась чуть влево – щеку оцарапал серый нарост коры… Вдыхала в себя древесный запах, думая о том, что жизнь её лежит в самом начале – и она пока тоже вся мягкая и нежная, а потом, наверное, ей предстоит покрыться капами от клювов дятлов и зарастать царапающей других корой. Её по-прежнему мутило.
Олег Борисович наклонился к ней, снова тяжёлая мужская ладонь удивительно легко скользнула по её волосам, отводя чёлку со лба и слегка её ероша, будто порывистый ветер.
– Ну как ты? Сиди, а я рядом похожу: грибы пособираю… Я недалеко, тут место грибное, вокруг тебя кругами буду ходить…
Пока сидела, замёрзла очень. Кожа покрылась мурашками, точно на неё насыпалась первая снежная крупа, а сама она была такая холодная, что снег даже и не таял…
Вернулся Олег Борисович к ней минут через сорок с полной корзинкой настоящих белых:
– Смотри, сколько насобирал! Знатный супец будет!
Плюхнулся рядом на серый пружинящий мох, пахнущий пенициллином, прижался плечом… Она вздрогнула, но не отодвинулась. Так и сидели, вдыхая пряный, чуть горьковатый запах опавших листьев. Листья краснотала казались издалека экзотическими цветами, и она подумала о том, что вот так мы, наверное, принимаем страсть критического возраста за любовь… Огненные кисти рябины наклонились к соседнему дереву – и казалось, вот-вот сейчас его подпалят… Какая-то серая птица в жёлтом фартуке забавно скакала по дороге, собирая первые облетевшие ягоды, видимо, поклёванные другими птицами, и оттого упавшие на землю. Голубое небо проглядывало сквозь ажурный узор листьев. Чудилось, что они заперты в каком-то шаманском пологе, где потолок расписан восточными узорами. Олег Борисович обнял её за плечи, нежно и осторожно, точно в бабушкин пуховый платок закутал. И ей вдруг стало так спокойно… Спазм прошёл. Она сидела, не шелохнувшись, точно серый мышонок, завидевший кота… Олег Борисович провел пальцами по её шее каким-то таким движением, словно смахивал крошки со стола, собирая их себе в ладонь, взял её кисть и поцеловал. Ей никогда ещё не целовали рук… А потом прижался шершавыми обветренными губами к синей жилке на виске, пульсирующей, точно ручей подо льдом, ищущий выхода…
С этого дня Олеся только и могла думать об Олеге Борисовиче… Это было странно, неразумно: мечтать о женатом преподавателе, значительно старше неё, но она ничего не могла с собой поделать… Откуда возникает любовь? Каким ветром забрасывает её в наше сердце, словно семечко лёгкого одуванчика, парящего на своём парашюте? Неизвестно… Но ей было ясно уже, что ярко-жёлтое солнышко цвело в её сердце и пчёлы кружились над ним, готовясь собирать нектар… И сама она светилась, словно ласковое июньское солнце, набирая жар. Майский цвет только что облетел и лежал папиросной бумагой на сочной зелёной траве, плавал в нагретых лужах и летел по улице, точно снег… Улыбка блуждала по её лицу, словно солнечные зайчики по стене… Иногда она представляла, что Олег Борисович разводится со своей грымзой-женой. Она почему-то была уверена, что та должна быть грымзой, иначе как же он уйдёт от неё? Сердце замирало от предчувствия счастья: «А что, если Олег Борисович опять её позовёт с собой куда-нибудь ехать ему помогать?» Видеть этого человека, слушать его ласковый и заботливый голос, в который она погружалась, словно в майское соловьиное пение, лёжа без сна и мучаясь от любви… Нет, не от неразделённой… Она уже каким-то своим женским чутьём знала, что нравится ему… Но думать серьёзно об этом семейном, в годах, человеке? Да и зачем он ей? И состарится он раньше неё… Нет, ей нужен ровесник, не женатый, у которого, как и у неё, всё впервые… Чтобы они детей могли завести двоих и жить счастливо до смерти душа в душу, бережно поддерживая друг друга под локоток и во всём помогая друг другу…
Смотрела на занятиях в глаза участливо, впитывала в себя, точно воду бутон, готовящийся распахнуть свои лепестки шмелю, каждое его слово, каждую шутку, блеск глаз, блики на стёклах очков, артистичный взмах руки, будто зажавшей дирижёрскую палочку… Словно жизнь её была упакована в старый застиранный целлофан, чтобы не поцарапать, а теперь этот целлофан сорвали – и она засияла…
9Старообрядческую свадьбу играли в той же просторной горнице, где день тому назад местные бабушки сидели рядком и пели частушки, стыдливо укрываясь платочком. Молодые восседали под образами в просторных белых рубахах, почему-то напомнивших Олесе нижнее бельё из какого-то фильма про дореволюционные времена. Невеста красовалась без фаты. Вообще она была невзрачна, как воробей, на лице ни следа косметики, волосы заплетены в жиденькую, напоминающую колос, косу, уложенную на голове короной. Мужики за столом пили самогон, опустошая стакан за стаканом. Женщин за этим столом не было, они разносили угощенье гостям: всякие рыбные блюда, солёности, пироги и ароматный хлеб домашней выпечки с хрустящей корочкой, пахнущий так, что уже от его запаха текли слюнки…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.