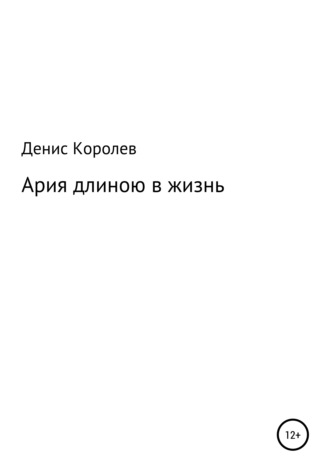 полная версия
полная версияАрия длиною в жизнь
Гуго Ионатанович был удивительный человек. Русский немец. Родился он в немецкой колонии под Пятигорском. Именно поэтому он блестяще владел немецким языком. Гуго Ионатанович был прекрасным музыкантом. Учился он у итальянского профессора Романо Гондольфи. Иногда в классе, ссылаясь на Гондольфи, Гуго Ионатанович высказывал очень веские замечания. В частности передал мне утверждение итальянского мастера, что в Италии в эпоху «bellcanto» петь фальцетом было запрещено. Это считалось не профессионально. Я запомнил этот урок навсегда и никогда не пел фальцетом. Даже в каватине Владимира Игоревича в опере Бородина «Князь Игорь», несмотря на традицию брать последнюю ноту фальцетом, я никогда его не использовал. Да и к образу Владимира Игоревича – молодого человека и смелого воина – фальцет как-то не подходит. На конкурсе в Мюнхене я взял последнюю ноту голосом, а потом сильно сфилировал ее до пиано. Получилось и красиво и убедительно. Гуго Ионатанович получил очень хорошую школу и умел ею делиться со своими студентами. Гондольфи говорил, что нельзя петь «открытым звуком» надо всегда «прикрывать». Мой профессор добивался от нас именно этого. Тогда звук становился особенно красивым, собранным. Гуго Ионатанович очень следил и за высокой вокальной позицией, и говорил, что с высокой позицией должны петь все даже басы, а уж тенора и подавно. Забегая вперед, скажу, что когда я потом преподавал в консерватории, у меня был студент – бас. Как и все басы, он очень настороженно относился к педагогу-тенору. А с нижним регистром у него были большие проблемы. Максимум он с большим трудом мог опуститься до ля бемоль малой октавы. И вот я ему рассказал про высокую позицию. Он с недоверием слушал. Тогда я ему предложил, в виде эксперимента, медленно спеть три ноты: ми, ре, до, первой октавы. Просто траля-ля, но все время следить за высокой позицией. Я попросил его петь совершенно свободно и искусственно не доставать нижние ноты откуда-то из глубины. Как получится, так и получится. Ну, он спел три ноты. Потом еще на пол тона ниже – спел, потом еще, и еще и так дошли до ми бемоля малой октавы. Я уверен, что он мог бы еще спеть на пол тона ниже, но я уже не стал его насиловать. И вот я держу клавишу ми-бемоль и у нас с ним маленький диалог:
– Какая нота?
– Наверное, соль».
– Иди, посмотри, я держу эту клавишу.
Он обошел рояль, посмотрел и от удивления у него глаза расширились. О такой ноте он даже не мечтал. Вот, говорю, что значит высокая позиция.
Очень большое значение мой профессор предавал дикции. Это важно не только для того, чтобы слушатели понимали, о чем ты поешь. Хотя это тоже очень важно. Гуго Ионатанович говорил, что дикция – это фундамент пения. Она снимает часть нагрузки с голосовых связок. Потом, в процессе работы, я убедился в правильности его слов. Действительно, при активной дикции связки устают меньше. Большое внимание Гуго Ионатанович уделял фразировке и передаче смысла текста. Он говорил «Думай, о чем поешь, о смысле текста, а не просто издавай звуки». Певцов даже с очень красивым голосом, но поющих без смысла, через пять минут становится скучно слушать. Таких он называл «звучкодуями». Помню, у нас на курсе была такая певица с великолепным голосом, но с полным отсутствием понимания, о чем она поет. Действительно, ее красивое пение очень быстро надоедало. И еще, Гуго Ионатанович очень большое внимание уделял так называемому процессу впевания музыкального материала. Он говорил, что мало произведение выучить, его надо еще хорошо впеть. Именно тогда произведение становится на свое место и по звуковедению и по дыханию. Эта кухня должна быть доведена до автоматизма, чтобы во время пения уже не думать, как дышать и прочее, а думать о выразительности. Партию Ленского я впевал год. Гуго Ионатанович очень бережно относился к новым ученикам, не желая их сразу переделывать. Он говорил, что процесс обучения, а особенно исправления каких-то вокальных огрехов, это процесс эволюционный, и никогда не революционный. Нельзя, дергая дерево за макушку, заставить его тем самым расти быстрее.
Прекрасно знал Гуго Ионатанович не только камерный репертуар немецких и русских композиторов, но и сам пел в опере баритоновые партии Онегина, Фигаро, Дон Жуана и другие. Он был прекрасный человек, добрый, веселый, остроумный. Очень любил шутить и всегда сам заразительно смеялся. Профессор очень заботился о студентах, и не только из своих, но и из других классов тоже. В частности на моих глазах был пример: два студента не из класса Тица подрались. Декан факультета должен был исключить их обоих. Но у одного из них был очень хороший голос. И вот декан Тиц звонит в Ленинград декану вокального факультета Ленинградской консерватории, рассказывает ситуацию, и просит принять этого студента в консерваторию. Студента приняли. Таким образом, Гуго Ионатанович помог студенту, не сломал ему жизнь. А ведь мог подойти формально, исключить и все. А сколько раз Тиц добивался стипендии для студентов, которым она была не положена. Также случай с преподаванием Лемешева. Он же мог сказать нам: «Вот приедет Лемешев, тогда и будете с ним заниматься. А пока можете учить вокализы с концертмейстером». Но он все три месяца с нами занимался. Для меня Гуго Ионатанович стал вторым отцом. Нет, можно даже сказать, первым (прости меня, папа!). Всему, что я потом умел делать на вокальном поприще, да и в жизни тоже, я обязан моему профессору. Всем моим музыкальным, вокальным, да и жизненным представлениям я был также обязан только ему. Позднее во всех конкурсах половина побед, если не две трети, по праву принадлежали Гуго Ионатановичу. Он учил меня не только пению, но и жизни, и мировоззрению и правильному мышлению, а это очень важно для певца. Не знаю, смог бы я состояться, как личность и певец без влияния Гуго Ионатановича. До сих пор я ношу в сердце глубокую благодарность этому замечательному человеку.
Иногда в класс к Гуго Ионатановичу заходил его бывший студент, замечательный баритон, солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Лев Морозов, чтобы подстроить голос, избавить его от ненужных наслоений. Певец не может жить без корректировки голоса. Без этого голос куда-то уползает. Я сам, когда уже работал в театре, неоднократно приходил к Гуго Ионатановичу, чтобы подстроиться. Мы, студенты, смотрели на этого певца с благоговением, как же – профессионал! У него был прекрасный бархатный баритон. И взрывной темперамент. Он мог сразу же зажечь всех. Мы с восхищением слушали его. Позднее он уехал в Ленинград и стал солистом Ленинградского театра им. Кирова (ныне Мариининка) К сожалению, жизнь его была коротка. Учениками Гуго Ионатановича был и Миша Егоров (солист Мириининского театра), и Петя Глубокий (солист Большого театра), и Саша Сибирцев (солист Пермской оперы, Народный артист РФ), и Анатолий Соколовский (солист Якутской оперы), и Володя Высокинский, принятый в Большой, но потом, по семейным обстоятельствам, ушедший из него, и многие другие, успешно служившие потом в разных оперных театрах Советского Союза.
Но вернемся к подготовительному отделению. В то время в консерватории студент подготовительного отделения уже считался студентом консерватории. В частности, по этой причине я избежал службы в армии. В консерватории в то время была своя военная кафедра. Мне выдали студенческий билет. Тогда был такой порядок, если студент после второго курса подготовительного отделения мог показать какой-то необходимый уровень, его без экзаменов переводили на первый курс уже самой консерватории. Если же возникали сомнения, то предлагали поступать еще раз на общих основаниях. Сейчас такого положения нет, все поступают на общих основаниях. Мне кажется, что это неправильно. За два года студента можно очень хорошо узнать, а не «покупать кота в мешке». За этот срок студент проявит себя и как талант, и как человек. В период моего преподавания в консерватории, был случай, когда одна студентка с великолепным голосом (и все об этом знали) после подготовительного на общих основаниях не поступила. Здесь были, вероятно, какие-то «подковерные игры». Она, конечно, потом была принята, но какой удар, какой моральный урон.
В отличие от моей учебы в школе, в консерватории я учился, как «зверь». Я не пропустил ни одной лекции ни по каким предметам. Я занимался очень активно. Притом, природный певческий материал у меня был более чем скромный. Некоторые студенты класса Гуго Ионатановича говорили ему: «Зачем Вы его взяли. У него же нет голоса». На что он отвечал. «Поживем-увидим. Цыплят по осени считают». Проучился я полгода. И вот наступил первый зимний зачет по пению. Проходил он в Малом зале консерватории. Этот зал, хоть и называется Малым, но на самом деле совсем не малый. Это он малый по сравнению с Большим залом консерватории. Все студенты очень нервничают. Один студент вышел на сцену, начал петь вокализ и медленно сполз под рояль. Потерял сознание. Вот до какого напряжения были взвинчены нервы. Нет, я под рояль не падал, и сознание не терял, но тоже «отличился». В классе я пел вокализы сольфеджируя их, т. е. с названием нот. Гуго Ионатанович был принципиально против вокализации на одной гласной. Он говорил: «Ведь в жизни вам придется петь со словами. Вот и учиться петь надо со словами, а вокализация на одной гласной приводит гортань в статичное состояние». Я четыре месяца пел вокализы с названием нот, все было в порядке. И вот, я выхожу на сцену петь зачет и… и пою, вокализируя на одной гласной. Гуго Ионатанович понять не мог, как такое могло произойти. Позднее он говорил: «Ну, я мог бы понять это, если бы мы хоть раз в классе попробовали петь на одной гласной, но ведь мы же ни разу так не пели». Вот, что такое нервы. К счастью, больше у меня подобных казусов не было. Правда, был еще один неприятный момент, связанный с нервами. В классе я пел нормально, спокойно. Но стоило мне выйти на сцену и при публике, то через несколько секунд пения у меня горло схватывал спазм. Петь так было уже невозможно. Одно глотательное движение, которое убирало этот спазм, служило спасением. Но на это нужно время. А музыка не ждет, идет дальше. И эта «дырка» в пении очень заметна. Притом, это случалось только в самом начале пения, потом больше не возникало. Я спросил у Гуго Ионатановича, что же делать. Профессор ответил, что единственным «лекарством» от этого являются частые выступления на публике, и направил меня в сектор практики консерватории. В то время очень были распространены Университеты культуры при ЖЭКах и при школах. Вот сектор практики и формировал группы из студентов, которые обслуживали эти Университеты. Я стал ездить по ЖЭКам и петь. И, действительно, через какое-то время эти спазмы перестали появляться. Больше эта проблема никогда не возникала.
Помимо занятий по вокалу, мой профессор уже на втором курсе подготовительного отделения направил меня в оперную студию присматриваться, прислушиваться, и вообще, немного вживаться в театральную жизнь. В том же году он назначил меня на партию «Парня» в «Царской невесте». Это крошечная партия состоит всего из трех фраз. Но надо было их петь с оркестром, надо было не растеряться, и спеть вовремя. И хотя бы что-то сыграть. Позднее, также на подготовительном курсе, я спел уже более весомые партии: Трике и Запевалу в «Евгении Онегине» и Дона Базилио в опере Моцарта «Свадьба Фигаро».

С той поры я просто прописался в студии. Я проводил там все свободное время. Сейчас, вспоминая то время, я вижу, что юности у меня, в обычном понимании этого слова, не было. Я не ходил на танцы, не сидел в компаниях, не разгуливал с девушками. Я весь был поглощен занятиями и оперной студией. Летом 1960 года, после экзамена за второй подготовительный курс, меня перевели уже непосредственно в консерваторию, и я стал полноправным студентом первого курса вокального факультета Московской консерватории имени П. И. Чайковского. В то время консерватория не имела своей оперной студии, она арендовала несколько дней в неделю сцену Училища им. Щукина. Зальчик был очень маленький и сцена крошечная, не соответствующая оперному театру. Что и говорить, даже оркестр сидел под сценой, поэтому не всегда был хорошо слышен. И вот, на общем комсомольском собрании консерватории, когда зал был полон студентов всех факультетов, а в президиуме сидел ректор Александр Васильевич Свешников, мы, первокурсники, подговорили одного из наших студентов, которого звали Юра Калабин, с трибуны поднять вопрос о том, что студия очень мала и не соответствует требованиям оперного театра. Александр Васильевич пошептался с кем-то в президиуме, вероятно, узнавал, кто это такой, а потом спросил: «Товарищ Калабин, Вы сейчас на каком курсе?» Юра честно ответил: «На первом». Свешников продолжил: «Так вот, когда Вам понадобится оперная студия, мы уже построим новую». Вроде бы замечательно. Однако, с того момента прошло всего… 60 лет, Юра Калабин давно является солистом театра Б. А. Покровского, а может быть и вообще стал пенсионером, но до сих пор студии в консерватории НЕТ. Т. е. нет вообще никакой, ни своей, ни арендованной. Это поразительно – Московская консерватория им. П. И. Чайковского, считающаяся головным музыкальным учебным заведением, не имеет своей оперной студии. Певцы выходят из консерватории без оперной подготовки. Парадокс.
Наше поколение еще успело воспользоваться хотя бы той студией, которая была. Она нам дала очень большой опыт. В студии я спел (помимо «Парня», Трике и дона Базилио в «Свадьбе Фигаро») партии графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике», Ленского в «Евгении Онегине», Рудольфа в «Богеме» и Антонио в «Дуэнье». Т. е. в студии я получил большой опыт и пения с оркестром, и сценического поведения, и общения с партнерами. Когда я пришел работать в театр, для меня театр не стал чем-то новым и чужеродным.
Казалось бы, небольшой случай в моей жизни, но, тем не менее, я хочу на нем остановиться. В самом начале первого курса вокального факультета я уже активно работал в студии. Однажды, во время перерыва репетиции, ко мне обратился один старый работник хора. Он извинился и спросил, можно ли ему сказать мне о своем маленьком наблюдении. «Обратите внимание», сказал он, «я – бас, но я говорю высоко. А Вы – тенор и говорите низко, ниже, чем я. Это очень утомляет связки. Подумайте об этом, иначе в певческой жизни Вы будете испытывать большие трудности». Я сначала не предал этому особого значения. Но потом я подумал, сопоставил это с тем, что говорил Гуго Ионатанович о высокой позиции и понял, что этот бас был прав. И я стал следить за тем, чтобы говорить высоко. И, действительно, голос стал уставать меньше и звучать стабильнее. Это мне очень помогло в жизни, когда я уже был солистом театра. В театре исстари было принято, что в день спектакля певцы молчат. Они не разговаривают по телефону, с родными общаются только записками. Можно сказать – обет молчания. Я же вел обычный образ жизни. Я разговаривал по телефону, разговаривал с женой, смеялся. Только при этом всегда следил за высокой позицией. Когда я приходил вечером в театр на спектакль, я никогда не распевался. Мне это было уже не нужно. Разговаривая в течение дня в высокой позиции, я уже исподволь распевался, голос уже был распет. Однажды моя жена Тамара сказала: «Ну, а, может быть, все-таки они (т. е. те, кто принимали «обет молчания») правы? Давай попробуем провести день, как они». Я согласился и целый день молчал. Вечером пришел я в театр и начал распеваться…, а голоса нет, не звучит. Какой-то чужой, «неповоротливый». Мне пришлось очень долго распеваться, а он так до конца и не зазвучал как надо. Я промучился весь спектакль. А потом пришла Тамара, которая слушала меня в зале и сказала: «Ты был прав, это тебе противопоказано».
Когда мы работали в студии, мы забот не знали. Нас совершенно не интересовало, что консерватория арендует зал у училища. Мы считали это в порядке вещей. Но однажды (я уже, к счастью, работал в театре) Училище Щукина отказало консерватории в аренде. И что? А то, что студенты совсем перестали получать оперную практику, и стали выпускаться из консерватории, не имея ни сценического опыта, ни пения в опере. Но это еще не весь вред от разделения двух ВУЗов. Когда мы репетировали в студии, то мы часто смотрели и спектакли Щукинского училища, а щукинцы (или как они себя сами называли: «Щукины дети») слушали наши оперные спектакли. Это был процесс взаимного творческого обогащения. Юрий Петрович Любимов сначала поставил пьесу Б. Брехта «Добрый человек из Сезуана» именно на сцене Щукинского училища. Там, в студенческие годы я впервые и увидел этот спектакль. А теперь студенты консерватории не видят спектаклей Щукинцев, а те, в свою очередь, лишены возможности послушать оперу. И не только оперу. На этой сцене пели, будучи студентами, такие уже тогда замечательные певцы, как Т. Милашкина, Ю. Мазурок, А. Ведерников, Г. Писаренко и другие, ставшие впоследствии знаменитыми. Кроме таких знаменитостей в студии были еще студенты, которые потом составили высококачественный костяк солистов Большого театра. Таким, в частности, был баритон А. Федосеев. На нем хочу остановиться особо. Он был старше нас по курсу, да и по возрасту. Кроме того, он уже окончил Московский архитектурный институт и был профессиональным архитектором. Мы же, мелюзга, смотрели на него, как на что-то особенное. Он всегда был очень хорошо, модно одет, что нам было недоступно. После окончания консерватории он несколько лет пел в оперном театре города Новосибирска. В студии же мы с ним были партнерами, и позднее, когда его приняли в труппу Большого, наше партнерство продолжилось. Нельзя не упомянуть супружескую пару Глафиру и Юрия Королевых, Клару Кадинскую тоже впоследствии ставшими солистами оперы Большого театра. В студии были замечательные дирижеры. Это доцент Евгений Яковлевич Рацер и доцент Арон Соломонович Шерешевский. Оба прекрасные, тонкие музыканты и хорошие педагоги. Арон Соломонович был романтиком. Возможно, поэтому он с особым романтизмом дирижировал «Богемой». Было впечатление, что он сам находился в Париже в той атмосфере. Он прекрасно ощущал всю чувственность этой оперы. Петь с Ароном Соломоновичем всегда было очень легко, и я пел всегда с большим удовольствием. Арон Соломонович прекрасно слушал и чувствовал певца и шел за малейшим движением его голоса. Очень мне запомнилась одна фраза Арона Соломоновича, которая метко его характеризует. Однажды кто-то из теноров настаивал на том, чтобы ему дали петь партию Рудольфа в опере «Богема». Мотивировал этот студент так:
«– У меня же есть ДО. (нота До)»
На что Арон Соломонович изрек:
«– Эээ, батенька, нужно, чтобы не только До было, но и после…»
Арон Соломонович был дружен со Святославом Теофиловичем Рихтером. Когда, после смерти Шерешевского, 15 января 1975 г, в его память был дан концерт в оперной студии, Рихтер с оркестром студии исполнил концерт для фортепьяно с оркестром Р. Шумана. Это было во втором отделении. А в первом с оркестром пели Клара Кадинская и Ваш покорный слуга. Мы пели и сольно и дуэт Джильды и Герцога из оперы Верди «Риголетто».
Евгений Яковлевич Рацер был полной противоположностью Шерешевскому. Он был несколько суховат, педантичен, очень любил точность, скрупулезно следил за точностью выученных партий, и точностью пения.
Кроме дирижеров, в студии с нами работали и прекрасные режиссеры: это Заслуженный артист РСФСР, профессор Петр Саввич Саратовский, сам бывший певец, и Заслуженный артист РСФСР Игорь Константинович Липский – актер театра им. Вахтангова Они, начиная с азов, учили нас актерскому мастерству, а потом и совершенствовали его. Они учили нас сценической логике и органичности. Лично я очень им благодарен. Петр Саввич Саратовский совместно с Евгением Яковлевичем Рацером в 1959 году поставили оперу «Дуэнья». Это была первая постановка «Дуэньи» в Москве. Относительно через небольшой срок «Дуэнья» (она же «Обручение в монастыре») была поставлена и на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Так вот, постановка в нашей оперной студии была признана более интересной и удачной, чем в Театре им. Станиславского. Это подтвердили композиторы, собравшиеся в это время на свой очередной съезд. Они послушали оба спектакля, сравнили, и результатом этого была статья в одной из газет под названием «Давид победил Голиафа». В премьерных спектаклях «Дуэньи» я не участвовал. Я был еще «маленький» и вошел в этот спектакль только через несколько лет.
В студии, как и в любом театре, случались смешные казусы. Однажды, на спектакле «Богема» в последнем акте певица, певшая партию Мими, не взяла с собой на сцену плед. Этим пледом я должен был укрыть ее, лежащую на кушетке. «Умирающая» Мими тихо шепнула мне на ухо: «Плед забыла». Краем глаза я заметил висящую на стуле какую-то ткань. Сделав мощный рывок в сторону стула, я схватил ткань и, удовлетворенный находкой, укрыл Мими. В это время подползает ко мне певец, который пел партию Коллена и с безумными глазами говорит: «Ты что сделал. Это же мой плащ. Как же я буду петь свою арию». А ария так и называется «Ария с плащом». Суть ее в том, что Коллен готовится продать плащ, чтобы купить лекарства для Мими. Начинается она так: «Плащ старый неизменный. Я расстаюсь с тобой, мне нужна твоя услуга, выручать надо друга». Стаскивать плащ с умирающей Мими, конечно, никто не мог. Оркестр сыграл вступление к арии Коллена, певец взял угол пиджака в кулак и спел: «Пиджак старый неизменный…» На сцене тряслись все, вплоть до «умирающей» Мими. Коллен спел и ушел. Через определенное по роли время он возвращается уже в рубашке, без пиджака. Это развеселило нас. еще больше. Вообще, на сцене очень простые и даже не смешные в жизни вещи иногда вызывают приступы безудержного смеха. Причём особенно смешно бывает, когда по сюжету смеяться нельзя.
Был еще один запоминающийся случай. В начале 1960-х годов один художник привез из заграничной командировки в Москву оспу. Страшно заразная болезнь. Боялись начала эпидемии. И вся Москва ходила под впечатлением возможности заразиться. Везде делали прививки. И, конечно, самой злободневной темой для разговоров, была именно оспа. Все время было слышно: оспа, оспа, оспа. И вот в этот период в студии идет спектакль «Севильский цирюльник». За пультом Е. Я. Рацер. Во втором акте, в дом доктора Бартоло «неожиданно» для других персонажей приходит Бон Базилио. Он всем мешает, и все стремятся под любым, даже надуманным предлогом, скорее его выпроводить. В знаменитом квинтете есть такой текст:
– Дон Базилио, дон Базилио напрасно, да, напрасно Вы выходите больной.
Он изумленно спрашивает:
– Я-больной?
– О, да, конечно. Точно мертвый, побледнели
– Точно мертвый. Неужели и т. д.
Так вот в этом месте один аспирант, который пел дона Базилио спел так:
– Может оспа. Неужели.
Что потом было в зале – передать трудно. Хохотали так, что стены дрожали! Все держались за животы. Оркестр побросал смычки и ничего играть уже не мог. На какое-то время спектакль в буквальном смысле остановился. Певцы не могли петь. Оркестр не мог играть. К счастью, я этот спектакль не пел. Я человек очень смешливый, думаю, что не успокоился бы до конца акта. Как-то потом я разговаривал с Евгением Яковлевичем и в частности спросил об этом случае. Он сказал, что сначала он очень рассердился, но потом, видя, что происходит в зале и в оркестре, и сам стал смеяться. Я понимаю, сейчас, когда угрозы оспы нет, это все может быть и не так смешно, но тогда…
12 апреля 1961 года состоялся знаменитый полет Юрия Алексеевича Гагарина – первого человека, покорившего космос. Вся страна ликовала. Мне рассказывал впоследствии режиссер Большого театра Никита Юрьевич Никифоров, как он выступил в театре по этому поводу. В тот день шел утренний спектакль. Зрители еще не знали о событии. И вот Никита Юрьевич, непосредственно перед началом следующего акта, когда все уже сидели на своих местах и свет в зале был погашен, вышел перед занавесом и объявил, что сегодня майор Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космическое пространство. Он рассказывал, что тут началось… Потом он шутил, что получил такие аплодисменты, которых ни у кого из певцов никогда не было. Это, конечно же, была жизненная веха.
Году в 1961 руководство Московского Дома культуры им. Горбунова обратилось в ректорат консерватории с просьбой прислать к ним для усиления хора двух теноров. У них был большой самодеятельный хор, который собирался ехать в Венгрию на международный конкурс самодеятельных хоров. И вот меня и еще одного тенора Николая Гуторовича (впоследствии солист театра им. Станиславского) отрядили летом в хор.
Хор, хоть и самодеятельный, но был очень профессионально подготовлен, звучал прекрасно, а произведения были сложные. Мы сразу же включились в работу. Нужно было выучить все произведения и влиться в коллектив. Репетиции были ежедневные. Руководил хором профессиональный хормейстер Юрий Михайлович Уланов, очень опытный, очень талантливый и знающий свое дело человек. Во время поездки он даже в поезде в проходе вагона устраивал репетиции. Результатом его усиленной работы было то, что на конкурсе хор получил первое место. Помимо общих произведений с хором, я еще солировал с хором русскую народную песню «Однозвучно гремит колокольчик». Это была моя первая поездка за границу. Удивительно было все. Конкурс проходил в небольшом городке под названием Дебрецен. Маленький, уютный, очень непривычный для нашего глаза городок. Керамические крыши и белые стены. Мужчины, даже пожилые, ходили по улицам в шортах. Да и женщины тоже. Было жарко. В то время у нас за такую одежду милиция просто бы задержала. Все там было не так, как у нас. Непривычно, что все разговаривают на чужом языке. И полно импортных автомобилей (своих-то у них не было). У нас в то время они исчислялись единицами и редко встречались на улицах. После победы на конкурсе в качестве поощрения хору была предоставлена поездка на два дня в Будапешт. Поселили нас в общежитии. Это было прекрасное новое здание, очень чистое, совсем не похожее на наши привычные общаги. И что очень удивило: использование пластиков в оформлении комнат. У нас тогда об этом и не мечтали. Комнаты рассчитаны на четырех человек. Вот только санузел и умывальник были, как и у нас, общие в коридоре на этаже.

