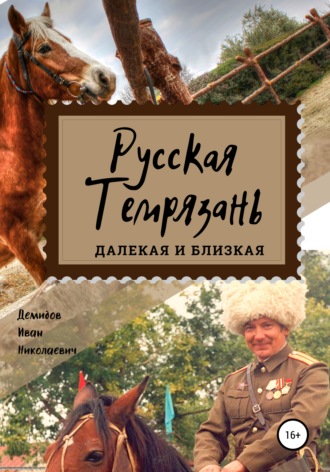
Полная версия
Русская Темрязань далекая и близкая
Когда Никита возвращался к шалашу, около оврага на открытом месте напал на стаю молоденьких рыжиков. Росли они в густой зеленой траве, чистые и сочные, как молочные. Такие рыжики Никита мальчишкой ел сырые, особенно они ему нравились присоленные.
Солдат опустился на колени и стал осторожно вытаскивать из травы оранжевые мясистые тарелочки, складывая их в одну кучу.
Увлекся рыжиками Никита и мрачные слова забыл. Ползает по траве и радуется, причитая:
–Рыженькие вы мои, сладенькие. Господи, уродилось то вас сколько, что мне с вами теперь делать? Как домой донести? Мама жареные рыжики любит. Гостинцем желанным вы ей будете.
Рыжиков насобирал Никита фунтов десять. Часть грибов сложил в багаж, а часть отложил для приготовления завтрака.
За долгую дорогу солдату надоела сухомятка, и он решил суп сварить грибной. Суп из рыжиков с сухарями удался на славу. Никита хлебал грибное варево солдатской ложкой, да приговаривал:
–Вкусно, ядрена палка!
Летом солнце начинает быстро пригревать, скоро роса сошла. Никита переобулся, умыл руки, перекрестился, попил на дорожку лесной водицы и побежал вдоль речки по косогору домой. Через час-другой на горизонте показалась песчаная плешь Лысой горы, у подножия которой и приткнулось село Сосновка, откуда много лет назад увезли Никиту на службу.
«Вот я и дома, – подумал солдат и прибавил шагу. Тропа вывела его на наезженную дорогу, которая тут же спустилась в овраг.
Сумрачно было в овраге, прохладно. Солдат перешагнул узкий журчащий громко ручеек и остановился перед старой сосной, на стволе которой в рост человека был вырублен староверский крест.
Поклажу сбросил Никита на землю, снял с головы солдатскую шляпу, прижал ее к животу и размашисто перекрестился.
–Господи, Иисусе Христе, царствие небесное тебе, отец, и вечного покоя твоей душе. Вот я и вернулся с войны, со службы, слава Богу, здоровым. Помогал ты мне невидимо в ратном деле, теперь помоги здесь дома крестьянствовать.
Постоял Никита около старой сосны, перекрестился еще раз, поклажу взвалил на плечи и бегом побежал по тропинке на бугор. За оврагом начинался край села.
Вот и отчий дом. Глянул отставной солдат на окна с замшелыми наличниками, и радуга заиграла у него на ресницах. Соломенная крыша дома, заметно потемневшая, за долгие годы службы, закачалась. Казалось высокое крыльцо, проросшее мхом вот, вот развалится. Только стог сена великаном стоял на задах, как и много лет назад, суля семейный достаток.
Сердце у Никиты забилось сильнее, в ушах зазвенело, рот открылся от уха до уха, и вырвалось из глубины души солдата:
–Экая благодать попасть домой после службы на чужбине. Как не быть благодарным Богу за такое счастье. Маму сейчас увижу! Родненькая моя, чуешь ли ты, что стою около двора?
Солдат пробежал огородом во двор, зашел в избу, остановился около порога, сбросил с себя груз на лавку и осмотрелся в полутьме.
В избе было чисто прибрано, пахло душицей и медом. В переднем углу темные образа были по-праздничному завешаны чистыми, расшитыми петухами, полотенцами, пол устлан пестрыми половиками. Все было как в детстве, ничего не изменилось. Радость переполняла солдата. Много лет он ждал этого момента.
–Кто дома есть? – проговорил Никита сиплым от волнения голосом и закашлялся, в горле у него запершило. Желал солдат скорее мать увидеть, прижать ее к груди старенькую. Какая она теперь? Никита помнит ее молодой, красивой.
Из чулана вышла девка в длинном холщовом сарафане. На ее голове была повязана темная косынка. Никите показалось, что стоит перед ним Огашка-Сирота, плотная телом и все такая же неотразимая.
–Что ты в нашем доме делаешь, ворожея, мама где?
–Обознались вы, мил человек, не ворожея я, а Марфа.
–Марфа?… – Никита вспомнил письмо матери, полученное им на первом году службы, в котором она писала, что ей на порог подкинули годовалую девочку. Мать ее назвала Марфой, так у себя и оставила. – Ишь ты, какая выросла, остроглазая! А кто тебе Огашка-Сирота? Сестра? Мать?
–Никто.
–Сомнительно! Сходство поразительное. Я аж остолбенел.
–Не я на нее похожа, а она на меня. Разной мы с ней веры. Так мне мама сказала. До ворожеи у меня дела нет!
–Вот как?
Никита откашлялся в кулак.
«С характером девка. Круче Огашки-Сироты».
Солдат снял с головы треуголку, поклонился и представился:
–Никита я, гордая красавица, мама где?
Марфа растерялась, зеленые глаза ее забегали, щеки зарумянились. Она пристальнее вгляделась в рослого гренадера и поклонилась в пояс.
–Проходите, хозяин, за стол садитесь, поесть я вам соберу, – сказала Марфа, опустив голову, и поспешно скрылась за занавеской.
В чулане загремела заслонка печи. По избе пошел дух постных щей, запахло вареным горохом, толченым конопляным семенем.
«Беда-то стряслась, какая. Мама родненькая…».
Солдат, шатаясь, прошел вперед, сел под иконами, руки положил на стол, а на руки несчастную голову. Плечи его затряслись, а из груди вырвался стон.
Марфа вышла из чулана со щами и кашей, увидев плачущего Никиту, застыла от удивления. Придя в себя, она поставила глиняные чашки на стол, прикрылась подолом и тоже заплакала навзрыд.
Не знала Марфа ни родную мать, ни отца. Лапушку Груню Босую считала своей мамой, мать солдата, которого по военному времени ни разу не отпустили на побывку.
Много лет собирались Марфа с приемной матерью на свиданку с солдатом, но его письма приходили из разных мест и толком они не знали куда ехать. Так и не сбылась их мечта. А потом лапушка Груня занедужилась, совсем захворала, умирать собралась. И на смертном одре она заказала Марфе солдата ждать.
–Дождусь, мама! – пообещала Марфа.
–Спасибо, дочка, послушница моя и отрада. Только и жила я эти годы ради тебя. Только вот сомневаться сейчас перед кончиной стала. Да и в самом деле надо ли ждать тебе его? Ты такая молоденькая, а ему под сорок уже, четвертый десяток разменял. И не знай, еще какой вернется, может калекой? Всю его службу царь воюет.
Какой будет, такого и любить буду! Вот крест! Ответила Марфа, целуя мать.
Обоих мне вас жалко, о вас у меня забота. Хотелось бы увидеть мне вас рядом здоровыми, счастья я вам желаю, дочка, вам обоим.
Марфа видела, как тело матери под одеялом зашевелилось, а голова успокоилась. Никита смотрел на рыдающую девушку, и голова его опять упала на скрещенные руки.
Марфа вышла в сенцы и вернулась с большой деревянной кружкой полной медовой настойки и, подойдя к столу, сказала солдату:
Мама готовила настойку к вашему возвращению, выпейте хозяин, легче станет.
Никита поднял голову, взял из рук Марфы кружку.
Пусть маме земля станет пухом, – сказал он и стал пить настойку большими глотками. Рука его дрожала, и медовуха плескалась из кружки ему на бороду. Холодная была настойка, ядреная, хмельная, пилась легко, а в груди огонь зажгла, до живота дошла, в голове зашумело. Вспомнился Никите ночной сон, длинная речь матери.
Выпив кружку до дна, солдат крякнул, улыбнулся девушке и поставил пустую кружку на стол.
–Благодарствую, Марфуша, как тебя величать по батюшке, красота неописанная?
–Не знаю я своего родителя, – ответила девушка, смутившись, и подала полотенце со словами, – вытри бороду, хозяин, на маму ты похож глазами, счастливый будешь, ждала она тебя с самой пасхи, все деньки считала, а на троицу, как с огородом управились, слегла.
–Марфа, снилась она мне нынче ночью в Колдыбани, наказала долго жить, жениться, и чтоб обязательно сын был, внуки, чтоб род продолжить. Выходи замуж за меня, Марфа, а?
–Как скажешь, хозяин, – тихо ответила Марфа и поклонилась Никите в пояс, потом выпрямилась, смело посмотрела ему в глаза и заулыбалась искренне.
Солдату показалось, что от Марфиной улыбки в его старой избе светлее стало, как будто в нее солнышко заглянуло.
Никита тоже заулыбался, рот растянулся у него до ушей. Никогда он не чувствовал себя таким счастливым.
«Вот он, мамин подарок – Марфа».
Никита вспомнил и про свои подарки. Он схватил с лавки мешок и торопливо стал развязывать.
–Марфуша, у меня в мешке подарки, вот шелковый полушалок, заморский, маме я вез, теперь тебе носить, красивый, Марфушка, барыней в нем станешь.
Марфа взяла из рук Никиты яркий полушалок, красивым жестом набросила его на плечи, повернулась кругом и подошла к зеркалу. Никита тоже подошел к Марфе вплотную и обнял ее.
Марфе нравился нарядный полушалок и обнявший ее добрый Никита.
Дед Родион в шелковой розовой рубахе, подпоясанный разноцветным плетеным поясом с длинными кистями на концах и с пышно расчесанной по торжественному случаю бородой, встречал внука с хлебом, с солью у крыльца своей избы.
Никита в солдатском парадном кафтане, в высоких ботфортах и в новой шляпе-треуголке подошел к деду, обнял его и поцеловал три раза в губы. А затем поднял богатыря на вытянутые руки высоко, вровень с соломенной крышей дома.
Ребятишки, глазевшие из толпы, заорали от восхищения.
Вот силища! Богатырь богатыря поднял, как ребятенка.
Дед Родион прослезился от радости и гордости, глядя на долгожданного солдата. Только по синим глазам признал дед внука, так сильно изменился внешне Никита за многолетнюю службу.
Если бы дед увидел солдата случайно в другом месте, мог бы и не признать. Даже подумал бы как о чужом.
«Вот, мол, есть еще на Руси богатыри. А это свой, родненький!»
Вечером в доме Родиона Босого было полно народу. Родные, сидели за столами, пили медовуху, закусывали малосольными огурцами, пирогами с морковью, мясом.
Дед Родион поставил в сенцах для посторонних бочонок медовухи и бочонок свекольного кваса, и односельчане угощались сами, кто чего желал.
В тот же вечер дед заодно объявил перед всем народом помолвку Никиты с Марфой, которые сидели за столом под образами, как жених и невеста.
Марфа от счастья краснела, а Никита, глядя на нее тоже смущался. Глядеть солдата и счастливую Марфу, набежало все село. В избе народ не уместился. Толпа стояла на улице, у открытых окон.
Захмелевшие родственники стали петь песни, а чужие смотрели на жениха и невесту и на гуляющих через окна и даже стояли в избе около порога. Никто их не гнал из избы, смотреть разрешалось, которые посмелее, стояли прямо около стола. На печке было полно девок, они шушукались, и потихоньку хихикали.
На другой день стали одевать невесту, волосы причесали, косу переплели, на голову воздели высокий в виде города венец. Поверх венца покрыли невесту белым платком и усадили на тарантас рядом с женихом. Никита надел парадную солдатскую амуницию.
Кучер с красным бантом, пришитым к фуражке стегнул кнутом коренного и тройка, гремя бубенцами рванула из ворот, развернулась и пронеслась по центральной улице к церкви.
Свадьбу играли два дня. Гости, как положено часто кричали «горько», а Никита и Марфа целовались.
В разгар свадьбы среди зевак, глазевших на гулящих кулугуров, появился высокий и статный Васька Плешивый в новом, только что с иголочки зеленом мундире лесника с блестящими петлицами.
Сказывают, здесь угощают? – Спросил он молодого белобрысого парня, сидящего на бревне.
Парень вскочил, снял с головы валяную шляпу, прижал ее к груди и демонстративно поклонился.
Приветствую вас, господин лесной обходчик, не соизволите ли сесть на мое место, только осторожно, новый мундир не испачкайте, тут смола.
Рядом стоящие мужики и парни загоготали.
–Что ржете, дураки? Я же вас по-человечески спрашиваю!
–Василий Степанович, – вызвался пояснить Плешивому тот же парень-весельчак, – Родион Большой внука женит, угощает всех кто желает. Бочонок со старым медом в сенцах стоит, на нем и кружка.
–Уважь, принеси старшему обходчику,
–Монету давай, принесу.
Мужики еще громче загоготали.
Лесник занервничал, кулаки сжал.
–Неси, говорю, прощелыга. Припомню я твой зимний поруб.
–Уговорил, – сказал парень и побежал в сени.
Выпив кружку крепкого меда, Васька пошел к окну молодых смотреть.
Васька Плешивый улучил момент встретиться с солдатом и подошел к нему, когда тот вышел проветриться,
–Прими, Никита, мои поздравления с законным браком, – и, пожимая ладонь – лопату богатыря обоими руками, добавил, – не узнаешь чай меня, это и неудивительно, не общались мы с тобой в детстве, избегали встреч, а потом тебя на царскую службу увезли. А ведь мы одногодки с тобой и осиротели в одночасье, еще на свет не родившись. Теперь узнал?
Никита нахмурился. Он понял, что этот щеголь в форме лесного обходчика сын разбойника Степана Грязного.
–Признал я тебя Василий Степанович. По мундиру ты человеком стал. Лесник в нашей Сосновке и раньше имел авторитет. Как это тебе удалось устроиться, помог кто?
–Долго рассказывать. Огашка-Сирота сейчас вращается в верхах, в лесном начальстве и меня пристроила. Справляюсь.
Никите нисколько не хотелось слушать хвальбу Плешивого и он перебил его:
–Короче, что ты хотел мне сказать?
–Не торопи меня. Вот о чем будет моя речь. Выросли мы из того возраста, чтобы продолжать родовую вражду, я за мировую. А ты как скажешь, так и будет. Я человек прямой, не люблю недомолвок.
Никита продолжал хмуриться. Не вовремя Васька подошел к нему с разговором при большем народе, но от ответа увиливать не стал.
–Вот что: другом быть я тебе не обещаю, но и не боись, мстить не буду, живи, как знаешь, только не попадайся под горячую руку. Я считаю, что сын за отца не ответчик.
Ваську удовлетворил такой ответ. Он обнял солдата за талию и вновь заговорил:
Не торопись гнать меня от себя, Босой. Я еще могу тебе пригодиться. Лес я охраняю в нашей округе. Но не лютую, за каждой сосенкой не гоняюсь, как другие лесники. Сам живу и даю жить другим. Вот будешь строиться, тоже ко мне пойдешь за лесом. Смело подходи. Молочные братья мы, что-нибудь сообразим.
Хорошо, ловлю тебя на слове. Строиться я буду в Колдыбани. Место я там облюбовал около холодного озера, рядом с живым родником.
У Васьки плешивого от удивления глаза округлились.
Постой, постой, что ты говоришь? Строиться будешь в Колдыбани? Это в безлюдном урочище? И что будешь строить? Омшаник или зимовье?
Усадьбу. Землю там раскорчую, распашу, крестьянствовать буду.
Для такой стройки надо уйма денег. Строевой лес сейчас дорогой, а тебе надо не одну сосну срубить и не две. И за землю с лесничеством всю жизнь не расплатишься.
Никита рассмеялся.
Расплачусь. У меня на строевой лес и землю льготы есть, как отставному солдату.
Васька Плешивый еще больше удивился.
Льготы? Это значит задарма? Вот это да! Помещиком будешь!
Что ты понимаешь в льготах? Их задарма не дают. Они оплачены кровью, – Никита хлопнул тяжелой рукой по плечу и добавил, помещик-барин, бездельник, а я сам хочу усадьбу построить, сам землю распашу, и сам буду на ней работать, детей растить, жизни радоваться, свободе. Ну да ладно, разговорился я с тобой и про невесту забыл, еще украдут. Пошел я в избу. Солдата в сенях встретил дед и сказал ему с упреком:
Не по нутру мне твой разговор, внучек, с Плешивым. Слышал я, о чем вы толковали. Нашел перед кем душу открывать. Забыл что ли, что он тебе кровный враг? Да он теперь про твою Колдыбань на всю округу раззвонит. Язык у него – помело. Ехиднее Плешивого за всю длинную жизнь я мужика не видел. Завистливый, в Чирковых. Грязные – враги нашему роду. Обложили они нас. Ты, наверное заметил, что Марфа похожа на твою бывшую ухажерку Огашку-Сироту.
Да, заметил. А кто она ей? Сестра? Мать?
Ничего я об этом не ведаю. Про это твоя мать умалчивала, а я не приставал к ней с расспросами. Так и унесла эту тайну с собой в могилу. Значит, не надо было об этом никому знать. Она была мать, и ей было виднее. Но об этом до сих пор ходят пересуды. И Васька Плешивый решил признать Марфу сводной сестрой. Стал олух к Марфе приставать с родственными чувствами, деньги вымогать. Марфа с малых лет сторонилась Огашки-Сироты, а тем более Васьки Плешивого. И когда «братик» ей надоел до омерзения, она и влепила ему заряд крупной соли в зад. Целую неделю Огашка-Сирота кочедыком соль выковыривала. Смеху тогда было на все село. Вот такой воспитала твоя мать Марфу, настоящей кулугуркой. Твоя мать была великого ума женщина. Царствие ей небесное. Бывало, приятно было с ней покалякать. Добрая была душа.
Никиту развеселил рассказ деда. Особенно понравилась соленая развязка Марфы с «родственничком».
Понятно мне теперь почему Васька Плешивый у меня перемирие запросил. Понял значит ухарь, что с нами лучше жить в мире.
Глава четвертая. Колдыбань изначальная
После свадьбы, как только гости разъехались, Никита подошел к деду с разговором. Тот, в то время лошадей поил в конюшне.
–Слушай, дед, завтра мы с Марфой выезжаем в Колдыбань. Нельзя нам время тратить. Осень быстро подкатит. Не успеем и оглянуться. Посоветуй что как.
Дед с удивлением глянул на внука, пустую бадейку на землю поставил.
–Ты о чем, внучек?
–Как это о чем? О стройке. Ты же слышал, что я собираюсь переезжать жить в Колдыбань.
Дед почесал в затылке, расчесал толстыми пальцами бороду.
–Вот ты о чем. А у меня со свадьбой это из головы выпало. Постой, постой, скорый ты очень, стройку обмозговать надо и не в один день, с родными переговорить, с плотниками. Одни мы с тобой до осени только зимовье можем построить и то без крыши.
Никита нахмурился.
–Вот и мозгуй советуйся с кем хочешь, а мы с Марфой завтра уже выезжаем. Мне ее не пришлось упрашивать. Она со мною согласна, куда хошь ехать, хоть на край света. Поедешь с нами?
Дед глубоко вздохнул.
–Постой, дай очухаться. Шутка ли, в лес ехать жить, усадьбу строить. Канитель твоя свалилась на меня, как воз сена, неожиданно, врасплох. Да что мне остается делать? Конечно, поеду. Тут я без тебя с ума сойду. Пока вам жизнь не устрою, не будет мне покою. Завтра – так завтра. Пойду собираться. Лукерью надо уведомить. Она еще ничего не знает. Вот удивиться. Будет мне от нее нагоняй. Ума не приложу, как это тебя угораздило надумать такое. Охо, хо… Годы мои, со счета я сбился, сколько лет живу кажись, давно за сто перевалило.
Дед поднял порожнюю бадейку и вышел из конюшни, кряхтя и охая.
Никите жалко стало деда.
«Зря я его канителю, он уже свое понастроил. А не брать – обидится».
Выехали Босые туманным утром до восхода солнца на лошадях верхом. Все их узлы с мукой, с солью, с постелью, с плотницким инструментом и домашней утварью были притороченные к седлам.
Родион Большой ехал впереди молодых. Его гнедой каким-то чудом не сбивался с лесной троны в густом, как молоко, тумане. Умаявшись за ночь со сборами, дед в мягком самодельном седле расслабился и настроился на дремоту.
Марфа ехала на лошади белой масти с густой гривой и длинным необрезанным хвостом, часто хлеставшим ее не больно по плечам.
А Никиту тяжело нес на себе серый в яблоках могучий жеребец, жуя, взнузданный металл узды, оскаленными желтыми зубами.
В Красном Бору на бугре всадники выехали из тумана. Счастливые лица молодых озарило восходящее солнце.
В ту августовскую пору над Колдыбанью после проливных дождей установилось ведро с теплыми, туманными ночами и с нежарким солнцем днем. Грибов появилось в лесу много всяких и белых, и красных, и зеленых, и в крапинку. И было их на тропе столько, что коням ступить было негде, копытами их давили.
Глазастая Марфа спокойно созерцала на яркие мухоморы и другие поганые грибы, а когда увидела под старыми березами вспоротую белянками землю, воскликнула:
–Дединька, глядитеко, синороек сколько, прямо слои, набрать бы надо на вареники.
Дед натянул поводок. Гнедой остановился. Повернув голову в сторону старых берез, старый сказал:
–Я уж не буду спешиваться, а ты, дочка, разомнись набери лукошко молоденьких конечно, пригодятся.
Марфа спрыгнула с седла, отвязала пустое лукошко и побежала по березняку к слоям белянок. Слез с коня и Никита. Он побежал помогать Марфе.
Марфа ломала грибы, складывала их порядком в лукошко и восторгалась:
–Никитушка, вот удача, так удача. Сколько их тут! А вот и дорогие, и все молоденькие, мясистые крепыши. Вот поедим, полакомимся. Я их вам так приготовлю, прямо на костре – пальчики оближете.
Так, с удачи начался у Босых первый день в Колдыбани. Пока добирались они до шалаша, Марфа еще нарвала узел спелых орехов.
Узлы пришельцы сложили у входа шалаша, коней спутали и пустили пастись, а сами направились к живому роднику водички свежей попить, передохнуть и помолиться перед началом большой стройки.
Наутро не обошлось без происшествий.
Проснулась хозяйка Колдыбани, когда уже солнышко поднялось высоко и заглянуло в проем камышового шалаша, огляделась. Никиты с ней рядом не было. Из сосновой рощи отчетливо доносился стук топоров.
«Мужики уже сосны валят, а я все сплю, лежебока. Встать давно должна. Завтрак готовить».
Марфа шустро вскочила из-под овчинного тулупа. Она решила сначала умыться, привести себя в порядок, шайку с водой нашла у входа в шалаш.
«Умничка, водички полную шайку принес, позаботился».
Умывшись и причесав длинные волосы, Марфа надела новый самотканый сарафан, разукрашенный цветными нитками, обула легкие липовые ступни и повязала на голову косынку в горошек.
Заглянув в маленькое зеркальце, она осталась довольна собой.
«Теперь можно за дело приниматься. Мужики рано встали, небось, проголодались».
С бугра Марфа увидела на озере плавающую, на гладкой зеркальной поверхности стаю серых гусей. Ей захотелось рассмотреть их поближе. И она пошла по густой высокой осоке к низкому берегу, остановилась у куста, бросающего тень на озеро. Тут же ее привлекла внимание голова чудища, греющегося на мелководье, на солнышке. По немигающим глазам и спине, заросшей зеленым мхом, она поняла, что из воды смотрит на нее Водяной.
Марфу от берега как ветром сдуло. Полная ужаса она побежала через трясину напрямик к мужикам, и заорала блажью во весь голос.
На душераздирающий крик, побросав топоры, бросились Никита с дедом.
–Что с тобой Марфуша? На тебе лица нет. Тебя змея укусила? – Вскричал Никита, встретив жену. Он поднял ее на руки, – да ты дрожишь вся. Кто тебя так испугал?
Марфа ухватившись за шею Никиты и всхлипывая, ответила:
–На меня из озера водяной глядел, вон там под тенью куста. Страшно мне. Не останусь я здесь.
Дед прошел к указанному месту и увидел у берега замутневшую воду. Он махнул рукой молодым и крикнул:
–Марфа! Щука это была. Я тоже ее испугался прошлым летом на этом самом месте. Большая щука, с пуд весом. От старости спина ее заросла мхом и мне тоже показалась чудищем. В нашем холодном озере нет никакого водяного. На утят и гусят щука охотится здесь на мелководье, прожорливая рыбина. Но на человека напасть ей не дано.
А Марфа не унималась, продолжала голосить и обливаться горючими слезами, ползала как рехнувшаяся на коленях, в ногах у мужа и умоляла его покинуть это нечистое место.
Глядя на напуганную насмерть жену, Никита сказал подошедшему деду:
–Бросаем работу. Строить плот надо. Этой же ночью прошарить все озеро надо с факелом, щуку непременно отыскать и заколоть. Иначе Марфа не уймется. Еще чего умом тронется. Показать ей щуку надо.
–Само собой, – ответил дед внуку.
Весь оставшийся день Марфа не отходила от мужиков. Сидя на бревне, она крестилась, шептала молитву и была вся не своя. А Никита с дедом в срочном порядке строили на берегу озера плот, смолили мочало для факелов.
Вечером, как стемнело, Никита с дедом спустили плот на воду. На носу плота на длинной палке, воткнутой под углом между бревен, горел смоляной факел и под водой просматривалось илистое дно озера и всякая уснувшая живность.
Щуку Никита с дедом искали долго и упорно. И нашли ее у противоположного берега около высокого камыша спящую с раздутым брюхом. Никита сначала принял ее за толстое бревно, но присмотревшись повнимательнее, стал различать по шевелению жабр ее огромную голову. В такую мишень ему трудно было промахнуться. И щуку он заколол острогой с первого удара. Проколотая насквозь щука-гигант билась хвостом о бревна плота, раскачивая его. Никита с дедом еле удержались на плоту. Хорошо, что черен остроги выдержал, и не сломался, а то бы упустили добычу, А потом, когда щука обессилила, охотникам не составило труда отбуксировать добычу на мелководье и вытащить на берег.
Только на другой день Марфа при солнышке рассмотрела, напугавшую ее щуку и признала в ней того самого водяного по зеленому мху на спине и по неподвижным огромным глазам. Позже Марфа совсем успокоилась и даже осмелилась купаться по вечерам с Никитой в озере, заплывая далеко от берега.

