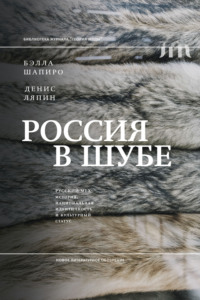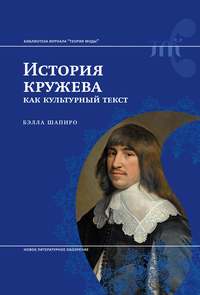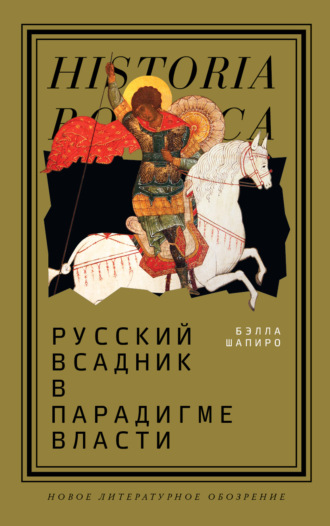
Полная версия
Русский всадник в парадигме власти
Ухоженные должным образом и наряженные лошади являлись предметом гордости придворного конного хозяйства и служили достойным оформлением царского выезда: «да как наденут на них самую нарядную сбрую и выедут на какое-нибудь общественное торжество, то и сами тогда бывают загляденье»587. Так, военный и дипломат Михаил Обухович, бывший в Московском государстве в 1650–1660‐х гг., пишет, что «лошадиные головы убирались страусовыми перьями, их спины и дуги саней были покрыты красным бархатом; сами сани были накрыты золотной парчой»588. Для наибольшей торжественности лошади подбирались похожие одна на другую.
Лошади назначались в работу по росписи: «вели царского коня, назначенного на этот день»589, а другой свидетель повседневной жизни дворцовой конюшни продолжает: «а для всякого царского выходу и походу, в который день бывает выход и выезд, лошади, и сани, и кареты, и колымаги, и каптаны про царицу и царевен, готовят и наряжают по росписи, в котором году и в которой день что было какого наряду, или и вновь что прикажут»590. Так, царевичу Федору I Ивановичу при выездах с отцом отводилось «платье чистое каково пригож; седло обычное, иноходец по приказу»591.
Основная часть государевых лошадей размещалась у Новодевичьего монастыря, на Остоженном дворе. «Аргамаки резвы»592, т. е. заводские породные лошади, стояли на Аргамачьих конюшнях в Конюшенном государевом дворце у Боровицких ворот Кремля, на конюшнях Варварки в Китай-городе и на конюшнях Белого города. В Конюшенном государевом дворце также располагалась санниковая и колымажная конюшня, где стояли упряжные лошади. Запасные конюшни размещались в Земляном городе593. Имелись государевы конюшни и в дворцовых селах Коломенское594 и Измайлово595.
Табуны выпасались на Остоженских лугах и вдоль поймы Москвы-реки от Лужников до Пресни. Неподалеку располагались слободы обслуживающего персонала, что сказалось на топонимике города596. По мере разрастания дворцового конюшенного хозяйства взамен Аргамачьей и Большой конюшен («старой государевой конюшни» при Колымажном дворе в Чертолье) было выстроено обширное здание «Аргамачий двор». Это произошло в царствование Федора Алексеевича, когда поголовье всех 16 государевых конюшен за период с 1677 г. по 1681 г. выросло с 4426 до 5163 лошадей (верховых и упряжных)597.
Точные цифры конского состава, который находился собственно под «государевым седлом», от года к году несколько разнятся, но общее представление о размерах царских конюшен составить можно. По одним данным, царю Алексею Михайловичу лично принадлежало 150 лошадей, и еще 50 лошадей обслуживало нужды цариц и царевен; вся эта масса делилась на несколько разрядов, основными из которых были верховые, разъездные и экипажные. По другому принципу подсчета, царь владел 75 верховыми лошадьми и двумя сотнями экипажных598.
Экипажные, или рысистые, лошади делились на санников, которые запрягались только в сани, и колымажных возников599, или каретных лошадей600. Породные упряжные лошади имели свои отличительные черты: это были крупные, рослые животные большой физической силы и выносливости. Именно такими были царские возники и санники, которые упоминаются в нарративных источниках как очень дорогие и особо желанные подарки. Спрос на них активизируется со второй половины XVI–XVII в., вместе с распространением экипажей601. Выше прочих ценились экземпляры, приученные к запряжке квадригой или «рядом», «гусем» и «цугом»602.
Вся масса царских экипажных лошадей разделялась на дюжины603, подобранные по масти. Стоит отметить, что в русской культуре лошади, белые «как снег», ценились намного выше прочих604. «Белые дюжины» учитывались особо; они запрягались чаще в высокоторжественных случаях: «кареты, в которых ездят царские супруги, обиты красным сукном и везут их большею частью восемь белых, как снег, лошадей, украшенных нагрудниками и нахвостниками из красного шелка, а по бокам идет ряд телохранителей», – восхищались современники605. Кроме того, белые лошади запрягались в царицыных конных поездах, которые обыкновенно обставлялись еще более презентабельно, чем совместные выезды царской семьи, поскольку, как уже отмечалось, в культуре русского средневековья «понятия светлого, благого божества и святости неразлучны»606.
Соотнесение образа царицы, как спутницы государя, со светом и святостью было еще одной составляющей его образа. Царицу московскую, как и ее супруга, также уподобляли Солнечному божеству, «если случится увидать запряженную многими607 белыми лошадьми карету Царицы, подражающую Юпитеру или Солнцу»608. Именно в выездах царицы задействовались самые богато украшенные экипажи и самые лучшие лошади: «зимою тщеславятся санями, на которые поставлены кареты со стеклянными окнами, покрытые до земли алым или розовым сукном; летом же они величаются большими каретами. Всего больше они гордятся белыми лошадьми и множеством слуг и невольников, которые идут впереди и сзади», – свидетельствовал лично наблюдавший московские обычаи архидиакон Павел Алеппский609.
Белые лошади использовались и для других целей, когда требовалось подчеркнуть торжественность ситуации (например, для церемонии водосвятия, когда лошади везли царские сани с освященной водой610). Самые эффектные запряжки включали шестнадцать белых лошадей611.
В парадных процессиях также участвовали гнедые и серые в яблоках лошади; для единообразия масти не брезговали их подкрашиванием. «[Карету] тянули 12 серых с яблоками лошадей, из коих одни были такими от природы, другие подкрашены», – вспоминал очевидец появление свадебного поезда М. Мнишек612. При высокоторжественных выездах лошади частично выкрашивались в красный цвет. Так, при описании все того же поезда Мнишек один из очевидцев говорит о карете царской невесты, запряженной восьмеркой серых в яблоках коней, с красными хвостами и гривами. Сведения отчасти дублируются вторым свидетелем, который утверждает, что ее везли 8 белых турецких коней, выкрашенных красной краской от копыт до половины тела613.
Таким образом, на протяжении столетий московское конное хозяйство, трансформируясь под восточным и под западноевропейским влияниями, вырабатывало собственные традиции, обычаи и ценности. Породная лошадь, как уникальное бесценное сокровище, помещалась московитами в особое пространство, связанное прежде всего с царским, придворным бытом.
1.3.2. «КОНЬНОЕ УРИСТАНИЕ»: КОННЫЕ ЗАБАВЫ, СОСТЯЗАНИЯ И КОННЫЙ БОЙ
В последнюю четверть XVII в., в эпоху беспрерывных войн, европеские монархи-военачальники стремились развивать «кавалерийский дух и распространять конные знания, связанные с войной»614. В войнах этого периода от конницы в целом и от каждого конкретного всадника требовались прежде всего выучка и техничное маневрирование. Основой обучения всадника становится манеж, где отрабатываются приемы конного боя.
Уровень задает французская школа, прежде всего знаменитый Salle du Manège, существующая с 1594 г. Академия верховой езды в Тюильри; на волне популярности манежной езды ее мощностей становится недостаточно. С 1674 г. вновь открывается академия верховой езды в Сомюре. После ее угасания в 1680 г. открывается школа неподалеку, в Анже615.
В 1679–1683 гг. в Версале строятся Великие конюшни, объединяющие академию верховой езды, Большие и Малые Конюшни616. В 1682 г. при Версальской академии открывается École des Pages – Школа пажей, дворянских недорослей, которых обучали верховой езде и действию оружием617. Здесь преподавал великий Дюплесси, которому Людовик XIV доверил конное образование дофина618. Версальский комплекс стал знаковым для своего времени, превратившись в ведущий культурный центр.
Еще одним признанным центром манежной подготовки была Вена619; в 1680–1681 гг. здесь коренным образом перестраивается, расширяясь, манеж в Хофбурге – зимней и основной резиденции Габсбургов. Эти два центра выездки, Вена и Версаль, оказывали самое существенное влияние на обучение всадников всей Европы; имели они вес и в России620.
Относительно существования московских школ подготовки всадника и его лошади сведения противоречивые. С одной стороны, по свидетельству иностранцев, побывавших при московском дворе, лошади у московитов были недоездки, т. е. не обученные до конца, или вовсе «не учены ни в упряжь, ни подверх»621, или «выезжены дурно»622. Говорили, что в Москве «нет [даже у знатных людей] учителей верховой езды (берейторов), и красивая, или искусная, поступь не известна ни лошади, ни кому-либо из всадников»623 и поэтому для всадников достоинства лошади заключались в том, чтобы они «больше играли и ржали»624. Но все же московиты любили верховую езду, особенно быструю625, и всегда ездили «очень шибко, всегда во всю прыть, как только можно»626.
Как считалось, большой популярности верховой езды у московитов способствовали русские кони, поскольку «в самой Московии родятся лошади, весьма замечательные по быстроте»627 и особое конское убранство, такое как «маленькие барабаны, прикрепленные у луки седла; от их звука лошади бегут скорее»628. Московские всадники, «сидя верхом, гарцевали и красовались тем, что, ударяя в литавры, заставляли лошадь делать внезапный прыжок, и при этом кольца, цепочки и колокольчики на ногах лошади издавали звуки»629, поскольку считали «всего для себя славнее вдруг погонять лошадей во всю прыть или заставлять их делать безобразные и вовсе неискусные скачки, чтобы тряслись и бренчали от их движения серебряные из больших колец цепочки, украшающие их в виде других уздечек»630. Любопытным кажется применение заимствованных у скандинавов звучащих плетей, где к верхнему кольцу крепилась обойма для бича и шумящие подвески631: лошадь была приучена реагировать не на удар, а на взмах.
В отсутствие берейторов царским лошадям, участвующим в процессиях, «по чрезмерной их дикости им приходилось связывать на известном расстоянии самые ноги»632: эти животные, «под персидскими, богато убранными сапфирами и дорогими камнями седлами [следовали резвясь и играя]… хотя и спутанные веревкою по ногам и ведомые кроме того конюхами, обращали однако на себя особенное внимание зрителей благородной и величавой статью»633.
Эти сведения опровергаются другим очевидцем, который сообщает, что и московиты, и их лошади были хорошо знакомы с некоторыми элементами европейской Высшей школы верховой езды, например такими, как левада и испанский шаг634. Упряжные лошади обучались «ходить тихо и торжественно»635, т. е. каретному шагу, нужному в церемониальных процессиях: «карету везли 6 фрисландских лошадей в золотой же сбруе, с султанами из белых перьев на голове; они выступали горделиво, придавая процессии много торжественности и, испуская благородное ржание, казалось, точно реяли по воздуху»636.
Также московитам был известен тренинг молодняка. Знали они и манежную «работу в руках» (обучение без всадника. – Б. Ш.)637, и вываживание, о чем современниками упоминалось неоднократно: «а как государь похочет куды ехать, прикажет конюшей яселничему, а яселничей прикажет стремянным конюхам оседлати под государя по повеленью, и оседлав, объездят перво стремянные конюхи, потом яселничей сам, а перед царьским седаньем конюшей»638. А также: «для приготовления к въезду в город… чистили всех лошадей, особенно фрисландских, и водили их по двору нашего подворья для того, чтобы они явились в приличном виде и выступали мирным шагом (при торжественном въезде на них особенно рассчитывали)»639. Лучшими для обучения признавались испано-неаполитанские лошади. Судя по времени появления в расходных документах царской казны сумм, выделенных на «конское учение», выездка как наука утвердилась в Москве к рубежу XVII–XVIII вв.640
Испытанным способом проверки возможностей лошади были конные ристания – поединки, военные игры, соревнования всадника и его коня в силе и быстроте, где «сила испытывается трудом, а быстрота сравнением»641. К одному из самых ранних описаний таких поединков относится рассказ венецианца А. Контарини, наблюдавшего за развлечениями московитов на льду Москвы-реки зимой 1476/77 гг. В число ледовых забав входили «конские бега и другие увеселения; случается, что при этом люди ломают себе шею»642, – вспоминал путешественник. Современники отмечали, что у московитов «вся молодежь упражняется в разнообразных играх и притом близких к воинскому делу, состязается в беге, борется и участвует в конском ристании»643, при этом «в каждой игре есть своя награда»644.
Знали следующие виды конных поединков: скачки на скорость (к сожалению, источники не дают возможности обозначить принятое сегодня разделение на гладкие и барьерные скачки), гонки упряжек, противоборства всадников и стрельба в цель на полном скаку645. Конные лучники ездили, несколько поджав ноги, на коротких стременах646: эта манера сообщала им определенные преимущества при стрельбе с коня. Возможно, привычка была перенесена из военного времени647.
Поединки, как «всякое играние», запрещались правилами № 50 и 51 «О еллинском бесновании» Святого вселенского шестого собора VII в. Запрет был обновлен решением Стоглавого собора в 1551 г.648 «Коньная уристания» порицалась сразу тремя различными списками Кормчей XII–XIII вв., поскольку «не подобаеть на оуристание коньное въсходити, еже есть игрище», «да инъ людьскыи позор да не сътваряеться»649.
Категорически против поединков выступал и Домострой XVI в., однозначно относя к богомерзким делам «коньские уристания» наряду с блудом, нечистотой, сквернословием и срамословием, бесовскими песнями, плясками, гудением, игрой на музыкальных инструментах, вождением медведя, охотой с ловчими собаками и птицами, ибо «все вкупе будут во аде, а здесь прокляты»650. Наказанием для участников поединков было отлучение от церкви, а убитым «в примерных схватках» обещалось, что «к сим иерей не ходит и службы за них не творит»651. При этом церковью не одобрялось не только участие в ристаниях, но даже наблюдение за ними652.
Стоит отметить, что ристания бытовали и как наследие славянской погребально-поминальной тризны653, так называемого «бойования»654, состоящего из военных сцен, где главное место принадлежало конским состязаниям. Традиция проведения военных поединков в честь умершего на месте его захоронения продолжалась и в первые столетия после принятия христианства655. Затем обычай трансформировался и, в новом варианте, бытовавшем до XVI в. включительно656, потерял привязку к месту погребения.
Традиция проведения конных соревнований, несмотря на запреты и трансформацию культурных норм, не прекращалась, обнаруживая всеобщую склонность московитов к верховой езде.
1.3.3. РУССКИЕ ДЕТИ И КОННАЯ КУЛЬТУРА
Что же представлял собой русский всадник, который не покидал дома иначе, как верхом, «каков бы путь ни был»657? «Если русский имеет хоть какие-нибудь средства, он никогда не выходит из дому пешком, но зимой выезжает на санях, а летом верхом»658, – свидетельствовал современник. «Ни один знатный человек из тех, что побогаче, не пойдет пешком»659, «зажиточные и богатые люди всегда ездят верхом, куда им приведется, в Кремль ли, на торг, в церковь или в гости, для посещения друг друга, и считают большим стыдом и бесчестьем ходит пешком»660, а посему они «все хорошие наездники, ибо они с детства до самой смерти ездят верхом; в Москве каждый <…> держит лошадей, и из одной улицы в другую переезжает верхом»661, при этом «они очень долго могут ездить верхом»662, – подтверждали другие.
По выражению современника, размышлявшего о специфике московской культуры, Eques ruthenus663, т. е. русские всадники «…все хорошие наездники, ибо они с детства до самой смерти ездят верхом»664. Воспитание ребенка как человека конного поддерживалось традициями, среди которых наиважнейшим был обряд военно-возрастной инициации «посажения на конь». Он проводился торжественным постриганием волос; постригаемый препоясывался мечом, на него возлагали колчан стрел и сажали на седло; атрибуты обряда символизировали мужскую сферу деятельности665.
Надевание новой одежды составляло значимую часть обряда, а ритуальное переодевание символизировало возрождение посвящаемых в новом качестве666. По обычаю667, ко времени «посажения на конь» ребенок обзаводился полным мужским гардеробом, где воинские атрибуты занимали первое место. Так, Алексею Михайловичу в 4–5 лет были скованы латы, а сын Ивана IV царевич Иван Иванович получил свой первый настоящий стальной шлем в три с небольшим года668.
Обряд пострига669 представлял собой отголосок архаического действа сажания ребенка на живого коня, что означало его посвящение в ратный чин670. Как и в других обрядах перехода, конь был важной частью инициации, поскольку он выступал не только атрибутом мужчины и воина, но и транспортным средством, посредником между миром живых и мертвых, и, шире, как сила, обеспечивающая иницианту возрождение в новом мире671.
Очевидно, что обе формы обряда – и архаическая, и более поздняя – имели особую важность для воспитания царских сыновей в среде, где слово «князь» по народной этимологии означало «конный человек» – Homo Eques, а конь входил в число первостепенных атрибутов княжеской власти672.
Символическая значимость фигуры ребенка верхом на коне, юного князя или княжича отмечалась еще в языческий период русской истории. Так, согласно летописным материалам, княжение малолетнего Святослава началось с битвы русского войска с древлянами, когда, сидя на коне, «суну копьемъ Святославъ [на] деревляны, и копье лете сквозе уши коневи, удари в ноги коневи, бе бо детескъ. И рече Свенелдъ и Асмолдъ: „Князь уже почалъ, потягнете, дружина, по князе“»673.
Обряд проводили по достижении мальчиком четырех- или пяти-, иногда семилетнего возраста; после чего царевич переходил с женской половины терема на попечение дядьки, уже в качестве не младенца, но отрока. Еще до совершения обряда малолетний царевич знакомился с «потешной» лошадкой – традиционной деревянной игрушкой, проверенной опытом поколений. Внешний вид потешной лошадки был максимально приближен к натуральному; она была оклеена тканью или жеребячьей кожей, имела гриву и хвост из настоящей «кониной гривы и хвоста», при этом была соразмерна ребенку, имея «вышину в аршин, длину по размеру»674.
Знакомство детей с конным миром начиналось в форме игры, в годовалом возрасте или чуть ранее – как указывает И. Е. Забелин, ко времени пробуждения «возрастного смысла»675. Так, царевич Алексей Михайлович обрел свою первую лошадь – «коня деревянного потешного» в полном уборе – в возрасте десяти месяцев. Это была игрушка «немецкого дела, делана на столице на деревянном; на коне седло и войлуки оболочены бархатом червчатым рытым; узда и паперсть и пахви и ременье объяринные – оковано медью луженою; стремяна меденые ж лужены, покровец на седле камка двоелична мелкотравна немецкая»676.
Царевич Петр Алексеевич получил свою потешную лошадку с полным нарядом накануне своих первых именин летом 1673 г. Обтянутая белой жеребячьей кожей, она была убрана красным сафьяновым седлом с подпругой, пристругами и позолоченными стременами, уздой из черненого серебра и паперстью, украшенной самоцветами, а также чепраком в цвет седла677.
Была своя потешная лошадка – деревянная, украшенная «простыми каменьями» (стеклами. – Б. Ш.), сусальным золотом, серебром и красками и у его младшего единокровного брата царевича Федора, самого известного конника Московского царства. Лошадка была оседлана и взнуздана на железное мундштучное оголовье; ее черную тесьмяную узду украшали морхи в виде бахромы из черного сученого шелка678. Обыкновенно потешные кони оставались в числе игрушек царевичей до их «полного возраста». Деревянная лошадка Федора Алексеевича стояла в его хоромах вплоть до его одиннадцатилетия, когда состоялось «всенародное объявление» царевича679: в русском средневековье оно связывалось с совершеннолетием, после которого сын мог выезжать вместе с отцом в качестве наследника.
Досуг царевичей до «объявления» не предполагал публичных выходов680, а состоял, наравне с обыкновенными детскими играми, из ежедневных упражнений в верховой езде, стрельбе из лука и из других подвижных занятий. Такой подход, вполне осознанный и тщательно продуманный, был причиной того, что при московском дворе детская физическая активность приобрела характер культивируемого спорта681.
Иностранцы, бывавшие при Московском дворе, связывали вынужденное детское затворничество с русскими традициями. «Дети царские, – размышлял Я. Рейтенфельс, – воспитываются весьма тщательно, но совершенно особенным образом, по Русским обычаям. Они удалены от всякой пышности и содержатся в таком уединении, что их не может никто посещать, кроме тех, кому вверен надзор за ними. Выезжают очень редко; народу показывается один только Наследник Престола <…> а прочие сыновья, равно как и дочери, живут обыкновенно в монашеском уединении. От сидячей жизни они слабы и подвержены многим болезням. Лекаря думают, что и старший царевич (Алексей Алексеевич) умер от недостатка деятельности и движения, составляющих необходимость Природы. С некоторого времени уже больше обращают на это внимания, и Царские дети упражняются каждый день в определенные часы в разных играх, конной езде и метании стрел из лука; зимою делают для них небольшие возвышения из дерева и покрывают снегом, отчего образуется гора: с вершины ее они спускаются на саночках или на лубке, управляя палкою. Танцы и другие занятия, у нас обыкновенные, при русском дворе не употребляются <…> Долг справедливости требует сказать, что этот скромный и по-видимому простой образ воспитания Царских детей в России дает им прекрасное направление»682. В результате такого подхода конная культура органично и естественно входила в русскую повседневность.
1.3.4. ЦАРСКИЕ КНИГИ «ЛОШАДИНОГО УЧЕНИЯ»
Другим средством приобщения царевичей к конному миру были книги. Царские книжные собрания – еще одна особая страница в истории русской культуры, которая не менее прочих зримо свидетельствует о ее динамике. Интересна трансформация царских библиотек на пороге Нового времени, когда они изменяются и количественно, и содержательно.
Библиотека царя Михаила Федоровича, согласно описям 1634 г. и 1642 г., за 8 лет расширилась от 11 книг, хранящихся «в государеве в большой шкатуле»683, до 29 книг. Это были издания преимущественно духовно-религиозные, с единичными включениями литературы поучительной («Измарагд»), исторической («Троицкое сидение») и философской («Книга Аристотелева»)684.
Довольно объемная библиотека духовных, исторических и учительных книг, печатных и рукописных, принадлежала сыну Михаила Федоровича царевичу Ивану Михайловичу, умершему в малолетнем возрасте 5 лет685. В XVII столетии широкое включение книг в число детских забав было обычной практикой воспитания детей царского круга. Источники тех лет свидетельствуют об отношении к детским книгам как к некоторой разновидности игрушек; результатом было частое их поновление. Так, щедро украшенный рисунками сборник житий из библиотеки царевича Федора Алексеевича, изготовленный в 1663 г., за два года активной эксплуатации настолько потерял вид, что был временно изъят из хором четырехлетнего царевича и передан на реставрацию686.
Четырнадцати- или пятнадцатилетняя дочь Михаила Федоровича царевна Ирина Михайловна, судя по описи, составленной около 1642 г., владела скромным собранием из 5 псалтырей и 2 часовников687. Книжное собрание царевича Алексея Михайловича также было невелико. Его библиотека насчитывала 15 изданий, но стоит отметить, что светских книг, прежде всего поучительных и учительных («Азбука, «Грамматика», «Лексикон», и популярнейшая в то время «Космография»), здесь было уже больше, чем в собрании его отца688.
Собственными, так называемыми «хоромными», книжными собраниями располагали и дети царя Алексея Михайловича: известны отдельные собрания царевен Софьи и Натальи, царевичей Петра, Алексея и Федора689. Библиотеки старших сыновей Алексея Михайловича уже были значительно более обширны, чем книжные собрания первых Романовых. Собрание Алексея Алексеевича (старшего сына Алексея Михайловича, умершего в 1670 г. в пятнадцатилетнем возрасте) насчитывало 192 книги, среди которых было 64 русских и 128 иностранных на «иноземных» языках; по другим данным, ему принадлежало 215 книг, в том числе 78 русских и 137 иностранных690. Библиотека царевича отличалась от библиотеки его отца не только количественно; главной особенностью этого собрания называют его разноплановость. Так, в нем хранилась живописная детская энциклопедия, составленная для царевича в 1664 г. Среди прочих иллюстраций в ней были помещены изображения «людей на конях русских»691.
Однако одним из самых полных и оригинальных книжных собраний позднего русского средневековья была библиотека его младшего брата Федора Алексеевича692. О ее специфике мы можем судить по двум описям, составленным в 1682 г. после его смерти: первая, под названием «Опись библиотеки царя Федора Алексеевича», содержит указание на 137 книг на польском, русском и латинском языках, оставшихся во дворце. Вторая, озаглавленная «Книги, которые по указы блаженные памяти… царя… Федора Алексеевича… приняты из его великого государя комнаты книгохранительницы в его государеву Мастерскую палату… в нынешнем в 191 году апреля в 12 день», включает описание 143 книг.