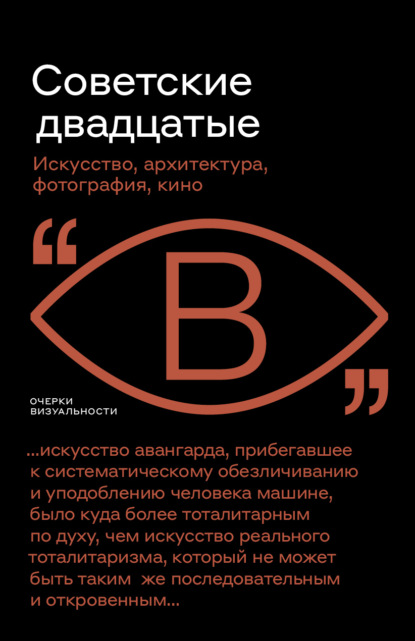Полная версия
Очерки поэтики и риторики архитектуры
Над входом в средний неф и перед михрабом возвышаются ребристые извне и желобчатые изнутри купола на граненых барабанах с зарешеченными окнами. Это два самых светлых места молельного зала. Переход от четырех арок к барабану купола перед михрабом осуществлен новаторским для того времени способом – не парусами, как у византийцев, и не тромпами, как у армян и персов, а с помощью ниш в виде раковин, прекрасно сочетающихся с раковинообразным сводом купола. Такой прием имел «решающее значение в зодчестве Северной Африки и Испании. (…) Даже если впервые этот синтез проявился не здесь, свое распространение он наверняка начал отсюда»99.
Ниша михраба глубиной около двух метров, шириной более полутора и высотой четыре с половиной метра образует в плане подкову. Такого же очертания арка, опирающаяся на две колонны красного мрамора, окаймляет полукупольный свод михраба, обшитый темно-зелеными деревянными панелями с золотым орнаментом из вьющейся виноградной лозы. Свод михраба отделен от вертикальной стенки фризом с ромбическими орнаментированными люстровыми изразцами. Ниже – облицовка беломраморными плитами с рельефной и ажурной резьбой. На высоте человеческого роста высечен мусульманский символ веры: «Скажи: „Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему“»100.
Титус Буркхард писал о богослужении в Великой мечети Кайруана: «Если смотреть сверху, собрание верующих имеет форму птицы с простертыми крыльями; голова птицы – имам, который ведет молитву; первые ряды за ним, развернутые особенно широко, поскольку престижно молиться непосредственно за имамом, составляют как бы оперение крыльев, контуры которых постепенно вытягиваются в направлении хвоста, образованного последними прибывающими, группирующимися вдоль оси михраба»101.
Храм Кандарья-Махадева 102
Индия, 1838 год. В четырехстах милях юго-восточнее Дели, в местности, называемой Кхаджурахо («кхаджура» – «финиковая пальма»), проводники выводят британского офицера – капитана Берта – к затерянному в джунглях огромному древнему городу. Среди множества каменных сооружений одно привлекает внимание особенно величественным силуэтом и захватывает необыкновенной откровенностью высеченных на нем сексуальных сцен. Как и другие сооружения комплекса, оно стоит на прямоугольном подиуме высотой четыре с половиной метра. На подиум ведет узкая лестница без перил с очень высокими ступенями. С подиума на той же оси еще одна лестница, сужаясь, поднимается ко входу высотой в два человеческих роста, сжатому мощными орнаментированными пилонами, над которыми нависает приподнятый на толстых колоннах каменный навес.
При взгляде с этой оси, с востока, сооружение выглядит колоколовидным, сильно вытянутым вверх нагромождением сложных архитектурных профилей, столбов, колонночек, тороидальных колец из вертикальных каменных пластин, стопок выпуклых дисков и похожих на яблоки вазонов с каменными каплями над ними. Никаких проемов, кроме черного зияния входа. «Соединение огромного и малого, массы храма и его бесчисленных мелких деталей порождает чувство, подобное впечатлению от готического собора или мусульманской мозаики: чувство немого, обессиливающего восхищения перед чем-то, что ни глаз, ни ум не в силах охватить»103. При умопомрачительном многообразии скульптурного убранства здание строго симметрично. Но здание ли это или колоссальная монолитная скульптура на постаменте? Трудные для подъема лестницы, обработанная с невообразимым усердием гигантская масса камня, громоздящаяся над таинственной глубиной портала, – чтобы все это понять и принять, надо владеть смыслами этих форм. Ясно одно: это сооружение, как и аналогичные ему, затерянные в этом лесу, – не дворец и не дом, а если и дом, то дом какого-то бога, то есть храм.
При взгляде с юга становится понятно, что до сих пор мы видели только переднюю из четырех башен храма, образовавших подобие горной цепи длиной тридцать метров. Их высота резко возрастает от восточной башни к западной, высотою в те же тридцать метров. Стало быть, боковая проекция храма вписывается в квадрат.
Различаются три уровня. Внизу – многослойный цоколь высотой в четыре с половиной метра, немного наклоненный внутрь, прямоугольные выступы и отступы которого являются, собственно, сросшимися основаниями башен.
На среднем уровне башни все еще не отделены друг от друга. Их эркеры с глубокими лоджиями, в которых виднеются толстые столбы, перемежаются трехъярусным скульптурным фризом, изобилующим сценами соития. Вход в храм находится как раз на высоте эркеров.
Нижний и средний уровни, взятые вместе, образуют продолговатое плато высотой около девяти метров, узкое при входе и расширяющееся прямоугольными выступами вплоть до третьей башни, где его ширина достигает восемнадцати метров, после чего, сжавшись, плато снова расширяется под столь же широкой четвертой башней, которая обращена на запад еще одним эркером с лоджией.
Верхний уровень – сами башни (шикхары). Они сложены из тех же многообразных форм, что были видны спереди. Неровная небесная линия храма и в самом деле кажется не искусственным, а природным образованием. Непонятно, полые эти башни или сплошные. Гигантский параболоид западной шикхары резко выделяется не только высотой, но и множеством орнаментированных вертикальных складок, создающих впечатление окаменевшего потока. Она увенчана гофрированным воротником, над которым высится похожий на яблоко сосуд с гигантской каплей наверху. Ее конфигурация повторена облепившими ее мелкими башенками.
Город, открытый для европейцев капитаном Бертом, был столицей правителей династии Чандела, разрушенный завоевателями-мусульманами в XIII веке. Интересующее меня сооружение, впервые им описанное, – индуистский храм Кандарья-Махадева. Он был построен около 1020 года императором Видьядхарой в ознаменование военных триумфов и посвящен богу Шиве – покровителю императорской семьи. Махадева («величайший бог») – имя Шивы. «Кандарья» происходит от «кандара» – «пещера». Имя Кандарья указывает на то, что под западной шикхарой скрыта гарбагриха («утроба») – святилище, в котором находится главная святыня храма – Шивалингам.
В Древней Индии проектирование, строительство, система скульптурного убранства индуистских храмов регламентировались текстами, авторство которых приписывалось небесному архитектору Вишвакарме. Поэтика храмов, посвященных Шиве, отсылала к священной горе Кайлас в Гималаях, на которой обитает этот бог104. Мифологический смысл храмов разворачивается последовательно от главной башни к башне над входом. Тороидальные кольца на башнях означают небесную сферу; яблочной формы вазоны над ними суть сосуды с напитком бессмертия; воспринимаемые вместе, они символизируют освобождение души индуиста (Атмана) от земных страстей и воссоединение этой единичной души с божественной душой – Брахманом. «Бесконечная репликация одних и тех же форм в разных масштабах производит эффект непрерывного, безграничного творения и развития, непрекращающейся божественной деятельности. Пожалуй, именно верхняя часть здания наиболее полно и наглядно демонстрирует мотив бесконечного движения, цикла перерождений – самсары»105.
Храм Кандарья-Махадева величав, но невелик: он свободно уместился бы внутри Пантеона. Его величавость – эффект риторический, достигнутый искусством создания иллюзий. Чтобы хорошо видеть весь храм, надо сойти с подиума на землю, и тогда каменная громада, поднятая над землею, безраздельно господствует в окружающей среде, а скульптурные фигуры непроизвольно воспринимаются равными человеческому росту, тогда как на самом деле их высота вдвое меньше, благодаря чему размеры храма как бы удваиваются. Рост высоты шикхар не по прямой линии, а по экспоненте воспринимается как нарастание сил, устремленных в небо. А когда мы рассматриваем храм с подиума, в упор, он заполняет полнеба необъятным разнообразием своих форм.
«После обхода храма снаружи, наблюдения его словно вибрирующих и живых форм, заходящий внутрь человек почувствует очень резкий контраст. В первую очередь, он обусловлен погружением в почти кромешный мрак. (…) Внутри храма не только темно, но также сыро и холодно, что неизбежно наталкивает на ассоциацию с пещерой. (…) После того как глаза привыкли к темноте, посетителю храма может показаться, что интерьер достаточно скуп и даже скуден художественно».106 Но как раз благодаря этому «именно внутри, а не снаружи храма обнажается его структура, его архитектоника. (…) Взгляду открываются плоскости стен и потолка, появляются колонны, плавные изгибы экстерьера сменяются прямыми углами. Конструкция храма выступает наружу как некое откровение»107. Из зала в зал пол поднимается на одну ступень. Перекрытия представляют собой ложные своды, выложенные слоями плоских плит в различных геометрических конфигурациях.
Из вестибюля переходим в двухколонный зал собраний, расположенный под второй шикхарой. Этот зал, как и вестибюль, освещен через широкие проемы в боковых стенах. Доминантная фигура его перекрытия – круг. За порогом зала собраний, то есть начиная с четырехколонного главного зала, который находится под третьей шикхарой, вступаем в священную зону храма. Его стены гораздо толще, свет идет из лоджий. Потолок, состоящий из множества концентрических кругов, образует ложный свод, который уводит взгляд ввысь, как бы предвосхищая вертикаль вздымающейся впереди главной шикхары108. Здесь могло находиться от силы двести человек – на удивление мало в сравнении с размерами храма. Возможно, это было вызвано кастовыми ограничениями109. Направившись из главного зала влево или вправо, окажемся в узкой галерее, опоясывающей гарбагриху. Прямо же перед нами – две колонны с узорными ступенями между ними, высота которых нарастает: вход в святая святых, в гарбагриху.
Гарбагриха – как бы храм во храме, комната с толстыми стенами, полностью обособленными обходной галереей от несущих стен западной шикхары. По контрасту с другими интерьерами храма сложно профилированные стены гарбагрихи украшены снаружи бесчисленными скульптурами. Обходная галерея расширена лоджиями, из которых на них льется свет. Фигуры, выступающие из темноты и погружающиеся в нее, словно оживают. Их облик и репертуар аналогичен скульптурам храмового экстерьера110.
Внутри гарбагрихи, в центре, находится Шивалингам. Он представляет собой скульптурный символ фаллоса-«лингама» – каменный столб с покатым верхом, стоящий на чашеобразном основании, символизирующем женское лоно. Во время ритуальной службы именно Шивалингам является главным объектом поклонения. Лингам осыпают цветочными лепестками и смачивают кокосовым молоком и водой с эфирными маслами, которые затем стекают по желобу на пол, а затем по другому желобу выводятся вовне, на север, в сторону горы Кайлас. Таким образом, обряд поклонения лингаму связан с обращением к Шиве. Шивалингам занимает почти всю гарбагриху, оставляя вокруг лишь минимум места для кругового обхода. Единственный декоративный элемент интерьера гарбагрихи – ее резной плафон: череда вписанных друг в друга квадратов с кругом посередине. Однако в царящей здесь темноте он не виден. Значит, он предназначен не для человеческих глаз, а для глаз Шивы, воплощающегося под этими формами, а также в них самих.
По мнению Титуса Буркхардта, форма круга соответствует космическому бытию, а квадрата – конечному земному бытию: «Образ завершения мира символизируется прямоугольной формой храма в противопоставление круглой форме мира, управляемого космическим движением. В то время как сферичность неба неопределённа и не доступна никакому измерению, прямоугольная или кубическая форма священного здания выражает определенный и неизменный закон. Вот почему всю сакральную архитектуру, к какой бы традиции она ни относилась, можно рассматривать как развитие основной темы превращения круга в квадрат»111.
Павильон Феникса
В XI веке одно из владений могущественного аристократического рода Фудзивара, на протяжении многих лет фактически правившего Японией, находилось в Удзи, близ императорской столицы Хэйан – нынешнего Киото. В 1053 году Фудзивара-но Ёримиши преобразовал эту усадьбу в буддийский храмовый комплекс Бёдо-ин. «Бёдо-ин» означает «Равенство в спасении от страданий». Вероятно, Ёримиши был не только заказчиком и инвестором работ, но и автором проекта112.
Среди зданий комплекса выделяется красотой Павильон Феникса – небольшое строение с колоссальной статуей Будды внутри113, стоящее на искусственном островке маленького озера фасадом на восток, к водному зеркалу, окаймленному невысокими деревьями. Композиция павильона открывается с полной ясностью с восточного берега озера.
Во всю длину островка распростерся просматриваемый насквозь ярко-красный деревянный каркас под серыми черепичными крышами. На уровне консольных разветвлений несущих опор проемы каркаса закрыты белыми вставками. Мажорному аккорду красного с серым и белым аккомпанируют энергично загнутые вверх скаты крыш, которые, кажется, подвешены к небу на невидимых нитях и не нуждаются в поддержке снизу. Они легли на каркас легко, как облака. Хотя строение не достигает в длину и шестидесяти шагов, крыш много: у каждой части павильона – своя.
Посередине возвышается одноэтажная капелла со статуей Будды. Она перекрыта затейливой крышей китайского фасона – с двумя скатами наверху, образующими маленькие фронтончики, и четырьмя скатами по периметру с очень размашистыми выносами карнизов114. Объясняя характерный изгиб дальневосточных крыш, обычно указывают на две его функции. Одна происходит от китайского суеверия: дескать, изгиб, как трамплин, отбрасывает от дома демонов, катающихся с крыш по ночам. Другое назначение изгиба – отводить подальше от дома дождевую воду. На мой взгляд, этих объяснений недостаточно. Если не думать о демонах – я не знаю, перешло ли это суеверие из Поднебесной в Страну восходящего солнца, – крыша должна быть вогнутой не только для отвода воды, но и ради освещения интерьера и соблюдения специфически японской традиции созерцания природы.
Капеллу огибает невысокая галерея. Посредине фасада она разомкнута, открывая вид на Будду. Капелла и галерея приподняты на несколько ступеней над простирающимися влево и вправо симметричными флигелями с обращенными к воде выступами на концах. Над дальними концами флигелей возвышаются изящные башенки под бойкими четырехскатными крышами. Сзади к капелле примыкает коридор, переброшенный над протокой, отделяющей храм от берега озера. Павильон выглядит сверху как схематическое изображение птицы, распростершей крылья, и, поскольку крыша капеллы увенчана позолоченными бронзовыми изображениями фениксов, не удивительно, что чуть ли не с самого момента основания храмового комплекса здание стали называть Павильоном Феникса.
Европейцу его композиция отдаленно напоминает виллы Палладио. В облике флигелей есть приятные западному взгляду переклички с классической архитектоникой: четкие силуэты консолей опор на фоне белых вставок вызывают ассоциацию с чередованием триглифов и метоп в дорических фризах, а антресоли флигелей воспринимаются как своего рода аттик.
Менее всего способна вызвать подобные ассоциации капелла. Разрыв огибающей ее галереи оформлен в виде портала с вогнутым навесом. Кипарисовая покрытая золотом статуя Будды, высоко сидящего на лотосе под золотым балдахином на фоне золотой мандорлы, видна сквозь металлическую прямоугольную решетку с округлым отверстием на уровне головы Будды. Нижний край решетки находится на высоте, позволяющей высокому человеку войти в зал, не опуская головы. Статуя таинственно мерцает в зарешеченном мраке. Лик Будды светится в отверстии, как полная луна на мглистом небе. Увидеть изваяние с полной ясностью можно только переступив порог капеллы, – в довольно остром ракурсе, придающем Будде еще большую величавость и отрешенность от мирской суеты.
Для статуи такой величины капелла едва ли не тесна: всего лишь десять метров в ширину и восемь в глубину. Тем удивительнее, что в ней шесть (!) двустворчатых дверей, каждая из которых полностью занимает интервал между опорами: три во всю ширь восточного фасада и по одной на осях флигелей и коридора. На их створках и на простенках по сторонам от статуи Будды были написаны картины (большинство которых утрачено) с изображениями визуализаций Сукхавати – Западного Рая или Чистой Земли будды Амиды – из «Сутры созерцания Будды Бесконечной Жизни»115.
Композиция Павильона Феникса не имеет прецедентов в храмовом зодчестве Японии116. Зато она близка структуре типичной японской аристократической виллы эпохи Хэйан, состоявшей из трех соединенных галереями частей, вытянутых в линию: посредине покои хозяина, по бокам – комнаты домочадцев117. Это обстоятельство, как и быстрота, с какой усадьба, включающая множество жилых и хозяйственных зданий, была превращена в храмовый комплекс, не оставляют сомнения, что Павильон Феникса – не что иное, как реконструированная собственная вилла господина Фудзивара-но Ёримиши118.
Этим можно объяснить поражающую любого европейца деталь: флигели Павильона Феникса не примыкают к капелле вплотную. Вероятно, до реконструкции они смыкались с главным корпусом виллы, находившимся на одном с ними уровне. Решив заменить главный корпус своего дома капеллой на приподнятом цоколе, Ёримиши оставил зазоры между частями павильона, чтобы избежать трудностей соединения корпусов, стоящих на разной высоте, и сохранить шаг опор флигелей.
Мыслима ли такая беспечность в архитектуре Запада? Западный архитектор будет из кожи лезть вон, лишь бы придумать удовлетворительный стык между корпусами (и мы будем восторгаться удачным решением!), вместо того, чтобы разрубить гордиев узел, как сделал японский аристократ начала XI века. Он поступил так потому, что в его голове были иные, чем у западного человека, представления о том, чем должны быть интерьер и экстерьер дома и как они должны соотноситься друг с другом.
«Из своей комнаты близ входа в галерею я вижу сад. Воздух туманный, листва еще покрыта росой, но Его Превосходительство Первый министр уже там; он приказывает слугам очистить ручей. Обламывает стебель цветочной девы, распустившейся у южного конца моста. Заглядывает через мою ширму! Его элегантность смущает нас, я стыжусь своего еще не накрашенного, не напудренного лица. Он хочет, чтобы я немедленно сочинила стих. „Замешкаешься – радость уйдет!“ – говорит он, и я использую его просьбу как предлог, чтобы, пряча лицо, удалиться за письменными принадлежностями.
Цветущая цветочная деваЕще прекраснее в сияющей росе,Которой мало; она никогда не одаривает меня.„Как быстро!“ – воскликнул он, улыбнувшись, и попросил принести ему пенал.
Его ответ:
Серебряной росы не бывает мало.Красота цветочной девы —От ее сердца»119.Это фрагмент из дневника Мурасаки Сикибу – сочинительницы одного из шедевров мировой литературы – «Повести о Гэндзи». Описанная в дневнике сцена происходит в 1008 году в главном имении рода Фудзивара – дворце Цумикадо, куда прибыла императрица Сёси, чтобы подготовиться к своим первым родам. Выбор места объясняется тем, что Сёси происходит из рода Фудзивара. Мурасаки Сикибу (принадлежавшая тому же роду) – одна из ее фрейлин. Ей в это время тридцать лет120.
Запись в ее дневнике проливает свет на особенности поэтики японского аристократического жилища, которые запечатлелись в архитектуре Павильона Феникса —«жилища» статуи Будды.
По описанию Мурасаки Сикибу можно представить, каков вид из дворца, но мы ничего не можем сказать о его интерьере. Вид вовне настолько важен, что комната фрейлин оказывается всего лишь местом, откуда можно созерцать изменчивые виды природы и непредсказуемые действия людей. Вот и пустые галереи Павильона Феникса – не более чем обрамления картин природы. Их созерцание позволяет проникнуться буддистским переживанием «грустного очарования вещей» («моно-но-аварэ») – эфемерности всего сущего, которое обнаруживается в состоянии «просветленного ума», доступном благодаря чувствительности и вкусу к изящному121. Зеркало озера удваивает свое обрамление, но стоит повеять легчайшему ветерку – и мираж исчезает. Принцип «моно-но-аварэ» вошел в духовную жизнь японской аристократии как раз во времена создания «Повести о Гэндзи» и Павильона Феникса. Образ Будды, изваянный, как полагают, скульптором Дзётё, – взывающий к подражанию пример состояния «просветленного ума».
Интерьер дворца должен быть доступен, прозрачен для взгляда извне или даже для проникновения внутрь. Ограждение комнаты – всего лишь ширма, не столько противопоставляющая интерьер экстерьеру, сколько побуждающая к общению, к поэтическому состязанию. Фрейлина императрицы и Первый министр состязаются в метафорическом выражении эротического влечения, следуя известному с VIII века принципу художественно зашифрованного отображения сущности вещей («макото» – «истина»). Решетка, полуоткрывающая, полускрывающая Будду, – в сущности, та же ширма, над которой перед фрейлиной вдруг возникает лик вельможи. Только вместо обмена поэтическими экспромтами тот, кто пришел к Будде, кто созерцает его лик и неустанно повторяет мантру, в ответ испытывает на себе Его просветляющую, спасительную силу. В его глазах Павильон Феникса становится моделью дворца будды Амиды в Западном раю.
Благодаря принципиальным отличиям поэтики Павильона Феникса от традиционных основ западной архитектуры и вместе с тем странным, едва уловимым сходствам с европейской классикой это произведение оказало сильнейшее воздействие на архитектурное мышление модернистов. Восхищение традиционной японской архитектурой вдохновляло их в борьбе против толстых стен и глухих углов. Начало этой истории восходит к Всемирной выставке 1893 года в Чикаго, на которой Япония представила экспозицию в павильоне на берегу озера, вольно воспроизводившем Павильон Феникса. Это здание произвело глубокое впечатление на двадцатишестилетнего Фрэнка Ллойда Райта. Я думаю, что именно Павильону Феникса он был обязан японизмом своих «домов прерий». Позднее из японского принципа полузамкнутости интерьера извлекли важные для себя уроки Мис ван дер Роэ и его ученик Филип Джонсон.
Пизанский собор
У Альберти есть очень интересное соображение о колоннах и стенах: «Ряды колонн – не что иное, как стена, во многих местах пробитая и разомкнутая. Желая определить колонну, я не ошибусь, сказав, что она есть некая крепкая и постоянная часть стены, водруженная отвесно…»122 Невозможно вообразить, чтобы такие определения прозвучали в Японии. Пожалуй, там могли бы сказать, что ряды колонн суть вертикали регулярно размеченной пустоты.
Но почему Альберти пишет не «ряд колонн», а «ряды колонн»? Может быть, он имел в виду колоннады между церковными нефами? Однако в моем воображении встает многоярусная колоннада – нечто вроде фасада Пизанского собора.
Площадь чудес в Пизе, на которой стоит собор Вознесения Богоматери, изумляет не-городским простором. «Здесь можно забыть на время даже о самой архитектуре всех этих зданий, помня только о священной белизне их стен и о свежей зелени окружающего их луга», – вспоминал Павел Муратов123.
Архитектура зданий на Площади чудес возвращается в память одним словом: аркады. Встают в памяти сквозные аркады собора и «падающей» кампанилы, глухие наружные аркады баптистерия и Кампо Санто. «Соединение монументальных зданий в единый комплекс – это чисто классический градостроительный прием, – пишет Джулио Арган. – Глубоко христианским является, напротив, стремление выразить в нем весь круг человеческого бытия – от рождения до самой смерти»124. Если так, то баптистерий символизирует рождение, Кампо Санто – смерть. А собор с кампанилой? – духовное лицезрение Богородицы. Стену, отделяющую небеса от мира земного, однако «во многих местах пробитую и разомкнутую», – вот что символизируют сквозные аркады собора, в отличие от глухих, непроницаемых аркад сооружений, означающих начало и конец земного пути человека – крещальни и кладбища. Ибо Богородица олицетворяет собой разомкнутость неба и земли навстречу друг другу.
Лицезрение Девы Марии – праздник чистоты и грации. Поэтому фасад собора беломраморный и формы его легки. Колоннады и аркады использованы как орнаментальный мотив, как кружевная накидка, скрадывающая колоссальные размеры соборного тела, расчерченного горизонтальными полосами белого и когда-то бывшего черным мрамора, чтобы воздушнее, праздничнее выглядел наряд. Декор собора – женственный.
Сквозные аркады сделаны из белого мрамора еще и для того, чтобы контрастной была светотень. Представляете, как погасло бы праздничное ликование соборного фасада, если бы он был облицован серым флорентийским песчаником pietra serena – камнем самим по себе прекрасным?
Что пизанские зодчие были искусными светотехниками, ясно из того, что они без всякой механики устроили в соборе солнечные часы, отмечающие Благовещение – дату, от которой граждане республики отсчитывали начало нового года. Каждую весну, 25 марта, точно в полдень, солнечный луч, пропущенный через круглое окно на южной стороне нефа, указывает на одно и то же место – на небольшую каменную плиту, прикрепленную к пилону на противоположной стороне нефа. Эта плита опирается на мраморное яйцо – символ рождения и новой жизни125.