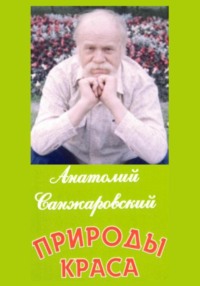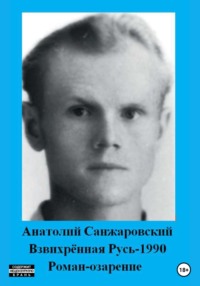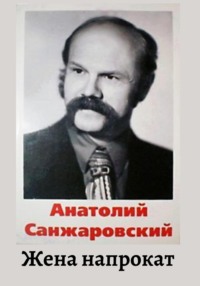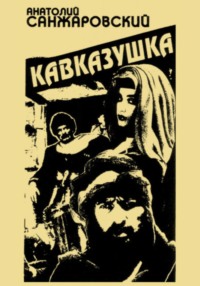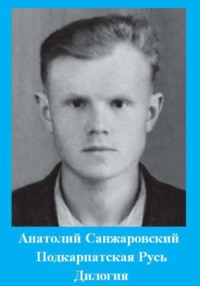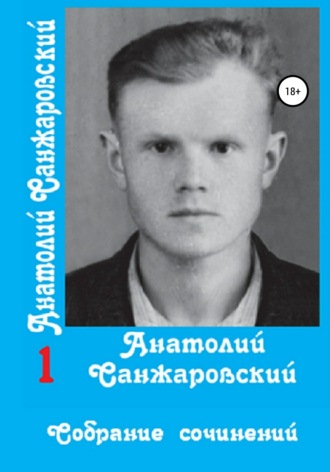 полная версия
полная версияСобрание сочинений в 15 томах. Том первый
А появился роман при весьма загадочных обстоятельствах.
Как я узнал стороной, в марте 1979 года я получил спецзадание на вылет.
Не от хорошей жизни уже почти десять лет я бегал вольным художником в журнале «Турист». Зачем мне нужна была эта вольница?
Если я не буду пристёгнут где-нибудь к службе, по жестоким советским законам меня могут выселить из Москвы. За тунеядство.
И я рвался на два берега.
Литература и служба.
И прикопался я в «Туристе» вольным художником. Главное, чтоб ежемесячно бежал мне твёрдый минимальный заработок – три рубля. Моя твердыня – три рубля. Разве на месяц воробью на пшено и на прочие карманные глупости не хватит трёх рваных? Зато я не тунеядец, а доблестный труженичек, и мне исправно капает законный производственный стаж.
За время сидения в кресле главного редактора Бориса Москвина тираж журнал скатился с трёхсот до двухсот тысяч. На летучках меня несло в критику, я подпекал своим видением путей улучшения журнала. Москвину эта критика не нравилась, и он решил избавиться от меня – дать такое задание, от которого я наверняка откажусь, и тогда он со спокойной совестью сможет меня уволить.
Но почему я, по его мнению, отказался бы от задания? Мне за сорок, лыжи видел только в кино. А воскресный переход строителей БАМа через Байкал лыжный. Марафонскую дистанцию, по его мнению, я наверняка не одолею на своих двух кривых клюшках, одна из которых была вывихнута при игре в футбол ещё в юности и при ходьбе часто подворачивается. А по льду перейти сорок пять километров вприбежку за лыжниками, считал он, я не смогу.
Но я смог!
Написал репортаж. Однако Москвин его так и не дал. Вот этого я не смог стерпеть, ушёл из «Туриста» и засел за роман о байкальском переходе.
РУСИНИЯ РУСИН – СЫН РУСИ!Лучше садися под тень Льва и Тигра, нежели под покров лукавого.
Александр ДухновичА закрутил всё коварный господин Случай в командировке.
От одного толстого московского журнала я приезжал осенью 1980 года в карпатское село Белки за очерком о знатной звеньевой кукурузоводческого звена.
Материал я собрал дня за два и уже был на автобусной остановке, чтоб вернуться в Ужгород, а там и в Москву. На автобусной остановке я невольно подслушал страшную историю семьи Жупаниных, и автобус без меня упылил в Ужгород.
А я ринулся к братьям Ивану и Петру Жупаниным.
Они всего-то три месяца как вернулись из Канады.
Пожилые братья рассказали мне грустную историю про то, как недавно ездили в Канаду на встречу с отцом, которого не видели полвека. Рассказали про его жизнь, про то, что сами видели там.
Одному рассказчику было с год, второй жил у матери под сердцем, когда отец уехал за океан заработать на землю да на хату. Уехал и пропал. Вот только отыскался…
Многие мужчины уходили отсюда в прежние времена на заработки в Штаты, в Канаду, в Бразилию (в Бразилику, как тут её называют), в Аргентину.
Многие уходили, да не все возвращались.
Застарелая карпатская открытая рана.
Я объехал в округе всех, кто побывал там, за океаном.
Иван Иванович Жупанин.
Пётр Иванович Жупанин.
Анна Петровна Бабинец.
Дмитрий Павлович Кармазин.
Фёдор Юрьевич Ильницкий.
Юрий Васильевич Кепич…
Русин у себя дома, в Покарпатской Руси, и за границей, в США, в Канаде, – нетронутая тема в современной русской отечественной литературе.
Почему бы мне не тронуть?
«Русиния» (первоначально роман назывался «Верховина, или Путь из-за океана" и был в «ранге» повести) поглотила меня. Писал я её почти круглыми сутками, как в угаре. Начал во вторник 24 июня 1980 года. А уже в пятницу 31 октября того же года повесть была вчерне готова. Потом «белил» до четверга 25 июня 1981 года. Один год и один день вырезала у меня «Верховина». Ещё долгие годы ушли на шлифовку романа.
Тут надо сказать искренние слова благодарности моим большим, добрым помощникам. Это прежде всего киевский учёный, профессор института искусствоведения, фольклора и этнографии Академии наук Украины Алексей Иванович Дей и талантливый московский критик Леонид Павлович Бараев.
На год я запер рукопись в стол. Для выдержки. Потом прочитал, поправил и 11 декабря 1982 года отправил на верховный суд Ф. Ф. Кузнецову, первому секретарю правления Московской писательской организации СП РСФСР.
Кузнецов направил рукопись руководителю секции критики В. И. Гусеву. Тюбетеечно я знал Гусева по Воронежу. В молодости я работал в щучинской, потом в лискинской районных газетах, засылал свои «бессмертинки» и в Воронеж, в "Молодой коммунар", где Гусев работал. Мы встречались только на газетной полосе. А теперь вот через четверть века встретимся нос к носу? В натуре?
Я позвонил ему, и мы уговорились о встрече.
Он спустился к проходной Союза писателей. Встретил выкинутой вперёд рукой с оттопыренным большим пальцем:
– Вот такую вещь написал! Квалифицированно! Сочувствующую рецензию гарантирую. Этой темой интересуется в «Совписе» Немченко. Неси к нему. Пусть передаст мне на рецензию.
Тут же звонит Немченке. Тот в творческом загуле.
Приходит день, и я тащу повесть в «Совпис». В издательство "Советский писатель".
Редакцию русской советской прозы вёл там Гарий Леонтьевич Немченко. Мы были с ним немного знакомы. Это он в журнале «Смена» напечатал в моём переводе с украинского рассказ Миколы Винграновского "Не смотри мне в спину".
При встрече я перепутал отчество Немченки. Обрадовал:
– Гарий Львович! Я Вам рукопись принёс!
Он искренне улыбнулся, отечески похлопал меня по плечу и наклонился к моему уху, чтоб не слыхали остальные в комнате, – коробочка была полна:
– Я и сам не прочь бы быть Львовичем. Но… Для начала я всё же Леонтьевич. В компании "Толстой и дети" и без меня тесно… Владимир Иванович приложил к Вашей рукописи рецензию?
– Пока без приложений.
– Тогда ему и пошлём на рецензию. К тому же Гусев член правления нашего издательства.
"Основной пафос, которым руководствуется автор, не вызывает никаких сомнений: А. Санжаровский ратует за верность родине, стремится показать трагедию и обречённость людей, порвавших с корнями. В «Верховине» есть изобразительные достоинства: автор хорошо владеет предметной деталью, ощущает характеры.
В столь серьёзном и трудном деле, которое взвалил на себя А. Санжаровский, облегчённые пути исключены. Иначе материал начинает работать в обратную сторону. Рукопись как минимум нуждается в доработке. Но готов повторить, что спасти её для печати было бы очень хорошо и полезно".
Мда-а… Ну что? Нормально? От таких рецензий пулю пускают в лоб? Тем более, когда нет денег ни на пистолет, ни на пулю. А взаймы могут и не дать.
Конечно, предела совершенствованию нет и каждый час, проведённый, казалось бы, над уже готовой рукописью, никогда напрасным не бывает. Я попытался взглянуть на свою повесть чужими холодными глазами.
Как бы со стороны.
Мне открылось такое, над чем я не мог не поработать ещё.
Я считаю, выстраданная книга – это как родившийся ребёнок. В нём ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Каким, скажем, роман слился, таким и живи.
Треть событий в повести происходит в Закарпатье. Раньше его называли Подкарпатской Русью. Хорошо бы дать прочитать повесть знающему Западную Украину, чтоб ничего «неправильного», случайного не проскочило в книгу.
И вот отзыв ответственного секретаря совета по украинской литературе Союза писателей СССР Виталия Григорьевича Крикуненко.
Значительное место в повести занимают канадские события. Кто бы и тут дал мне своё добро? Всё-таки не хочется, чтоб были в рукописи хоть мелкие накладки.
В то время в "Литературной газете" шёл цикл очерков Виталия Коротича о жизни выходцев с Украины в Канаде. Я с упоением читал эти захватывающие душу очерки и креп в желании написать ему. Виталий Алексеевич Коротич – крупный поэт, главный редактор журнала «Всесвiт», автор книги «О Канада!». Человек и без меня занят по горло.
И я всё же переломил себя. Отправил свою просьбу разрешить прислать ему «Верховину» на отзыв.
Виталий Алексеевич ответил, что заняться моей рукописью сможет только в июле.
Пробежал июль, прожёг мимо и август…
Конечно, текучка сотворила своё болотное дело.
Засосала.
Я узнал, что на писательский пленум в Москву приехал Коротич. И я кинулся отыскать его по телефону.
Семь утра.
Звоню в «Москву». В гостиницу.
Ответили. Я:
– Виталий Алексеевич?
Густоватый со сна басок:
– Это который Коротич?
– Да.
– Он на седьмом этаже. Но не на седьмом небе. В двадцать девятом номере. И у него на конце семь тридцать пять. Вы понимаете, о каком я конце? Телефон тот же. Да конец семь тридцать пять.
Восемь двадцать пять утра. Снова набираю. Занято. Ничего, подождём. Нам спешить некуда.
Восемь двадцать шесть и пять. Свободно!
– Виталий Алексеевич, здравствуйте! Вас беспокоит, – и называю свою фамилию.
Отвечал он несколько виновато. Как мне показалось.
– Прочитали ли вы мой несчастный труд?
– Да, прочитал. Вещь очень стоящая.
Забегая наперёд скажу, Виталий Алексеевич Коротич действительно оказал мне неоценимую помощь. Это уже при нём, главном редакторе «Огонька», в «Библиотеке «Огонька» появились в моём переводе впервые на русском языке пятнадцать рассказов талантливого украинского сатирика Василя Чечвянского, репрессированного и расстрелянного в тридцать седьмом. Позже Василь Чечвянский был реабилитирован.
Без поддержки Виталия Алексеевича не видать мне «Библиотеки «Огонька» как своего затылка.
Стоит к месту добавить. Со временем я перевёл на русский основную часть иронической прозы В. Чечвянского, этого украинского Зощенко, и на свои средства издал в Москве однотомник его сочинений в своём переводе. Эту книгу я выпустил в 2013 году. К 125-летию со дня рождения В. Чечвянского.
Тут не обойтись без отступления.
Нельзя не привести строки из книги Натальи Шубенко «Неизвестный Харьков»:
«К середине 30-х романы Ильфа и Петрова были переведены на множество языков – редкий случай популярности при жизни. Среди них есть и столь экзотические, как румынский, хорватский, македонский и даже хинди. Отсутствовал, как ни парадоксально, перевод… на украинский. Пытаясь решить эту проблему, Ильф и Петров в 1936 г. вновь приезжают в Харьков на встречу с писателем Василем Чечвянским. Увы, работе не суждено было осуществиться: через несколько месяцев украинского писателя арестовали и расстреляли как «врага народа». Впрочем, и сам Ильф держал наготове сумку с двумя сменами белья».
Лет пять назад в интернете не было даже упоминания о Чечвянском. Очерк о нём и его фотографию я отправил в киевский биографический банк данных «Личности». Тогда и появились в интернете первый материал о Чечвянском, снимок с автографом, что я посылал. К слову, позже из шести картинок о Чечвянском пять появились при моём старательстве.
Но почему дело с мёртвой точки столкнул именно русский москвич? Почему в Киеве до этого сами не доехали?
Насколько мне известно, за все пятьдесят шесть лет после посмертной реабилитации у В. Чечвянского вышли на Украине лишь две тощенькие книжечки. За последние сорок пять лет ни одной книги не издано на Родине.
Зато в Москве за последнюю четверть века вышли три книги его рассказов в моём переводе. «Радостная параллель» – третья книга. «Избранное». Я выпустил его к 125-летию В. Чечвянского на свои тоскливые пенсионно-инвалидные миллиардищи. Уцелевший русский репрессированный выдернул из забвения расстрелянного репрессированного украинца.
13 марта 2013 года «Клуб 12 стульев» «Литературной газеты» опубликовал мой перевод рассказа В. Чечвянского «Подход» с таким предисловием.
«Мы уже знакомили читателей с творчеством украинского сатирика Василя Чечвянского (№ 16, 2008 и № 44, 2011). Он родной брат классика украинской сатиры Остапа Вишни. Оба писали под псевдонимами, их настоящая фамилия Губенко.
У Василя Чечвянского (1888–1937) трагическая судьба: в разгар большого террора он был арестован и расстрелян. Что касается литературной судьбы, она постепенно улучшается благодаря усилиям писателя и переводчика Анатолия Санжаровского. Анатолий Никифорович всячески пропагандирует творчество «Колумба украинского юмора». Сейчас, к 125-летию сатирика, он даже издал за свой счёт (!) сборник его рассказов «Радостная параллель» (М.: Книга по требованию, 2013)».
А вот насчёт рецензии на свою повесть я задумался.
По доброжелательному тону письма В. Коротича и по телефонному разговору я понял, что претензий к «Верховине» у него не будет. Это для меня главное.
Но всё же…
Для крепости тылов я решил послать обновлённую рукопись и великому русскому писателю Василию Ивановичу Белову, члену правления издательства «Советский писатель».
Глубокоуважаемый Василий Иванович!
Посылаю Вам на отзыв свою повесть "Верховина, или Путь из-за океана".
Вы уж ради Бога простите. Прекрасно понимаю, загружены Вы сверх всяких мер. Но не могу не обратиться к Вам, к народному писателю, к народному депутату.
Посылаю Вам и свою единственную книжку повестей "От чистого сердца". Это пока всё, что я мог издать в свои пятьдесят лет. Тяжко на Руси живому русскому слову.
С уважением
А. Санжаровский8 апреля 1989.Мнение Василия Ивановича Белова, секретаря правления Союза писателей РСФСР, пришлось мне по душе. Он, в частности, писал:
«Повесть, ясно, надо издать. Особенно нравится мне язык».
Я успокоился за рукопись и решил: есть два положительных отзыва – хватит!
Сменился в стране строй.
Вломился новый век.
Более трёх десятков лет не отпускала меня «Верховина». За эти долгие годы она значительно увеличилась, переросла рамки повести, и я не мог не повысить её в «должности». Стала повесть романом. Сменил и название. «Верховина, или Путь из-за океана» стала у меня «Русинией».
Русиния…
Это имя прислышалось, пришло ко мне в Мукачеве, в исторической столице Подкарпатской Руси…
Когда я занялся примечаниями к «Русинии», я невольно полез в историю русинов. И здесь открылась бездна непонятного и странного.
Как известно, "Карпаты являются общеславянской прародиной, откуда в седьмом веке славянские племена рассеялись в разные стороны". «Так потомки древнейшего коренного русского населения Карпатской Руси, частично Киевской Руси (самоназв. русины, т. е. «сыны Руси»; русичи, руснаки, карпатороссы, угророссы, русские галичане, угрские русины, галицкие русины, буковинские русины, др. назв. – рутены) – жители основных исторических регионов Западной Украины (Прикарпатской Руси и Закарпатской Руси; живут также в Польше, Словакии, Сербии, Франции, США и др.), которые несмотря на многовековое существование в составе различных государств (особенно Австро-Венгрии), оторванность от России и украинизацию сохранили русское этническое самосознание, русский язык и православную веру». (Энциклопедия «Народы России», стр. 283. Москва, научное издательство «Большая Российская Энциклопедия, 1994 год.)
Жили и живут русины в Закарпатье, в Подкарпатской Руси, где происходят события романа. По географическому энциклопедическому словарю (Москва, 1989), "Закарпатская Украина, Закарпатская Русь, Закарпатье – историческое название территории современной Закарпатской области. В 10–11 веках в составе Киевской Руси. Древнейшее население – славяне. В 11 веке захвачена Венгрией, затем в составе Австрии и Австро-Венгрии, с 1919 в Чехословакии, в 1938 оккупирована Венгрией. В 1944 освобождена Красной Армией, с 1945 в составе Украинской ССР».
Но вот в Большой советской энциклопедии (1955) читаем:
«Русины (руснаки) – название, которое в официальной австро-немецкой, а также в польской и русской литературе применялось по отношению к украинскому населению Галиции, Прикарпатья и Буковины (бывшая австрийская часть Западной Украины). После воссоединения всего украинского народа в Украинскую ССР (1940) название русины не употребляется».
Века и века был народ и вдруг не только его, этого народа, не стало, но и само слово русин уже не употребляется! В срочном порядке!
Эта «срочность» налетела сразу после того, как Никита Хрущёв спьяну отлучил единым росчерком пера Крым от России.
Уж так и «не употребляется»? На следующий год после выхода «не употребляется» вышел «Орфографический словарь русского языка». На месте и русин, и русинка, и русинский.
И русины как жили, так и живут.
Но…
Приведу отрывок из статьи Андрея Фатулы, заместителя председателя правления Русинского землячества «Карпатская Русь»:
«…1945 год – новый передел Европы. По соглашению между Чехословакией и СССР от 29 июня 1945 г. автономная республика Подкарпатская Русь, переименованная в ноябре 1944 года подкарпатскими коммунистами в Закарпатскую Украину, вошла в состав Советского Союза. В январе 1946 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, республика была включена в состав Украинской ССР с понижением ее в статусе до области. Однако Подкарпатская Русь просилась в состав СССР на правах автономии! Что же получилось? Руководство СССР и Советской Украины просто обмануло народ автономной русинской республики, резолюцию партийной конференции края, состоявшейся в городе Мукачеве (на которой присутствовал начальник политотдела 18-й армии, будущий Генсек КПСС Леонид Ильич Брежнев) об автономии проигнорировали, а обращение делегатов православного съезда священников к Иосифу Сталину о присоединении Подкарпатской Руси на правах 16-й Карпаторусской Советской Социалистической республики к СССР и подавно не расслышали. Сегодня любому человеку ясно, будь он русин, украинец, русский, белорус или представитель другой национальности, что если бы Подкарпатская Русь осталась в составе Чехословакии, то с вышеупомянутым Конституционным законом Чехословакии она была бы отдельным государством. Однако колесо истории вспять не повернешь.
И здесь нужно сказать самое главное. Народ Подкарпатской Руси восторженно встречал воинов Красной Армии, освободившей их территорию от фашистов в конце октября 1944 года. Среди освободителей родного края были и тысячи русинов (карпатороссов), воевавших в рядах Чехословацкого корпуса генерала Свободы.
Русинский народ радовался освобождению его родины и присоединению его к Советскому Союзу, к Украине, к Киевской Руси. Тысячи простых людей выкрикивали слова: «Мы русины, мы сыны Руси!». На русинском языке слово «русин» произносится как «русын», т. е. сын Руси. Но никому из них в то время даже в кошмарном сне не могло присниться, что после присоединения к Украине их всех по личному указанию Первого секретаря ЦК Компартии Украины Никиты Хрущева в одночасье переименуют в украинцев. Сельское население Закарпатья паспорта не получало в течение всего времени правления Хрущева, и только в конце октября 1964 года, после его смещения со всех постов, русины узнали, что они уже не сыны Руси. Грустно и печально.
В этой связи напомню читателю некоторые статистические данные довоенного периода, касающиеся Подкарпатской Руси.
Так, в соответствии с законодательством Чехословакии об образовании, все дети в возрасте от 6 до 15 лет должны были обучаться в школах. К примеру, в 1923/1924 учебном году в школах Подкарпатской Руси обучались дети следующих национальностей: русинской – 67,999 или 62,8 %, венгерской – 17,585 или 16,25 %, еврейской – 16,35 тыс. или 15,07 %, румынской – 2,238 или,07 %, немецкой – 2,008 или 1,85 %, чешской и словацкой – 1,982 или 1,83 % и других (в их числе: украинской, русской, польской, болгарской, греческой) – всего 121 ученик или 0,11 %. Согласно переписи населения в 1930 году, всего в Чехословакии проживало 14 млн. 729 тыс. 536 граждан, а на территории Подкарпатской Руси – 858,7 тыс. человек, в т. ч. 528 тыс. русинов. Во время этой переписи русские и украинцы, проживающие на территории Подкарпатской Руси, были учтены в графе «иностранцы» (чужинцы), и их было зафиксировано всего 6 870 человек.
После распада СССР русины на региональном референдуме 1 декабря 1991 года вновь заявили о желании иметь автономию, уже в составе Украины. Им пообещали, но слово не сдержали, а в 1996 году правительство Украины приняло пресловутый план мероприятий по искоренению русинов Закарпатья. Все должны быть украинцами, и точка. И это несмотря на то, что русины Закарпатья любят Украину и очень надеются на взаимность.
Сегодня русины признаны во многих странах мира, в т. ч. и в России. В столице достаточно активно работает Русинское землячество «Карпатская Русь». С 1991 года осуществляет свою созидательную культурно-просветительскую деятельность Всемирный Конгресс русинов.
Здесь следует упомянуть, что научные и культурные связи русинов и Великой России имеют уже свою многовековую историю. Первой связующей ниточкой между Подкарпатской Русью – Закарпатьем и Российской империей был Иван Алексеевич Зейкан – просветитель и дипломат при царе Петре I. После него в России работала целая плеяда ученых русинов, в том числе Михаил Андреевич Балугьянский – первый ректор Санкт-Петербургского университета. А путешественник Афанасий Никитин? А писатель Нестор Кукольник? А композитор Дмитрий Бортнянский? А художник Игорь Грабарь? А глава Русской зарубежной церкви митрополит Лавр?.. Всё это русины…».
О деле должен говорить человек, знающий это дело изнутри. Таким я и считаю Андрея Фатулу. Поэтому позволил себе привести большой отрывок из его статьи «Четвертый восточнославянский народ».
В новом издании БСЭ (1975) находим новенькое:
"Русины (от Русь) – название украинцев западно-украинских земель…"
Слава богу, вспомнили, что всё-таки русин – от Русь. Русин – сын Руси! Но почему "русины – название украинцев"? Неужели по аналогии: Иван – имя Петра? А тогда и Петр – имя Ивана? Следовательно, тогда и украинец – название русина?
Но вот в 1993 году в Ужгороде выходит книга «Сочинения» Александра Духновича и в первом же абзаце вступительной статьи Юрий Бача «радует» читателя словосочетаниями «закарпатский русин-украинец», "русин-украинец".
Это что, по типу: овцебык, козлотур? Доживём ли мы до бачинского, скажем, «англичанина-француза», «шведа-немца», «американца-африканца», «землянина-марсианина»?
Конечно, тут не до шуток. Идёт откровенное выдавливание всего русского из сознания карпатцев. Ю. Бача спокойненько нам, твердолобым, объясняет на 11-ой странице своего вступления: "…русский (народ) по те пере шним понятиям – украинский (народ)".
Раз вот так «доказана теорема», что русский – это украинец, то вот поспели и «плоды». В аннотации к названной книге карпато-русского писателя Александра Духновича (Ужгород, 1993) о нём открытым текстом сказано: "видатний украинський культурно-освiтнiй дiяч на терени (территории) историчного Закарпаття". Ни больше ни меньше. И конкретный русский превратился в украинца.
А первым проделал эту «операцию» всё тот же неутомимый Ю. Бача.
В 1963 году в Словакии, на родине Александра Духновича вышло его «Вибране» ("Избранное"). Выпустило книгу прешовское отделение украинской литературы Словацкого педагогического издательства.
Составитель кандидат филологических наук Ю. Бача такими словами начинал предисловие:
"В этом году исполняется 160 лет со дня рождения Александра Духновича – известного карпато-украинского педагога, культурно-просветительского деятеля и писателя".
Был человек русским, а через 98 лет после смерти вдруг превращается в украинца. И это «превращение» произошло вскоре после того, как Большая советская энциклопедия объявила, что слово русин больше не употребляется.
Кому-то это было на руку. И стал Духнович украинцем.
Попробуем развеять этот мираж-фиксаж.
В 1916 году в Москве вышла книга профессора Московского университета Фёдора Фёдоровича Аристова "Карпато-русские писатели". Издание галицко-русского общества в Петрограде.
В этой книге подробно рассказывается об Александре Духновиче.
Родился он в Словакии, в селе Тополя близ Прешова, в семье приходского русского священника Василия Дмитриевича Духновича. Мать Мария Ивановна была из дома Герберов.
На седьмом году мальчик стал изучать русский букварь, псалтырь и часослов. Его первым учителем был дядя Дмитрий Гербер, священник.
В Ужгороде, в начальной школе, где русский букварь был заменён мадьярской азбукой, над Сашей издевались учителя и ученики "за его привязанность к русской речи". Александр быстро выучил мадьярский, отлично говорил на нём, но стал забывать родной язык. И "от национальной гибели его спасло услышанное впервые от деда семейное предание о древнерусском происхождении их рода. Это произошло в 1816 году, когда умер отец А. В. Духновича, и он вместе с братом и четырьмя сестрами остался сиротою. В один из ближайших дней после похорон отца писателя дед призвал своего двенадцатилетнего внука и торжественно ему объявил: «Сын мой! Отец твой умер, а мне уже 70 лет и я не знаю, увижу ли тебя, когда ты вернешься из училища. Поэтому я должен тебе сообщить то, что мой отец и дядя завещали мне передать наследникам относительно нашего рода. Предок наш происходил из Москвы и не назывался тогда Духновичем, а был из известной фамилии Черкасских. В царствование Петра Великого, во время его отсутствия из Москвы, настал бунт стрельцов, которым руководила царевна Софья. Одним из начальников стрельцов был наш предок Черкасский; он спасся от казни бегством и с несколькими своими товарищами, в числе которых были Гербер и Брылла, чрез Польшу направился в Угрию, где поселился под Бескидом, в селе Тополе, приняв имя Духновича. Здесь он получил должность певца при деревянной церкви; но, отличаясь познаниями, обратил на себя внимание соседних священников, которые убедили его жениться и принять звание иерея. Он женился на дочери одного из этих священников, отправился в Мукачевский монастырь, был там посвящен в иереи и получил приход в селе Тополе, который и переходил всегда к его потомкам. Сын мой! Не забывай Бога, молись Ему и люби свой русский род, и хоть не станешь от этого богат, но зато будешь счастлив».