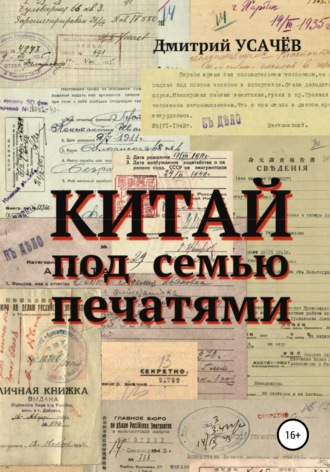
Полная версия
Китай под семью печатями
Реутт в пути восьмые сутки. Добирается из Китая на самый запад Российской Империи, почти до польских земель. С пересадками – уже на третьем поезде. Едет домой впервые за пять лет. С тех пор, как он в 1909 году 1-го июня (не забыть того дня!) нанялся на станцию Маньчжурию, с отпуском никак не получалось, и Ян до того соскучился по родной Могилёвщине – просто мочи нету! Ехал во всех поездах в «жёлтом» вагоне, то есть первым классом. На дорогой билет заработал, хоть и должность у него не начальственная. Он в эти пять лет ладил и ремонтным рабочим в службе пути, и сторожем в депо, и проводником. И всё на станции Маньчжурия, и всё – на КВЖД. А ведь служить на КВЖД – это для всякого понимающего не просто так, а ого-го! Даже сторож на КВЖД – это не какой-то там дремлющий дедок, а вооружённый до зубов крепкий мужчина, имеющий право стрелять после первого предупреждения.
На станцию Богушевская поезд пришёл ранним утром. Всё тут Яну знакомо не просто до мелочей, а буквально до мозолей на руках. Железную дорогу Витебск—Орша—Жлобин строили с тысяча восемьсот девяносто какого-то года, и поезда по ней пустили в 1902 году. Ян Реутт был среди построечников[7] станции Богушевская и нажил мозоли на ломовых карьерных работах ещё до того, как в 1902-м ему исполнилось двадцать.
На стыке девятнадцатого и двадцатого веков вся Российская Империя являла собой гигантскую железнодорожную стройку. Чисто российской территорией царское правительство не ограничилось, зашло со своими стройками в Китай, и именно тогда же, в 1902 году, началось движение поездов и по первым участкам Китайско-Восточной железной дороги. Куда и потянуло Яна Реутт в 1909-м. Тогда ему, такому лёгкому на подъём, было двадцать семь. Теперь тридцать два. Состоявшийся мужчина. Холостой. Жених завиднее некуда.
Ян взгромоздил дорожный сак на плечо, простился с проводником, вышел на перрон единственным из пассажиров. В честь его машинист дал пару в гудок, не пожалев спящих ещё жителей Богушевска. Паровоз пыхнул дымом, тронул с места. Пуфф-пуфф, чуфф-чуфф. И принялся стучать по рельсовым стыкам совсем на «польском языке»: «tak to to, tak to to»[8], – всё быстрее и быстрее повторяя эти восклицания. Жмурясь от раннего майского солнца, Ян провожал поезд глазами. Улыбнулся. Пора.
Начало мая. Природа пробудилась. Всё цветёт и благоухает. Стрёкот над головой. Ласточки носятся совсем низко над Яном, будто выглядывают, а что это у него там, на спине, в большущей поклаже, нет ли чего-нибудь вкусненького. Рассыпаются непрестанными трелями коричневые стрижи.
Сердце радуется.
Да, шёл май 1914-го. Пока ещё май. Через полтора месяца безумный молодой серб убьёт в Сараево австро-венгерского эрцгерцога. Начнётся война Российской Империи с Австрией и Пруссией. Начнётся всеобщее безумие. Разрушатся несколько империй, в том числе наша, Российская.
А пока мир прекрасен, и прекрасна огромная Россия. Ян идёт пешком до родного местечка Застенок Монастыри, тут полчаса на своих двоих, и любуется полями вокруг. Озимые зеленеют, зябь посеяна. Многими землями, или мызами, как здесь говорят, владело семейство Реутт.
Дорога к Застенку Монастыри идёт мимо каплички Святого Маккавея, которая остаётся слева. Капличка по-здешнему – это католическая часовня, молельня или божничка. Вокруг каплички несколько больших бревенчатых домов, ведь в день Святого Маккавея сюда, к этой молельне, с 1850-х годов сходились крестьяне со всех окрестных деревень, даже из уездного городка Сенно. Да что там из уезда, приезжали люди и из Витебска, и из Могилёва. Белорусы, латыши, русские, поляки, евреи – всех тянуло в начале августа, в Медово-Маковый Спас, сюда, на берег речки Песочанки. Сначала молебен, а потом блины, окунаемые в макальники с маково-мёдовым молочком, а ещё хороводы.
Понятно, что празднество в один день не укладывалось. Людям надо как-то переночевать, где-то перекусить. И божничка обрастала постройками, где приходящие пешком и приезжающие в экипажах и верхом крестьяне располагались на пару-тройку дней и ночей, а то и на дольше. Появились заезжие дома, корчма, бакалейный магазин.
Так рядом с молельней образовалось местечко, которое люди стали называть Застенок Монастыри. «Застенок» тут не от слова «стена», а от «застить» с ударением на первый слог – то есть заслонить (это по четырёхтомному словарю Владимира Даля). Например, хуторские земли разных хозяев отделены друг от друга стiнками, то есть маленькими лесками. А монастырями называли не только монашеские обители, но и церковную землю со строениями.
Так вот, откуда-то с запада, то ли из Латвии, которая поближе, то ли из Польши, тоже недалёкой, приехала в Монастыри семья при деньгах – предприимчивые работящие люди по фамилии то ли Регут, то ли Реут или Рэгут. Да как их местные поначалу только не называли!
Постепенно привыкли к правильному произношению и написанию – Реутт. Это польские дворяне – шляхтичи. Начали осваивать окрестные земли и создали то, что на западный манер именуется фольварк, то есть имение или заимка. В урочище рядом с капличкой они в 1854 году построили пивоварню[9]. Сюда же стали селиться и другие богатые приезжие – Яцевичи, Ландёнок, Мойша Гиршевич Кулик, Кац, Кривошеевы.
И ещё сюда, в местечко Монастыри, приехали и здесь обжились и отстроились шляхтичи Антоневичи. Вот как раз к усадьбе Антоневичей и пойдёт Ян Реутт. Но это чуток позже. А пока…
А пока Ян Реутт с широко раскрытыми глазами замирает на перекрестии улочек, откуда предстал взору родительский дом. Старается не шевелиться, потому что в их домашнем парке (он же сад, он же огород) громко завздыхали милые ему с детства горлицы: угху-ху-ху, угху-ху-ху. Мелодично, в три слога.
В Китае горлиц не водится, а жаль, Ян по ним соскучился, ведь они так по-доброму будят деревенских жителей, и они такие красивые со своими чёрно-белыми кольцами-ожерельями на шее. Ага, вон там их видно – двух горлиц на той самой кормушке, который Ян пять лет назад собрал-склеил из веточек в углу живого плота, облепленного синичками и воробьями.
Живой плот – это зелёная ограда вокруг их имения, она из дёрена. Веточки этого дёрена, подаренные кем-то из соседей, маминка прорастила в кувшинах с водой. Они все, штук сто, дружно дали корни. И Ян, тогда ещё совсем мальчишка, посадил их ровненько по краям участка. А потом постоянно стриг садовыми ножницами. Кто сейчас стрижёт этот плот. Тата? Или зять Адам, муж Франциски? Ой, а каким огромным вымахал в самой серёдке их парка оржех! И этого грецкого ореха, и съестного каштана, и дуба Ян посадил в землю собранными в лесу плодами: ямка для ореха, другая для каштана, в третью закопал жёлудь. Все взялись, и когда Ян уезжал в Маньчжурию, то мог дотянуться до их вершинок рукою. А теперь? Теперь все три дерева выше дома. А под ними чистый от плевел и прокошенный литовкой травник.
Вовсю цветёт и благоухает вислая герань на воротах – белая, розовая, красная, синяя. Калиток и дверей тут никто никогда не запирает. И Ян уже во дворе, он подходит к крыльцу. Видит прилипшую к кухонному окошку сестричку Франциску с выпученными от изумления и восторга глазами, и она тут же вылетает на порог, вешается брату на шею, с которой он едва успевает сбросить трёхпудовый саквояж. Франциска заталкивает Яна в дом, что-то кричит пастуху, выгоняющему в этот ранний час скотину с соседского двора, тот понимающе кивает и уносится. И пока Ян уясняет, что тата с маминкой и с сестриным мужем Адамом часом раньше уехали на дальнее поле, и что их уже не догнать, как в дом ураганом врывается сёстра Тоня, она постарше Яна.
Тоня с Франциской знают, с какой целью он очутился сегодня в Монастырях. Последние года они бойко отписывали ему в Китай, какой красавицей вырастает соседка Аннушка. А самой Анке и её родителям эти самодеятельные свахи находили всякий повод напомнить в сотый и в двухсотый раз, что нет лучшего жениха, чем шляхтич Ян Юлианович Реутт. И сейчас готовят брата к встрече с Антоневичами, расспрашивают, хохочут, греют воду в бане. Принимаются разбирать дорожный узел брата, всплёскивают руками и смеются.
– Это всё вам подаровала Аделия, она у нас така мила, – отмахивается от благодарностей Ян.
Он так скромничает, ведь в красивые и практичные гостинцы родителям и сёстрам он лично вложился только юанями, а по торгам да по бавунам ходила и багаж Яну паковала Аделия – средняя из сестёр, которая тоже давно в Китае с мужем и дочкой.
Сестрички уже нагрели утюг, наглаживают выходную братову одёжу. И через час намытого и обихоженного Яна они проводят к хоромам Антоневичей и осенят его крестом. А у него замрёт сердце.
И в самом деле, когда Ян Реутт пять лет назад отправлялся из Монастырей в далёкие китайские края, то быстроглазой весёлой девчонке Анке Антоневич было пятнадцать. Теперь, когда Ян входит во двор к Антоневичам, Аннушке двадцать. Вот она – стоит с татой, мамой и бабчей на крыльце. И вся светится.
Аннушка свет Иосифовна. Черноволосая ладная дивчина. Панна на выданье.
Свадьба и отъезд. И вот Анна и Ян уже далеко-далеко!
Из опросного эмигрантского листа, который Анна Иосифовна Реутт заполнит через двадцать с лишним лет:
«25 мая 1914 года вышла замуж церковным браком за Реутт Яна Юлиановича в селе Монастыри, после чего мы с мужем уехали на станцию Маньчжурия на КВЖД. Муж давно служил на севере Китая проводником вагонов. Социальная принадлежность: дворянка по отцу и по мужу. Политические взгляды: противокоммунистка. Вероисповедование: римско-католическое. Национальность: полька [зачёркнуто] белоруска». Такое же «уточнение» в анкетной графе о национальности есть и у Яна Реутт: «… поля [не дописал последней буквы, зачёркнул и заменил] католик».
Национальность – католик? Стеснялись признаваться, что они поляки? Но своими исправлениями только выдавали себя.
А с чего это я вдруг взялся за фамилию Реутт? Да просто эмигранты из больших семей – они в Харбине хочешь не хочешь пересекались друг с другом. Так было и у Реутт с Усачёвыми. В обеих семьях по трое парней и по одной девушке, а у кого-то и годы рождения совпадают. Поэтому вовсе не случайно, что четверо детей из этих двух семей учились в одной и той же школе на Артиллерийской. Они бегали по одним коридорам и выстраивались вместе со всеми другими на плацу, чтобы перед уроками хором спеть японский гимн.
А когда, например, в декабре сорок третьего японцы захотят принудительно поставить под своё самурайское ружьё двадцатилетних эмигрантов, то заранее составят «Список лиц мужского пола в возрасте от 20 лет, вызываемых на предмет прохождения специальной подготовки при Главном Штабе Кио-Ва-Кай». Я этот список в архиве нашёл. И увидел, что среди взятых на примету «призывников» оказались в одном алфавитном списке с разницей в одиннадцать фамилий Реутт Мечислав и Усачёв Александр. Оба они 1923 года рождения, первый родился 26 марта, а второй 22 апреля. Их станут вызывать повестками для расспросов-допросов на одно и то же время и в один и тот же кабинет конторы БРЭМ. Они познакомятся. Оба постараются откосить от армии, и одному это удастся, а другому, увы, – нет.
Сохраним интригу, сразу не скажем, кто из них останется на свободе, а кого заставят напялить на себя японский мундир, чтобы он потом угодил за это в советскую тюрьму. Отгадка – она в двух главах нашей книги, и у этих глав перекликаются названия: «Самурайский меч» и «Меч и Слава».
Клюнув на имя Мечислав в списке потенциальных самураев, я заказал и получил из Хабаровска под двести листов архивных дел на восьмерых Реутт. Читал, не отвлекаясь на кофе и схватившись за голову, с утра до ночи. Потом заказал дела на тех пани из рода Реутт, у которых после замужества поменялись фамилии, – то есть на семьи эмигрантов Озевичей, Яцевичей и Пустощёловых. Зачем я это сделал? Ведь явно перебор! Героев и характеров с фамилией Реутт и так на роман с продолженьем.
Чтобы вас не запутать и самому не запутаться, разложу наших персонажей по полочкам.
Итак, первой из семьи Реутт на станции Маньчжурия Китайско-Восточной железной дороги оказалась Аделия Юлиановна. Её сюда привёз из родных Монастырей в 1904 году, то есть сразу после начала эксплуатации КВЖД, муж Иван Викентьевич Яцевич. В 1911-м у них родится дочка Регина.
Как мы знаем, Ян Юлианович Реутт последует за старшей сестрой в Маньчжурию в 1909-м, а через пять лет привезёт сюда жену Анну Иосифовну, в девичестве Антоневич. На станции Маньчжурия у Яна и Анны друг за дружкой родились четверо детей. Трое мальчиков, которые все такие славные, – Станислав, Бронислав и Мечислав. И умница-красавица дочка Аделия, названная в честь тётки.
Франциска, самая младшая из сестёр Реутт, на некоторое время задержится в Монастырях. Замуж за односельца и однофамильца Реутт Адама Адамовича она ведь вышла ещё в 1914-м. А годом позже у них родится дочь Янина. Глава семьи Адам Адамович – очень крепкий предприимчивый крестьянин, у него и у самого имелись земли, а тут ещё приданое от родителей Франциски – пашни, леса и покосы. Вроде живи и радуйся! Но ведь шла война, германцы в 1915-м дошли до Барановичей, где поначалу у русских находилась ставка Верховного Главнокомандующего. Ну и куда перенесли эту самую ставку? Её перенесли совсем близко к родному местечку наших героев – в Могилёв. Война вот она – у самых ворот.
И что оставалось делать? Уезжать из Монастырей, благо есть куда, дорога накатана. И в феврале 1916 года на станции Маньчжурия появились новые Реутт. Трое вместе с Яничкой.
И какой вышел расклад? Семьи двух родных сестёр и их родного брата – все на станции Маньчжурия. Ян Юлианович – проводник вагонов, всё понятно. А вот муж Аделии Иван Викентьевич и супруг Франциски Адам Адамович – они оба машинисты водокачки. Водокачка на станции одна, а машинистов двое, да ещё родственники, семейственность какая-то. Тесновато. И тогда Иван Викентьевич Яцевич с семьёй переедет на такую же водокачку сначала на станцию Цаган, а потом на Чжалайнор – один перегон от Маньчжурии, полчаса времени на подножке поезда до работы. Дочка Яцевичей, умненькая Регина, поступит в Маньчжурии в польскую школу при костёле, пока ту в 1921-м не закрыли. Её двоюродная сестрёнка Янина, дочь Адама и Франциски, была ещё не школьного возраста, бегала за Региной, провожала её на уроки и встречала из костёла.
Да, начались двадцатые.
Именно в двадцатые служащим КВЖД предстоят тяжёлые испытания.
Чтобы рассказать об этих сложностях, нам семья железнодорожников Реутт как раз и понадобится.
Ведь Усачёвы на железной дороге не служили.
Харбинский блокнот, 7 декабря 2017 года, ближе к полудню
Троицкий мещанин
На выходе из музея еврейской культуры у меня в кармане звякнул смартфон, ещё действовал бесплатный музейный вай-фай. Электронная почта. Да, из Челябинского архива. Юра Хуан Хун, поняв мою озабоченность, завёл меня в крохотную забегаловку на Китайской улице, типа кондитерской – с тремя столиками и с доступом в интернет. Юра заказал себе мороженого, я от его предложения отмахнулся и влез в почту.
Марина Николаевна Степанова не просто не обманула, а сработала стремительно. Всего три дня минуло, я в другой стране, а у меня уже скан из архива.
Вот она – запись в Метрической книге Троицкой церкви Михаила Архангела (ять, иже и еръ в соответствии с оригиналом):
«Мужеска пола
Годъ рожденiя 1917
Месяцъ и день рожденія – Окт. 28. Месяцъ и день крещінія – Ноябрь. 1
Имя родившагося – Михаилъ въ честь св. Архан. Празд. 8. Ноября
Званіе, имя и фамилія родителей, и какого вѣро-исповѣданіа:
Троицкій мѣщанинъ Павелъ Никитинъ Усачовъ
и законная жена его Параскева Лаврентьева, оба православные
Званіе, имя, отчество и фамилія воспріемниковъ:
Троицкий мѣщанинъ Симеонъ Никитинъ Усачовъ
и казачья жена Каратабанского поселка
Еткульской станицы Параскева Никитина Кузнецова Кто совершалъ таинство крещінія
Протеіерей Михаилъ Чулковъ и Діаконъ Павелъ Лебедев
Рукоприкладство свидѣтелей записи по желанію»
Сижу, проглатываю картинки, буквы и «рукоприкладства» – то бишь подписи. Не заметил, как Юра сходил к прилавку, после чего поставил передо мной чашку настоящего капучино. В фарфоровой чашке. Я всё ещё в этом церковном тексте.
Мой дедушка Павел и его брат Симеон были близнецами. И восприемником при крещении новорождённого Миши стал именно Семён Никитич Усачёв. Восприемник – это крёстный отец. Если умрёт родной папа, то заботиться о ребёнке станет восприемник. Не исключено, что крёстная мать моего папы Прасковья Кузнецова («казачья жена») – это сестра Павла и Семёна, ведь и она тоже – Никитична. Кстати, и звали её тоже Прасковьей, как и маму крещаемого Миши. Но это уже просто совпадение.
«Усачовъ» или «Усачёв». Через «о» или через «ё». Если бы мой отец родился день в день двумя месяцами позже, то мог бы сразу получить букву «ё» в своей фамилии. Потому что 23 декабря 1917 года (по новому стилю 5 января 1918 года) новоявленный нарком просвещения Анатолий Луначарский, проводя в жизнь «орфографические реформы», сотворил Декрет о желательном употреблении буквы «ё». Потом букву «ё» то третировали и опускали до «е», то делали обязательной (ой-ёй-ёй, при Сталине), то опять игнорировали.
Недавно в книге Алексея Иванова «Пищеблок», которая вышла под редакцией Елены Шубиной, я увидел все «ё» во всех без исключения положенных местах, а ещё увидел знак ударения там, где без него не обойтись, и воспрянул духом. В этой моей книге такое правило употребления буквы «ё» тоже соблюдается. Может быть, потому, что я – Усачёв, через «ё». Хотя в моём свидетельстве о рождении и в паспортах по-прежнему написана безликая буква «е». Недавно юрист Евгений, зная мой «ё-шный» фанатизм, при заполнении доверенности у адвоката внимательно следил за моим правописанием, наклонившись над столом: «Ой, Дмитрий Михайлович, пожалуйста, не напишите в фамилии букву “ё”, ведь в паспорте у вас “е”, надо по паспорту».
… Кстати, кофе в этой китайской кофейне зерновой, вкусный, душистый.
– Юра, спасибо за кофе, посидим ещё минут пять…
Да, Михаил Усачёв родился в 1917 году, а не в 1918-м, как это значилось в его советском паспорте, и как на этом настаивала его родная сестра и моя очень хорошая тётя Клава, моя крёстная. Она родилась, по-видимому, в 1915 году или раньше, и «слегка» омолодила себя, указывая в анкетах БРЭМ, а затем и в советском паспорте, будто родилась в семнадцатом году. А раз так, то Клава и своего брата Михаила омолодила, сделав его рождённым в 18-м. А моего отца это не волновало. До поры до времени. Ну а когда приблизилось 60-летие, то не захотелось выходить на пенсию годом позже, и он сделал запрос в Троицк. Оттуда ему прислали новое свидетельство о рождении с датой появления на свет в 1917-м – на основе Метрической книги.
Почему тётя Клава хотела быть моложе? Может, потому, что к ней сватался красивейший и очень завидный жених Меснянкин Константин Александрович, высоченный, как каланча, 1914 года рождения, тоже русский эмигрант, вот тёте Клаве и захотелось предстать пред женихом и будущим мужем ещё более юной, чем на самом деле. Так, наверное…
По новому стилю Михаил Павлович Усачёв родился 10 ноября. В каждый, да-да, в каждый без исключения день его рождения обязательно, стопроцентно, по телевизору шли в его честь грандиозные концерты. Заодно с ним радовались участковые и патрульные, которым очень повезло, ведь на ту же дату, на 10 ноября, назначили чисто случайно ещё и День милиции, и они опрометчиво считали, что телевизорный концерт посвящён не моему отцу, а им – милиционерам…
– Юра, спасибо за терпение и за кофе, пошли на Конную улицу. Там работал мой дед, вот тут про него написано, – поворачиваю экран смартфона к моему гиду. – Он служил скорняком у Берха Палея…
– А кто такие скорняки?
– Это которые шьют шапки.
Эмигранты в анкетах и доносах
Шахер-махер: сделка и делец
Усачёвы всегда говорили, что самой лучшей порой их жизни в Харбине были те три с небольшим года, когда глава семейства Павел Никитич служил скорняком в мастерской у Берха Палея.
Интересная эта личность – Палей Берх Ицкович. Почему он Берх, а не Борис? Ну вот так получилось. У его родителей было три сына: Берх (1895 года рождения), Соломон (1898) и Борис (1905). То есть Берх – отдельно, а Борис – сам по себе. Два разных имени. Так решил отец – Ицка Берхович Палей (1870). Разобрались. Средний из братьев Соломон переделал отчество в Исаакович, а Берх, раз на то пошло с именем, то и отчество оставил себе опять-таки чисто еврейское, он – Ицкович. О Соломоне Палее я в материалах БРЭМ тоже многое узнал, но сначала – о Берхе.
А судьба Палея Берха Ицковича очень любопытна. Я читал материалы из архивного дела этого коммерсанта, удивлялся тому, как смело он брался за дело, как тонко чувствовал-изучал запросы потенциальных покупателей, как искал поставщиков, подбирал персонал, строил отношения с властями. Не без хитростей и уловок, конечно, но: бизнес есть бизнес!
Родился в 1895 году в городе Дисна тогдашней Виленской губернии. По тем временам и меркам город Дисна считался не самым маленьким, в нём жило восемь тысяч человек, из них половина евреев. Сейчас Дисна входит в состав Белоруссии, и этот город, как сообщает Википедия, буквально самый маленький в республике – 1537 человек. Впятеро меньше.
Как Палей пришёл в профессию и стал коммерсантом? Цитирую страничку из автобиографии, написанной от руки:
«В городе Дисна мой отец работал плотником и столяром, а моя мать занималась домашним хозяйством. До 1907 года я жил у родителей, а затем в возрасте двенадцати лет уехал в Санкт-Петербург, чтобы поступить мальчиком в скорняжную шапочную мастерскую. Через три года сдал государственный экзамен на скорняка, после чего сразу же открыл свой шапочный и меховой магазин в Санкт-Петербурге. Отец и мать тоже переехали в С-Петербург и помогали мне работать.
В начале 1915 года я ликвидировал в Петрограде [город переименовали] свой магазин и в феврале выехал в г. Харбин, где поступил в магазин Троцкого. А через месяц открыл свой меховой и скорняжный магазин на Мостовой улице. В январе 1915 года я женился на Вассерман Елизавете Наумовне.
В 1920 году помимо магазина я построил также себе дом под № 138 по Тибетской улице на 6 квартир.
Имущество – дом на Тибетской улице стоит 5 000 гоби, магазин по Китайской улице, 112 оценивается в 30 000 гоби. А также имеются: салон дамских нарядов “Фын-Лин” (заказы и ремонт меховых вещей) – в доме № 7 на Конной улице; галантерейный магазин “Волга-Байкал” (сорочки, воротники, дамское бельё, пижамы) – в доме № 2 по Конной на углу с Китайской.
Политические убеждения – аполитичен».
Заявлениям Берха Палея об аполитичности не очень-то верили. В БРЭМ думали: ага, как же, раз он и коммерсант, и еврей, то то значит – неблагонадёжен вдвойне. Поэтому у Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии есть несомненный повод наблюдать за персонажем. Для наблюдений – есть агенты.
Вот извет от 1936 года. О том, что Б. И. Палей очень хитрый и ловкий человек, умеет выходить из всякого положения. Что у него большевистские взгляды (жуткий грех). И, чтобы избежать краха в коммерции, он взял себе в компанию двух других евреев, один из которых известен как убеждённый коммунист (страшная крамола). И что Палей Б. И. участвует в работе местного еврейского боевого центра. В мерзком доносе подпись замазана.
Ещё одна бумага, которую зарегистрировали в БРЭМ двумя годами позже. Цитирую с сокращениями:
«По агентурным сведениям. Фактическим и официальным владельцем фирмы “Б. И. Па-лей и K°” в Харбине является Палей Берх Ицкович. Фирма имеет в Харбине два магазина. Один существует под вывеской “Б. И. Палей”, другой называется “Волга-Байкал”. Фирма имеет отделение и в военном кооперативе в Харбине. Кроме того, у фирмы есть отделение в городе Синьцзин [Синьцзин, он же Чанчунь, формальная столица Маньчжоу-Ди-Го, где проживал Император Пу И]. Никаких дополнительных предприятий, кроме незначительной мастерской при магазине, фирма не имеет.
Торгует фирма, главным образом, мехами, готовым платьем и мануфактурой.
Фирма была основана женой Б. И. Палея – Елизаветой Наумовной, в девичестве Вассерман. С 1936 фирма стала приспосабливаться к запросам ниппонских [т. е. японских] покупателей. Основной капитал фирмы составляет десять тысяч гоби. Наличный капитал никогда не превышает тридцать тысяч гоби. Оборот за сезон прошлого года составил около 450 тысяч гоби. Еврейские коммерческие круги уверены, что на складах фирмы лежит товар на сумму не менее полумиллиона гоби.
Меха фирма закупает в Китае [Маньчжурия в ту пору Китаем не считалась] и у местных мелких коммерсантов, к которым относятся: Муравчик, Янов, Ванштейн и другие. Мануфактура поступает из Ниппон, от фирм “Ямамото Бутой”, “Мацуй Бутой”, “Мацубаси Бутой”.
Однако фирма “Палей” не упускает случая получить товар из Европы. Для этого, по имеющимся сведениям, она пользуется разными контрабандными путями.

