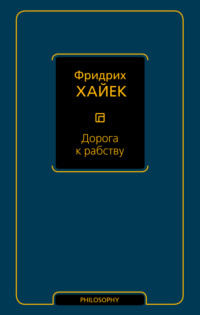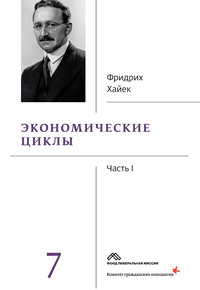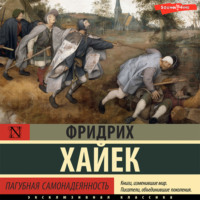Полная версия
Судьбы либерализма в XX веке
Прежде чем рассказывать о группе, которая участвовала во всех этих дискуссиях, скажу несколько слов об источнике того непреклонного либерализма, который делал Мизеса совершенно уникальным и даже одиноким в своем поколении – по крайней мере в немецкоязычном мире. Безусловно, Мизес не был просто реликтом прежнего времени, как это может показаться молодым, потому что между ним и последними классическими либералами пролегло целое поколение. И хорошо известно, что он, начиная исследования, был столь же привержен идее социальных реформ, как любой другой юноша его поколения. Карл Менгер, который еще преподавал, когда Мизес приступил к занятиям, был именно классическим либералом (хотя я не думаю, что Мизес посещал его лекции[51]). Но, хотя четвертая из знаменитых книг Менгера о методе[52] и содержит наметки того, что я прежде назвал теорией стихийного роста, образующей фундамент для политики свободы, он никогда не был догматическим или агрессивным либералом[53]. В следующем поколении Визер, Бём-Баверк и Филиппович, безусловно, назвали бы себя либералами, и мне случилось удостовериться, что по крайней мере у первых двух, как и у многих современных им континентальных либералов, общеполитические взгляды были в сущности теми, какие мы находим в эссе Т. Б. Маколея[54], которого оба они внимательно изучали.
Но у Визера и особенно у Филипповича этот либерализм включал немало аргументов в пользу регулирования, – по крайней мере для решения проблем рынка труда и социальной политики: Филиппович, в сущности, был скорее фабианцем, чем классическим либералом. Пожалуй, Бём-Баверк был исключением и остался до конца подлинным либералом, а его последнее эссе «Регулирование или экономические законы?»[55] можно даже рассматривать как начало возрождения либерализма. Но Мизес совершенно выломился из рядов своего поколения и сознательно держался в стороне как изолированный несгибаемый либерал, а за материалом для возводимого им здания новой либеральной доктрины ему пришлось пуститься в плавание по неведомым морям английских источников XIX в., поскольку текущая немецкая литература едва ли позволяла ознакомиться с принципами истинного либерализма. Но к тому времени, о котором идет речь, он уже нашел в Лондоне близких ему по духу Эдвина Кеннана и Теодора Грегори, и именно с начала 1920-х годов установились связи между австрийской и лондонской группами либералов.
Либерализм Мизеса не только вовлек его в непрекращающуюся полемику со сплоченной группой венских марксистов, где несколько светочей были его школьными приятелями, которая через Отто Нейрата оказывала сильное влияние на формировавшуюся тогда в «Венском кружке» группу философов-неопозитивистов; его либерализм колол глаза и обширной группе полулибералов, к которой принадлежало, вероятно, большинство тогдашних молодых интеллектуалов. А строго говоря, к этой группе принадлежали все мы, кто не был в ту пору марксистом, и только постепенно и очень медленно некоторые склонились к точке зрения Мизеса. Подозреваю, что даже в Privatseminar большинство в душе оставались полу-социалистами, а еще больше было тех, кто покидал семинар из протеста против постоянного возвращения дискуссий к принципам либерализма, хотя одним из главных источников силы этих дискуссий как раз и были систематические попытки ответить на вопрос: что же случится, если государство воздержится от вмешательства?
Прежде чем рассказывать дальше о среде, в которой формировались взгляды моего поколения, я должен сказать несколько слов о тех, кто занимал промежуточное положение между нами и поколением Мизеса и Шумпетера[56]: о тех троих, кто умер сравнительно рано и чьи работы заслуживают большей известности. Ни один из них никогда не входил в штат университетских профессоров, хотя их вклад в разработку экономической теории был значителен. Во-первых, Рихард Штригль, которого мы все рассматривали как достойного и законного претендента на должность профессора Венского университета и который, проживи он подольше, смог бы наилучшим образом продолжить традицию. Его исследование теории заработной платы[57] принадлежит к числу лучших в этой области, а кроме этого он внес существенный вклад в теорию капитала. Хотя он долго был приват-доцентом и в конце концов получил титул профессора, его постоянным местом работы была Промышленная комиссия, которая управляла работой биржи труда и другими аналогичными организациями. Был еще Эвальд Шаме[58], единственный во всей нашей группе студент Шумпетера в университете Граца и, похоже, единственный, кто был хорошо знаком с работами Вальраса и Парето. Его эссе о методах и логике экономической теории – истинные жемчужины, демонстрирующие аккуратность и точность, присущие этому страстному коллекционеру бабочек, который в числе прочего был юридическим советником в одном из отделов ведомства федерального канцлера. Третьим в этой группе был блистательный Лео Шёнфельд (позднее принявший имя Лео Илли), настолько перегруженный обязанностями бухгалтера, что мы виделись с ним редко, но при этом сумевший издать последний большой трактат на традиционно главную для австрийской школы тему – о теории субъективной ценности[59].
Разнообразие занятий людей моего поколения, прежде чем все они стали профессорами американских университетов, еще поразительней. Философ, правовед, логик и математик Феликс Кауфман возглавлял Венское отделение крупной нефтяной компании. Социолог Альфред Шюц служил секретарем ассоциации малых банков. Фриц Махлуп был производителем картона; историк Фридрих Энгель-Яноши занимался производством паркета; Д. Г. Фюрт, позднее занявший место в Совете управляющих Федеральной резервной системы, и Вальтер Фройлих, позднее осевший в университете Маркетта, были практикующими юристами. При нормальном ходе событий ни один из них не стал бы штатным преподавателем университета, и лишь немногие имели опыт преподавания в университете до того, как покинули Вену. И все же для формирования общей системы знаний участие каждого из них было не менее важным, чем роль таких относительных профессионалов, как я, которому после четырех лет государственной службы посчастливилось стать директором экономического исследовательского института[60], или Оскар Моргенштерн[61], который вскоре после этого стал моим сотрудником, а позднее преемником на посту директора, или Хаберлер, о занятии которого я уже упоминал, или Розенштейн-Родан, занимавший должность ассистента в университете, и который вместе с Моргенштерном издавал «Zeitschrift fur Nationalokonomie». Легко представить, что дискуссии даже по проблемам прикладной экономической науки в этом кружке редко ограничивались вопросами чистой экономической теории. Через Кауфмана мы познакомились с правовым позитивизмом Кельзена и его группы; столь же важен был логический позитивизм Шлика и его кружка, и именно он преподал нам основы современной философии науки и символической логики. Через Шюца мы все познакомились с феноменологией Макса Вебера и Гуссерля (которую я так никогда и не смог понять, несмотря на уникальный преподавательский дар Кауфмана, помогавшего в этом деле Шюцу).
Относительная закрытость нашей группы в немалой степени объясняется обстоятельствами послевоенной жизни, которые принуждали к замкнутости и опоре исключительно на собственные ресурсы. Но, помимо особенностей времени, которые на несколько лет затруднили даже доступ к иностранной литературе, а заграничные поездки сделали почти невозможными, действовали и другие факторы. Сегодня, видимо, трудно даже представить, сколь скудными были личные контакты или обмен мыслями между учеными разных стран всего лишь пятьдесят или сорок лет тому назад. Я убежден, что, не считая обмена случайными письмами, из крупных экономистов, живущих в разных странах, в период перед Первой мировой войной очень немногие встречались друг с другом лично. Непосредственно перед войной было несколько робких попыток преодолеть эту разобщенность. Одной из таких попыток стал первый обмен профессорами между американскими и европейскими университетами; не лишен значения тот факт, что одним из первых, если не самым первым австрийцем, который участвовал в этой программе обмена, был Шумпетер, приехавший в 1913 г. в Гарвард. Я думаю, что во многом именно благодаря этому мы в Вене в первые послевоенные годы лучше знали труды американских теоретиков Джона Бейтса Кларка[62], Томаса Никсона Карвера, Ирвинга Фишера, Франка Феттера и Герберта Джозефа Давенпорта, чем работы любых других иностранных экономистов, за исключением, может быть, шведов. Довоенный визит в Вену Викселля вспоминали как большое событие, а сразу после войны Густав Кассель был самым знаменитым экономистом, который читал лекции и публиковал статьи во всех европейских странах – столь же переоцененный тогда, сколь недооцениваемый ныне. Но для нас он представлял небольшой интерес, хотя мы и были рады тому, что его упрощенная версия теории Вальраса вызвала в Германии оживление интереса к экономической теории.
Но вернемся на миг к довоенной ситуации. Насколько исключительно редкими были случаи общения между экономистами разных стран, особенно разных континентов, видно из сохранившегося у Визера яркого воспоминания о редком событии – о встрече, которую организовал в Швейцарии незадолго перед войной Фонд Карнеги для обсуждения запланированной серии публикаций. И я не могу здесь обойти случайную встречу Альфреда Маршалла с некоторыми австрийскими коллегами, о которой рассказывает в своих воспоминаниях г-жа Маршалл[63] и о которой я расскажу здесь так, как мне об этом рассказывал Визер, – даже если некоторые, может быть, уже слышали этот мой пересказ ранее. Семьи Маршалла и Визера некоторое время, полагаю, проводили летние отпуска в одной и той же деревушке в Южном Тироле, который тогда принадлежал Австрии. Они довольно скоро выяснили, кто их случайные соседи, но оба были довольно робкими людьми и не очень разговорчивыми, а потому не предпринимали попыток познакомиться. Однажды Бём-Баверк, в компании, думается, с еще одним представителем австрийской школы, приехал навестить своего шурина Визера и, будучи страстным и блистательным собеседником (порой он даже обижался на нежелание своего шурина вступать в обсуждение экономических проблем), воспользовался возможностью представиться Маршаллу, с которым переписывался и прежде. Г-жа Маршалл устроила чай, о котором она и вспоминает и который даже запечатлен на фотографии. По-видимому, все было очень приятно и дружественно. Но на следующий год и Визеры, и Маршаллы, не сговариваясь, выбрали другое место летнего отдыха, где могли работать без помех, не встречаясь с коллегами.
Раз речь зашла о знаменитых экономистах – мастерах поговорить, вы зададитесь вопросом, отчего я еще ни слова не сказал о Шумпетере, самом блистательном собеседнике среди знакомых мне экономистов, за исключением разве что Кейнса, с которым у Шумпетера было много общего, в том числе проказливый зуд pour epater le bourgeois[64], а также определенная претензия на всезнайство и склонность сильно преувеличивать свою исключительную эрудицию[65]. Что касается Шумпетера, дело в том, что, прожив после войны несколько лет в Вене, он практически не завел контактов с другими экономистами и почти не встречался даже с теми, с кем общался на семинаре Бём-Баверка. Конечно, каждый из нас знал две его довоенные книги и эссе о деньгах[66]. Но мы почти не встречались с ним, и некоторые его высказывания о текущих делах составили ему среди экономистов репутацию enfant terrible[67]. К тому же, на его беду, в тот краткий период, когда он в самый разгар инфляции[68] занимал пост министра финансов, ему пришлось подписать декрет, в соответствии с которым долги, сделанные в хороших полноценных кронах, могли быть законно погашены равным количеством обесцененных крон – то есть «Krone ist Krone», как говорили тогда, – и вышло так, что у среднего австрийца моего поколения лицо багровеет при одном упоминании имени Шумпетера. Потом он стал президентом одного из небольших венских банков, который процветал в период инфляции, но быстро разорился после стабилизации экономики, а потом Шумпетер вернулся к профессорской жизни в Бонне, в Германии. Я должен добавить: им восхищались и при этом недолюбливали люди его поколения и старше, а все, кто знаком с подробностями его отношения к пострадавшим от банкротства вкладчикам банка, с большим уважением отзываются о его поведении в этой ситуации.
Я лишь однажды встретился с ним в это время и расскажу об этом, поскольку причиной нашей встречи была программа возобновления и быстрого расширения международных связей. Чуть больше сорока лет назад я решил, что для честолюбивого экономиста крайне важно посетить США, как-то умудрился наскрести денег на это путешествие и почти заручился обещанием работы в случае, если я попаду-таки в Америку. Затем Визер попросил Шумпетера дать мне рекомендательные письма его друзьям в США. Так я оказался в его величественном кабинете – кабинеты президентов банков чем дальше на восток, тем грандиознее, и кабинету Шумпетера следовало бы располагаться в Бухаресте, а не в Вене, – и он снабдил меня пакетом максимально любезных рекомендательных писем ко всем крупным американским экономистам, настоящими посольскими верительными грамотами такого большого формата, что мне пришлось завести особую папку, чтобы они не помялись в пути. Эти письма оказались настоящими ключами к пещере сокровищ: возможно потому, что после войны я был первым экономистом из стран Центральной Европы, посетившим США, меня явно сверх всяких моих заслуг принимали такие экономисты, как Джон Бейтс Кларк, Селигмен, Сигер, Митчелл[69] и Г. Ф. Уиллис в Нью-Йорке, Т. Карвер в Гарварде (из-за краткости визита я не сумел встретиться с Тауссигом), Ирвинг Фишер в Йельском университете и Джейкоб Холландер в университете Джона Хопкинса. Именно благодаря этим рекомендательным письмам мне позволили выступить с завершающим докладом на последнем семинаре Дж. Б. Кларка – не о теоретических проблемах, а об экономической ситуации в Центральной Европе. И, наконец, когда мои надежды на получение работы не оправдались и мои небольшие средства иссякли, мне не пришлось мыть посуду в ресторане на Шестой авеню, в который меня уже приняли на работу, зато Джереми Дженкс из университета Нью-Йорка (точнее, из института Александра Гамильтона) нашел для меня место ассистента, что позволило мне посвятить свое время более интеллектуальным занятиям. Годом позже была предоставлена первая стипендия фонда Рокфеллера – по крайней мере первая для бывших врагов по войне – ив США хлынул все возрастающий поток европейских студентов, что и сделало такие контакты обыденными.
Должен признаться, что при моей увлеченности чисто теоретическими вопросами первое впечатление об экономической науке США оказалось разочаровывающим. Я быстро обнаружил, что великие имена, бывшие для меня родными, воспринимались моими американскими сверстниками как старомодные, что работа в намеченном ими направлении была прекращена, а имя Уэсли Клэра Митчелла, которым только и клялась тогда молодежь, было единственным, которого я не знал, пока не получил рекомендательного письма к нему от Шумпетера. Главными темами дискуссий были деловой цикл и институционализм. Именно в этот год был опубликован сборник под редакцией Рексфорда Гая Тагвелла[70] «Тенденции развития экономической науки» («The Trend of Economics»), претендовавший на роль программы институциональной школы. Первое, к чему принуждали заезжего экономиста, был визит в Новую школу социальных исследований, где требовалось выслушивать, как Торстейн Веблен саркастически и почти неразборчиво бормочет что-то перед группой восторженных пожилых дам – поразительно неприятное впечатление[71]. Похоже, что наиболее полезной и основательной из тогдашних дискуссий было обсуждение политики центрального банка, которое вращалось вокруг важного отчета Совета управляющих федерального резерва за 1923 г. Лозунгом тогдашних дискуссий, в рамках которого обсуждались все эти вопросы, была «стабилизация». Для меня так и осталось загадкой, каким образом стабилизация уровня цен или любого другого поддающегося измерению параметра может устранить воздействие тех разрушающих равновесие сил, которые исходят со стороны денег. Единственная статья, которую я написал в то время, была попыткой показать, что нельзя стабилизировать покупательную способность денег одновременно и внутри страны, и за рубежом. Я так и не опубликовал эту статью, потому что прежде чем я смог изложить ее на приличном английском, чтобы было не стыдно перед редактором, Кейнс выпустил свой «Трактат о денежной реформе»[72], в котором излагалась та же точка зрения. Мне кажется, что многих экономистов того времени этот трактат поразил совершенно новым подходом, хотя может показаться удивительным, сколь поздно до общего понимания доходят такие сравнительно простые вещи.
В то время все были зачарованы попытками экономических прогнозов, в особенности работами над созданием экономического барометра Гарвардской экономической службы; как бы сомнительно все это ни выглядело в ретроспективе, но знакомство с этими работами и с совокупностью методов обработки временных рядов экономических показателей было, как ни стыдно в этом признаваться, важнейшей – для профессиональной карьеры – практической частью добычи, с которой мы, экономисты, возвращались из США. Но было и существенное преимущество в том, что нам пришлось познакомиться с современными методами экономической статистики, которые тогда были еще совершенно неизвестны в Европе.
Не приходится сомневаться, что именно этот опыт посещения Америки подтолкнул меня и многих других к исследованию проблем взаимоотношений между денежной теорией и деловым циклом. Пожалуй, самым интересным исходным пунктом анализа служили ныне забытые, но тогда усиленно обсуждавшиеся теории «недопотребления» Фостера и Кэтчингса[73]. Но я счел эти работы, равно как и критические отклики на них (которые заслужили бы приз на самую злобную критику) удовлетворительными не более, чем результаты эмпирических работ Митчелла, которые ставили больше вопросов, чем давали ответов. Все это скорее отсылало меня назад к Викселлю и Мизесу, и побудило меня к попытке развить на заложенном ими фундаменте подробный анализ последовательных стадий делового цикла, в который мы все тогда еще верили. Именно над этим я работал большую часть тех семи лет, которые провел в Вене после возвращения из Америки. Когда я счел, что решение найдено, я набрался смелости опубликовать краткий очерк под названием «Цены и производство»[74]. Но вскоре мне стало ясно, что теория капитала, на которую я опирался, представляет собой чрезмерно упрощенную конструкцию для задуманной мной грандиозной надстройки. В результате большую часть следующего десятилетия я посвятил развитию более удовлетворительной теории капитала. Боюсь, что до сих пор эта часть экономической теории представляется мне наименее разработанной. Впрочем, я уже исчерпал время, отведенное на эту лекцию.
О второй половине 1920-х годов сказать особенно нечего. Может из за того, что я был главой научно исследовательского института, занимавшегося изучением делового цикла, мне представляется, что в центре общего внимания был американский экономический бум и гадания о том, сколько же он продлится. Репарационные платежи и проблема трансфертов были еще одной популярной у теоретиков темой, но я никогда особо не интересовался теорией международной торговли, и книга Хаберлера[75] вполне достойно подытоживает тогдашние дискуссии. Скорее всего, общие усилия теоретиков были направлены к интеграции различных школ. Мы в Вене были поглощены простым усвоением потока новых идей, которые шли отовсюду, в основном из Англии (одним из самых интересных авторов был Хоутри), однако все больше и больше из США.
Приложение
Джон Вейте Кларк (184 7—1938)[76]
Когда Джон Бейтс Кларк умер 23 марта 1938 г. в возрасте 91 года, для молодых экономистов по эту сторону Атлантики[77] он уже стал почти легендарной фигурой, а некоторым он представлялся кем-то вроде современного Бастиа, последним из верующих в естественную гармонию экономических сил. Здесь не место защищать его от этих ошибочных интерпретаций. А о его великом достижении в области экономической теории – о разработке и окончательном утверждении анализа с позиций предельной производительности, которые обеспечивают ему место в ряду основателей современной экономической теории, скажут будущие историки экономической мысли. Но мы все должны быть признательны светлой памяти Джона Бейтса Кларка – человека, одного из самых мудрых и добрых учителей своего поколения, что может подтвердить каждый, кто хорошо его знал в последние годы его преподавательской деятельности. Многие в долгу перед ним за благородное и дружелюбное руководство, с которым он направлял их первые шаги в науке. А для тех, кто не был с ним знаком, этот краткий очерк его жизни и деятельности даст живое представление об одной из действительно великих личностей нашей профессии.
Вероятно, будет кстати сделать небольшой вклад в биографию Дж. Б. Кларка, опубликовав следующее письмо, которое оказалось в моем распоряжении. Оно было написано вскоре после публикации книги покойного Роберта Цукеркандля – Zuckerkandl R. Theorie des Preises mit besonderer Berucksichtigung der Lehre. Leipzig: Stein, 1889, – и к нему был приложен номер журнала New Englander. Vol. 161. July 1881 со статьей Дж. Б. Кларка «Философия ценности».
Колледж Смита,
Нортгемптон, Массачусетс,
14 января 1890 г.
Дорогой сэр!
В данное время я получаю пользу и удовольствие от чтения Вашей замечательной книги «Теория цены». Я беру на себя смелость послать Вам мою раннюю публикацию о ценности. В момент ее выхода в 1881 г. я был молодым преподавателем в одном из наших западных колледжей; и я действительно был уверен, что я первым открыл принцип, сформулированный в этой статье. Это исследование было написано задолго до его публикации.
Искренне Ваш
Б. Кларк
Г-ну д-ру Роберту Цукеркандлю
Вена
P.S. Особенное удовольствие доставляет мне возможность воздать должное выдающимся мыслителям, главным образом австрийцам, которые в этой области опередили меня и продвинулись в своем исследовании гораздо дальше.
Можно добавить, что, несмотря на хорошо известные споры по поводу теории капитала, личные отношения между Дж. Б. Кларком и австрийской школой, которые установились как раз перед войной, были самыми сердечными и что по крайней мере некоторые представители второго и третьего поколения австрийской школы обязаны учению Дж. Б. Кларка почти в столь же большой степени, что и своим учителям.
Приложение
Уэсли Клэр Митчелл (1874–1948)[78]
Со смертью Уэсли Клэра Митчелла в возрасте 74 лет американская экономическая наука утратила одного из самых выдающихся и, пожалуй, наиболее характерного для нее ученого. Помимо важного вклада в решение отдельных проблем, он, быть может, больше любого другого экономиста своего поколения участвовал в формировании того общего подхода к предмету, который в последние 30 лет[79] отличал ученых США.
Митчелл получил ортодоксальное классическое образование в Чикаго под руководством Д. Л. Лафлина, но вскоре попал под влияние Торстейна Веблена и Джона Дьюи. Хотя он внимательно следил за новыми веяниями в развитии современной экономической теории и его лекции по большей части были посвящены рассмотрению этого развития, сам он невысоко оценивал полезность этой теории и посвящал свои силы разработке другого подхода, который представлялся ему более соответствующим духу эмпирической науки и идеи которого он во многом почерпнул у Веблена, Дьюи и ученых немецкой исторической школы. Его усилиям больше, чем чему-либо другому, обязана своим формированием и возвышением «институциональная» школа экономической теории, оплотом которой в 1920-х годах стал Колумбийский университет, где Митчелл преподавал с 1914 года, и которая в 1930-х годах оказала огромное влияние на экономическую политику президента Рузвельта.
Исследования Митчелла были посвящены почти исключительно проблемам, лежащим на границе между экономической теорией и статистикой. После двух исследований истории денежного обращения в период «гринбеков», опубликованных в 1903 и 1908 г. он обратился к исследованиям колебаний деловой активности и в 1913 г. опубликовал фундаментальный труд о деловых циклах[80], который вскоре стал классическим и в следующие двадцать лет оказывал влияние на развитие в этой области больше, чем любая другая работа. Эта тема осталась предметом основного интереса Митчелла, и ей он посвятил большую часть своих формальных работ. Дальнейший вклад Митчелла в эту область представлен как его собственными последующими публикациями, так и работами преданной группы его учеников и сотрудников, которых он вдохновлял и поддерживал, а также деятельностью созданной им исследовательской организации. Находящееся в Нью-Йорке Национальное бюро экономических исследований, которое он основал после Первой [мировой] войны, является, по-видимому, наилучшим среди аналогичных заведений. Митчелл не только руководил всей деятельностью этой организации на протяжении 25 лет, но и лично взял на себя особую ответственность за серию специальных исследований делового цикла, которые должны были развить и уточнить сделанное им прежде посредством более подробных обследований проблемы циклических колебаний в целом. Первый том этой большой работы появился в серии публикаций бюро в 192 7 г. под названием «Business Cycles: The Problem and its Setting»[81]. Второй том под названием «Measuring Business Cycles»[82], написанный в соавторстве с д-ром А. Ф. Бернсом, который позднее сменил его на посту директора бюро, появился только в 1946 г. Следующий том, который должен был подытожить основной вывод четвертьвекового труда в этой области, был, как говорят, практически завершен незадолго до смерти Митчелла[83].