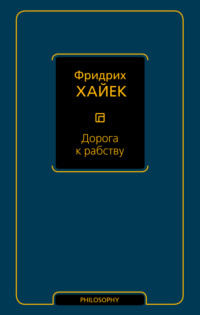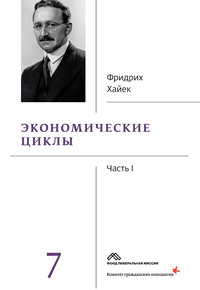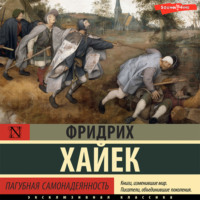Полная версия
Судьбы либерализма в XX веке
Следует также отметить, что позднейшее акцентирование Хайеком эволюции и стихийного порядка не разделялось Мизесом, но элементы продвижения в этом направлении встречались у Менгера. Ключом к этому различию может быть утверждение Хайека, что «Мизес был в гораздо большей степени наследником рационалистической традиции Просвещения и континентального либерализма, чем английского… в отличие от меня»[23]. У Хайека часты ссылки на два типа либерализма: континентальный либерализм, или утилитаристская традиция, которая подчеркивает рациональность и способность человека изменять свое окружение, и английская традиция прецедентного права, которая акцентирует стихийные силы эволюции и ограниченность разума. Как писал Хайек в 1978 г., спустя пять лет после смерти Мизеса: «Я, в частности, не согласен с утверждением Мизеса, которое изложено в главе 33 (параграф 2). У меня всегда возникали проблемы с этим основным философским утверждением, но только сейчас я в состоянии сформулировать природу этих проблем. Мизес утверждает в этом отрывке, что либерализм „рассматривает все виды общественного сотрудничества как эманацию разумно понимаемой пользы, когда всякая власть базируется на общественном мнении, а потому невозможны действия, способные помешать свободному принятию решений мыслящим человеком**[24]. Сегодня я полагаю, что неверна только первая часть этого утверждения. Крайний рационализм этого утверждения, которого Мизес как истинное дитя своего времени не мог избежать и с которым он, возможно, так и не расстался, теперь мне представляется совершенным заблуждением. Бесспорно, что рыночная экономика стала преобладающей формой не в силу разумного понимания ее выгод. Мне представляется, что основное в учении Мизеса – это демонстрация того, что мы приняли свободу не потому, что поняли, какие выгоды она могла бы принести; что мы не изобрели и, конечно же, не были достаточно умны, чтобы изобрести тот строй жизни, который начали слегка понимать только спустя долгое время после того, как увидели его действие. Человек сделал выбор в пользу него только в том смысле, что он научился отдавать предпочтение чему-то из уже существовавшего, а по мере того, как росло понимание, он смог и усовершенствовать условия своей деятельности» (с. 174).
Хайек опасается, что «крайний рационализм» континентального подхода ведет к тому, что он называет «ошибкой конструктивизма», – к представлению, что никакой социальный институт не может быть благотворен, если он не является результатом сознательного проекта. Ему представляется, что именно это составляет основу социалистического понимания: поскольку рынки никем не созданы, сознательно созданная искусственная система, навязанная, как водится, сверху, сможет функционировать лучше, чем естественная и децентрализованная[25].
В результате современная австрийская школа вполне могла расколоться на противостоящие лагеря: «твердых мизесовцев», являющихся «социальными рационалистами» и «крайними априористами», и «хайековцев», которые подчеркивают стихийность социального порядка и ограничения рациональности. (Существует также и третья группа – «радикальных субъективистов», которые следуют за Дж. Л. С. Шэклом и Людвигом Лахманном, отрицая возможность какого бы то пи было экономического порядка). Различия между этими группами сохраняются, а природа взаимоотношений между Мизесом и Хайеком так до конца и не понята. Остается добавить, что будущее покажет, какое влияние все это окажет на жизнеспособность школы.
1871 год, когда Менгер опубликовал свои «Основания» и на свет появилась австрийская школа, примечателен и другим: в том самом году Бисмарк создал Германский рейх. Хайека глубоко интересовала судьба Германии после Второй мировой войны; он был убежден, что перспективы возрождения либерализма в международном масштабе решающим образом зависят от восстановления интеллектуальной жизни в Германии. Эссе, расположенные в части II, посвящены как раз этим вопросам.
Хайек был убежден в необходимости международной научной организации либералов, и ради этого в 1947 г. он организовал конференцию, которая заложила основы общества Мон-Пелерен. Частично его озабоченность объясняется той ролью, которую играли экономисты во время войны. Впервые в истории большое число профессиональных экономистов вошло в состав правительственных органов планирования: регулировать цены, как это делало в США Управление по ценам, возглавлявшееся Леоном Хендерсоном, а потом – Джоном Кеннетом Гэлбрейтом; либо изучать военное снабжение (позднее это стало известно как «исследование операций»), чем занималась группа статистических исследований Колумбийского университета; либо оказывать всевозможные консультационные услуги. Все это было совершенно беспрецедентно и очень встревожило либералов. (Хайек хотя и получил британское гражданство, но как австриец по рождению не был допущен к соответствующим работам.)
Интеллектуальный климат этого периода легко представить по реакции экономистов на решение министра Людвига Эрхарда освободить цены и заработную плату в только что созданной Западной Германии. Гэлбрейт в 1948 г. уверял коллег, что «нет ни малейшей возможности обеспечить восстановление Германии с помощью полной отмены [контроля и регулирования]». Уолтер Геллер, позднее ставший председателем Совета экономических экспертов при Джоне Кеннеди, двумя годами позже добавил, что «позитивное использование [поддерживаемых мною] мер фискальной и денежной политики не гармонирует, строго говоря, с ортодоксальной политикой свободных рынков, которую выбрала нынешняя администрация Федеративной Республики Германия»[26]. Хайек приводит воспоминания самого Эрхарда: «Он сам с ликованием рассказывал мне, как в воскресенье перед публикацией знаменитого декрета об освобождении цен и введении новой немецкой марки командующий американскими войсками в Германии генерал Клэй позвонил ему и сказал: «Профессор Эрхард, мои советники утверждают, что вы совершаете грандиозную ошибку», – на что Эрхард, по его собственным словам, ответил: «Мои советники говорят то же самое»» (с. 230)[27].
Для противодействия всему этому Хайек собрал на первую встречу на Мон-Пелерен замечательную группу либералов, большей частью людей, работавших в изоляции. Группа включала международно известных ученых в области экономической теории, политологии, философии (четверо из экономистов, участвовавших в этой первой встрече, позднее были удостоены Нобелевской премии); двое из участников – Вальтер Ойкен и Вильгельм Рёпке – были одними из главных архитекторов послевоенного немецкого экономического чуда. Задачей Хайека было создать условия для процветания либеральных тенденций в науке в надежде на то, что это привлечет общественное мнение. «Ведь настоящую проблему представляет распространенная иллюзия, будто свобода может быть предоставлена сверху, тогда как сверху можно лишь создать условия, которые позволили бы людям творить собственную судьбу» (с. 226).
Влияние Хайека оказалось глубоким и длительным: созданное им общество по-прежнему существует, а кроме этого были основаны и другие организации со схожими целями, особенно после начала возрождения австрийской школы. К этим организациям принадлежат Институт экономических дел в Лондоне; Институт гуманитарных исследований в Университете Джорджа Мейсона (Фэрфакс, штат Виргиния); Институт Катона в Вашингтоне, округ Колумбия; Институт Людвига фон Мизеса в Оберне, штат Алабама. Все эти группы внесли решающий вклад в возрождение либеральной мысли в США и в Европе.
Нам не нужно другого доказательства либерального возрождения, чем включение бывшей Восточной Германии в 1989 г. в состав Западной Германии; для Восточной Германии это было «новым открытием свободы», то, возникновению чего за 40 лет до этого в Западной Германии помог Хайек. И хотя было бы дерзостью называть Хайека пророком, главы 8, 10 и 11 содержат немало высказываний о природе немцев и германского народа, которые верны и поныне.
Как-то Хайек одобрительно процитировал знаменитый пассаж из «Общей теории» Кейнса о влиянии абстрактных идей на реальный ход дел. «И верные и ошибочные идеи экономистов и политических философов гораздо могущественнее, чем принято думать. Наделе мир подчиняется почти исключительно им»[28]. Собранные в настоящем издании тексты Хайека немало делают для подтверждения этой истины.
Питер Д. Клейн
Часть I Австрийская экономическая школа
Пролог Состояние экономической теории в 1920-е годы: взгляд из Вены[29]
Хотя мне кажется, что организаторы этой лекции желали, чтобы я пустился в воспоминания, до сих пор я сознательно выбирал темы, которые были тому помехой. Заводить такую привычку опасно, и непонятно, на чем остановиться, когда обнаруживаешь, что большей части аудитории воспоминания лектора неизвестны и неинтересны. Сам я в прошлом был не самым терпеливым слушателем подобных мемуаров и сейчас даже сожалею, что в свое первое посещение этой страны, 40 лет назад, мне не хватило ума выслушать и расспросить старого биржевого брокера, который, обнаружив мой интерес к экономическим кризисам, все говорил и говорил о кризисе 1873 г. – а я счел его занудой. Не знаю, с чего бы мне ждать, что вы будете терпеливей меня в свое время, тем более что мне по собственному опыту известно: стоит лишь дать себе волю, и вырываются всевозможные мемуары, которые проливают свет скорее на тщеславие рассказчика, чем на предметы более широкого интереса.
С другой стороны, как исследователь истории экономической мысли я зачастую тратил немало сил в тщетных попытках воссоздать интеллектуальную атмосферу прежних дискуссий, желая, чтобы участники этих споров оставляли хоть какие-нибудь сведения о своих отношениях с современниками, и, в частности, чтобы они делали это в том возрасте, когда их свидетельства еще достоверны. Теперь, стоя перед вами с намерением исполнить именно эту задачу, я хорошо понимаю, почему люди большей частью ее избегают; боюсь, что в такой попытке человек становится несколько эгоцентричным, и, если вам покажется, что я чрезмерно много говорю о собственном опыте, прошу вас помнить: в том, что я говорю обо всем этом, и состоит единственное (хоть, может, и недостаточное) оправдание моих речей. Не сомневаюсь, что, если мне когда-либо случится готовить эти лекции для публикации, все эти беседы придется сильно сократить. Но, в конце концов, это устное вступление – во многом всего лишь попытка поговорить со старыми друзьями, так что я дам себе волю.
Венский университет, когда я совсем молодым поступил туда в конце 1918 г., прямо с войны, и особенно экономическое отделение факультета права, был на редкость кипучим местом. Пусть материальные условия жизни были чрезвычайно трудны, а политическая ситуация весьма неопределенна, – поначалу все это мало влияло на интеллектуальный уровень, сохранившийся с довоенного времени. Здесь я не стану рассматривать вопрос о том, почему Венский университет, который до 1860-х годов был ничем не примечательным заведением, затем на 60–70 лет стал одним из наиболее интеллектуально продуктивных в мире, дав жизнь множеству всемирно известных научных школ в области философии и психологии, права и экономической теории, антропологии и лингвистики (если считать только школы, родственные нашей сегодняшней теме). Мне и самому непонятно, чем это объясняется и можно ли вообще объяснить подобные явления исчерпывающим образом. Достаточно отметить, что период интеллектуального расцвета в точности совпал с победой политического либерализма в этой части мира и ненадолго пережил господство либеральной мысли.
Возможно, сразу после окончания Первой [мировой] войны интеллектуальное брожение среди молодежи было даже сильнее довоенного, несмотря на то что некоторые крупные фигуры довоенного времени уже ушли и в рядах преподавательского состава, по крайней мере первое время, зияли заметные бреши. Отчасти это объясняется тем, что (как стало очевидно после Второй мировой войны) студенчество было более зрелым, а отчасти тем, что военные и первые послевоенные испытания породили острый интерес к социально-политическим проблемам. Хотя некоторые из тех, кто был постарше, стремились как можно быстрее завершить курс обучения, у молодежи годы, потерянные на службу в армии, породили скорее необычное стремление полностью использовать возможности, которые они так давно предвкушали.
Многие вопросы и проблемы, которые так горячо обсуждались в Вене, оказались в центре внимания западного мира чуть позже – отчасти, разумеется, из-за обстоятельств того времени, – и вышло, что в ходе моих скитаний у меня нередко возникало чувство, что «я здесь уже был»[30]. Темы наших дискуссий в значительной степени были предопределены близостью коммунистической революции – в Будапеште, до которого было рукой подать, несколько месяцев хозяйничало коммунистическое правительство, в котором важную роль играли интеллектуальные лидеры марксизма, позднее нашедшие прибежище в Вене, – а также неожиданный академический престиж марксизма, быстрое распространение того, что со временем стали называть «государством благосостояния», концепция «плановой экономики», тогда еще новая, но прежде всего опыт инфляции, какого не помнил ни один житель Европы. В то время в Вене уже набрал силу ряд чисто интеллектуальных течений, позднее покоривших западный мир. Я упомяну лишь психоанализ и зарождение традиции логического позитивизма, которая господствовала во всех философских дискуссиях.
Впрочем, мне следует сосредоточиться на развитии экономической теории. Пожалуй, наиболее удивительное обстоятельство состоит в том, что на фоне острейших практических проблем в центре интереса в Венском университете оказалась чистая экономическая теория. В этом явно сказалось влияние маржиналистской революции[31], которая произошла в общем-то незадолго до времени, о котором я сейчас веду речь. Из великих деятелей этой революции все еще работал лишь Визер[32]. И Бём-Баверк[33], и Филиппович – двое самых влиятельных университетских преподавателей предвоенного периода (первый в сфере теории, а второй в основном в сфере экономической политики) – безвременно скончались во время войны. Карл Менгер[34] еще был жив, но он был глубоким стариком и вышел в отставку пятнадцатью годами ранее и на публике появлялся лишь изредка. Для нас, молодых, он был скорее мифом, чем реальностью, тем более что и книга его[35], исчезнувшая даже из библиотек, стала огромной, почти недоступной редкостью. Среди тех, с кем мы сталкивались, немногие имели прямой доступ к нему. Старшекурсники были переполнены живыми воспоминаниями о семинарах Бём-Баверка, которые в предвоенные годы, несомненно, собирали всех, интересовавшихся экономической теорией. Наши ровесницы, напротив, были полны впечатлений о Максе Вебере, который читал семестровый курс в Вене как раз перед окончанием войны, когда мы, мужчины, еще не вернулись с фронта.
Визер, последняя живая связь с великим прошлым, большинству из нас казался надменным и недосягаемым господином. В то время он только что вернулся в университет с поста министра торговли в одном из последних правительств империи. Он читал лекции, опираясь на свою изданную перед самой войной «Теорию общественного хозяйства»[36], которую, кажется, знал наизусть, – единственный систематический трактат по экономической теории, созданный австрийской школой[37]. Лекции были несколько суховатым, но внушительным и эстетически приемлемым действом, рассчитанным по большей части на будущих юристов, для которых этот обзор экономической теории стал бы единственным их прикосновением к предмету. Лишь тем, кто, собрав в кулак все свое мужество, отваживался после лекции приблизиться к величественной фигуре, удавалось обнаружить бездну дружелюбия и благожелательности, а также получить приглашение на его малый семинар или даже на домашний обед.
Вначале у нас были два других постоянных преподавателя экономической теории: марксист, занимавшийся историей экономики[38], и молодой, склонный к философствованию профессор Отмар Шпанн, который вначале вызвал у студентов прилив энтузиазма. Ему было что сказать о логике взаимосвязи между целями и средствами, но вскоре он перебрался в область философии, которая большинству из нас казалась совершенно чуждой экономической теории. Но его небольшой учебник по истории экономической мысли[39], который считали слепком менгеровских лекций, для большинства из нас был первым вводным курсом в эту область.
Хотя в области политических и экономических наук только что были учреждены ученые степени, большинство из нас все еще ориентировалось на степень в юриспруденции, для получения которой требовалось очень незначительное знакомство с экономической теорией, так что профессиональные экономические знания приходилось добывать самостоятельным чтением, а также из лекций тех, кто читал их в свободное время из любви к предмету. Важнейшим среди таких курсов был курс Людвига фон Мизеса[40], но лично я познакомился с ним относительно поздно и расскажу о нем потом.
Здесь я должен сказать несколько слов об особенностях организации университетов в Центральной Европе, особенно в Австрии. Специфику структуры австрийского университета обычно мало кто понимает, хотя она – при всех своих недостатках – сыграла важную роль в сплочении штатных университетских профессоров и любителей в лучшем смысле этого слова, что было столь характерно для атмосферы Вены. Число штатных преподавателей университета (профессоров и адъюнкт-профессоров) всегда было невелико, и эти должности получали обычно уже в сравнительно немолодом возрасте, как правило – после сорока или даже пятидесяти лет. Но, чтобы получить право на такое назначение, следовало сначала, обычно через несколько лет после защиты докторской степени, получить лицензию на преподавание в качестве приват-доцента, которому не полагалось никакого жалованья, кроме доли в той весьма незначительной плате, которую взимали со студентов за прослушивание конкретных курсов. В естественных науках, где исследования можно вести только в специальных институтах, приват-доценты обычно занимали оплачиваемые должности ассистентов, что позволяло им целиком посвятить себя научной работе. Но во всех неэкспериментальных областях, таких как математика, право и экономика, история, филология и философия, таких возможностей не было. До Первой мировой войны академическая среда пополнялась, как правило, выходцами из класса с независимым доходом, которого почти все они лишились в ходе великой инфляции, так что единственный выход состоял в том, чтобы зарабатывать на жизнь чем-то другим, а свободное время посвящать исследованиям и – немного – преподаванию. На юридических факультетах, к которым, как вы помните, относилась и экономическая наука, обычным выбором было место государственного служащего либо, что еще привлекательнее, служба в торговых или промышленных компаниях, либо юридическая практика; в области изящных искусств было распространено преподавание в средних школах – чтобы пересидеть время, пока не удастся достичь вожделенной профессорской должности, если это вообще удастся – приват-доцентов всегда было намного больше, чем профессоров. Видимо, больше половины тех, кто стремился к академической карьере, так и оставались на всю жизнь внештатными преподавателями, которые учили всему, чему им хотелось, но практически ничего за это не получали. Постороннего наблюдателя, особенно иностранца, сбивало с толку то, что спустя несколько лет приват-доцентов также стали именовать профессорами, но это никак не изменило их положения. Правда, в некоторых профессиях, таких как медицина и право, престиж титула мог иметь немалое значение, и, получив право именовать себя «профессором», врач или адвокат получали возможность резко повысить свои гонорары. Зигмунд Фрейд, например, был профессором Венского университета единственно в этом смысле. Это не значит, конечно, что некоторые из этих людей не обладали столь же большим влиянием, как штатные профессора. Еженедельные два-три часа лекций или ведение семинаров позволяли порой одаренному педагогу оказывать большее влияние, чем штатные преподаватели – хотя монополия последних на прием аттестационных экзаменов серьезно ограничивала влияние внештатников.
Во всяком случае, для юристов и экономистов эта система была благотворна не только тем, что все университетские преподаватели приобретали изрядный опыт практической работы, но и тем, что она обеспечивала тесные связи между академической средой и практической деятельностью. Очень многие из наиболее одаренных выпускников, не сумевших получить степень приват-доцента сразу, не исключали для себя возможность такой карьеры в будущем и посвящали некоторое время научным исследованиям, что служило сохранению традиции Privatgelehrte, частного ученого, которая в XIX в. играла значительную роль, в Австрии, может, и не такую огромную, как в Англии, но все же некоторым образом значимую. В нашей области интересным примером из 1880-х годов является одна из лучших австрийских работ по математической экономике, «Теория цены» Рудольфа Аушпица и Рихарда Либена[41], из которых первый был сахарным фабрикантом, а второй – банкиром. Несколько подобных фигур было и после Первой [мировой] войны, и по крайней мере один из них – финансист Карл Шлезингер, написавший интересное исследование о деньгах[42] и придумавший термин «олигополия» – постоянно принимал участие в наших дискуссиях. Несколько крупных чиновников и промышленников, ранее сделавших себе имя в экономической науке, в эти неспокойные послевоенные годы были слишком заняты и погружаться в науку могли лишь урывками.
По моим наблюдениям, эти непрофессионалы, посторонние для академических кругов, всегда составляли большинство на заседаниях небольшого неформального венского клуба «Nationalokonomische Gesellschaft»[43], который с трудом пережил войну и возродился в мирное время как главная арена дискуссий по насущным экономическим проблемам. Хотя он и был единственным местом, где пять – шесть раз в год могли встречаться и обсуждать проблемы молодые и старые, академические ученые и практики, для нас, молодых, куда важнее были другие возможности более регулярно дискутировать вне стен университета. На протяжении большей части межвоенных лет важнейшим центром был так называемый частный семинар Мизеса (Priv at seminar), хотя он, в сущности, стоял совершенно вне университетской жизни. Проводившиеся раз в две недели по вечерам в кабинете Мизеса в Торговой палате, эти встречи неизменно завершались глубокой ночью в какой-нибудь кофейне. Должно быть, эти частные семинары начались в 1922 г. и закончились, когда в 1934 г. Мизес покинул Вену – точнее сказать не могу, потому что меня не было в Вене ни при начале, ни при конце семинара[44]. Но с 1924 по 1931 г., благодаря тому, что Мизес нашел мне и Хаберлеру работу в этом же здании, и Хаберлер в должности помощника библиотекаря продолжил начатую Мизесом работу по превращению библиотеки Торговой палаты в лучшую экономическую библиотеку Вены, здание Торговой палаты и проводившиеся там семинары были по меньшей мере столь же важным центром экономических дискуссий, как и сам Венский университет.
Три-четыре обстоятельства придавали особенный интерес этим дискуссиям в кружке Мизеса. Мизес, естественно, не меньше любого другого интересовался базовыми проблемами анализа с позиций предельной полезности, вокруг чего вращались почти все дискуссии и в университете. Но такие вопросы, как согласование анализа предельной полезности с теорией вменения полезности, что, кстати говоря, было главным предметом моего интереса в начале 1920-х годов, или другие тонкие проблемы маржиналистского подхода, вроде разбираемых Розенштейном-Роданом в его статье о Grenznutzen (предельной полезности) в «Handworterbuchder Staatswissenschaften»[45], уже не привлекали столь пристального интереса в университете, как это было во времена Визера или его преемника Ганса Майера. Во-первых, Мизес уже в 1912 г. опубликовал свою «Теорию денег»[46], и я едва ли преувеличу, сказав, что в период великой инфляции он единственный в Вене, а может быть, и во всем немецкоязычном мире, действительно понимал, что происходит. В этой книге он также представил и развил некоторые идеи Викселля[47], чем заложил основу для теории кризисов и депрессий. Позднее, сразу же после окончания войны, он опубликовал малоизвестную, но чрезвычайно интересную книгу на стыке экономики, политики и социологии[48] и уже готовил к изданию выдающийся трактат «Социализм»[49], который, подняв проблему возможности рационального экономического расчета в отсутствие рынков, поставил одну из основных проблем дискуссий того времени[50]. Он был фактически единственным (по крайней мере среди людей своего поколения, поскольку в предыдущем поколении было несколько людей вроде Густава Касселя, к которым это также относится), кто демонстрировал готовность до конца защищать принципы свободного рынка. И даже в то время страстный интерес к тому, что мы теперь называем либертарианскими принципами, соединялся у него с интересом к методологическим и философским основаниям экономической теории, что стало столь характерным для его поздних работ. Именно последнее обстоятельство так привлекало к семинарам Мизеса тех, кто не только не разделял его политические позиции, но и не интересовался техническими аспектами экономической теории. Особый характер этим дискуссиям сообщало постоянное присутствие на них таких людей, как Феликс Кауфман, который был по преимуществу философом, или социолог Альфред Шюц, а также ряд других, о которых я еще буду говорить.