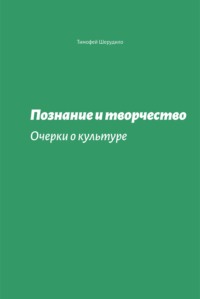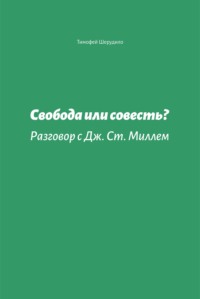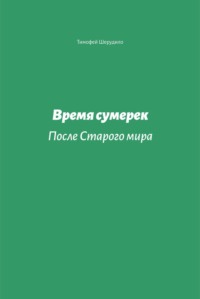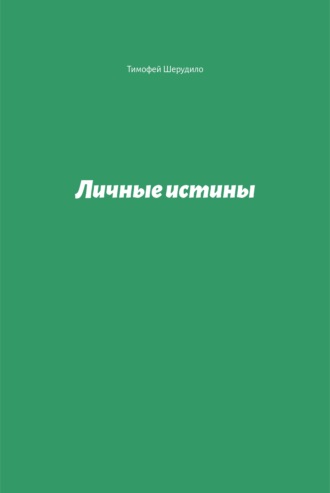 полная версия
полная версияЛичные истины
***
Наука наших дней часто смешивает орудие действия с деятелем (как и признак действия – с действием). «У топора есть свойство рубить деревья». Нокто же всё-таки рубит деревья? «Этот вопрос – проявление темноты и невежества», отвечает наука. Деятель найден – чего же еще беспокоиться?
***
Ученый не может иметь мировоззрения, но только свою науку. «Зачем мне мировоззрение, когда у меня есть факты?» Право иметь систему взглядов оставляется нашим неразумным предкам; мы же с благоговением принимаем факты, как некоторые дары небес. Я говорил об этом много раз, и – если бы мог быть услышан – заслужил бы прозвище «ретрограда» и «врага просвещения». Но дело ведь не в том, что некий писатель, по непросвещенности своей, нападает на науку, а в действительно трагическом положении слепой водительницы слепых, которое эта наука заняла.
***
Ставка на разврат, какую делает наше время, безошибочна, но успех ее лишь на краткое время. Когда соитие перестанет быть радостью влюбленных и сделается приправой к сытной еде и вкусному питью, массы позна́ют усталость, пресыщенность и томление… Сладко лишь пояданиезапретного; с исчезновением запрета уйдет и сладость, и само желание. «Нарушение запретов», это излюбленное лакомство современности, скоро потеряет свой вкус, потому что запретное исчезнет. К нарушению каких заповедей будут призывать защитники «прав и свобод», когда запретное станет повседневным?
***
Ужасно то, что сила добра как будто совсем иссякла в мире. Есть только сила зла – или безразличие к нему, готовое подчиниться чему угодно, только бы оно было «популярно» и «современно». Намне к чему прилепиться душой; нет такого дела, которому мы могли бы желать победы; нет другого добра, кроме того, что теплится в нас самих; вокруг – непроглядная ночь… Мы можем только отвращаться, отрицать, не принимать – но ни на что не можем смотреть с надеждой…
***
Когда поверхностный ум хочет казаться глубоким, он вместомаленьких радостей (на которые только и смотрит обычно) обращает свой взгляд на внешнюю трагичность жизни, не желая, однако, при этом замечать ее внутреннего смысла. Приосанясь, он говорит примерно так: «Да, солнце сверкает, воды плещут, и всё же под этим обманчивым покровом таится гибель. Как это прискорбно!! Будем же радоваться и веселиться, помня о том, как всё бессмысленно и ужасно!» Как можно видеть, эти потуги на глубокомыслие мало говорят не только об уме, но и о простом здравом смысле. Если жизнь «бессмысленна и ужасна», то зачем жить? Что это за радость? Или к радости идиота (который только и может плясать на кладбище) и сводится всё это глубокомыслие? А ведь оно весьма распространено на современном Западе – в странах, где дух гордости, противохристианства и гуманизма (читай самобожия) победил вполне. Там, в сущности, вполне восстановился дух прежнего самодовольного, миродержавного и богооставленного Рима. Это любопытно: по мере того, как христианская прививка отторгалась европейским стволом, всё яснее и яснее выступали в нем черты старого Рима, вплоть до (это уже черта современности) гладиаторов и алчущего развлечений плебса… Как будто, освободившись от христианского бремени, народы Запада свернули на естественную и знакомую им дорогу. Не зря Достоевский видел в социализме только новейшее переложение римской идеи. Либо человек поклоняется себе, либо Тому, Кто всех выше. Первый путь есть путь Рима, на него же и вернулись европейские народы. Христианство – надо признать – дало Европе меньше, чем Imperium, и вот теперь Христос ушел, а Рим – остался.
***
Цветок европейско-христианской культуры вырос на почве, как это ни странно, определенной неспособности западно-европейцев к христианству, да и религии вообще. Христианство в Европе с самого начала было осложнено разумом, т. е. потребностью в рассуждении. С самого начала европейцы хотели не «верить», но «разумно убеждаться». Не случайно, что римлянам, чтобы уверовать, понадобились подвиги мучеников – своего рода доказательство силы, которое они только и могли принять. Как говорил предтеча новейшего европейства Цельс в своем трактате против христианства, «и что это за народ, который никогда и никого не завоевал вооруженной силой, но смеет учить других своей вере?» Люди, которых нужнотак убеждать в истинах проповедуемой религии, не очень-то доверяют проповеди, и вообще духу. Вера в Европе потому была так плодотворна, что всегда сопрягалась с началом, ей несродным – с острой и самоуверенной мыслью; до тех пор, пока мысль не пожелала исключительной власти и не освободилась от веры и всяких понятий об авторитете за пределами собственного разума…
В Европе христианство достигло наибольшей силы, но это была сила сочетания несогласимых начал, сила надлома. Да и если присмотреться:где сделало наибольшие успехи христианство в Европе? В общежитии, в государстве. Но ведь христианство по существу своему внутренно и неотмирно – и что же значат его внешние успехи? Что-то было неладно с самого начала в обществе, которое христианство приняло за путь к улучшению жизни на земле. Гуманизм и самобожие – только итоги бывшего изначально намерения крепко и своими силами, хотя бы и с надеждой на благодать, устроиться на земле. «В Европе христианство, – говорят, – принесло богатейшие плоды». Но чьи это плоды: христианства или почвы, его воспринявшей? И если почвы – то что значит загадочное «отставание» христианского Востока, и просто нежелание всего остального мира идти по пути совершенствования земной, исключительно земной жизни? До сих пор эти вопросы задавались тем реже, чем больше был видимый земной успех Европы; но теперь, когда неудача Запада становится явственна – как не спрашивать?
Очень скоро, может быть – в нескольких поколениях, мнение Запада перестанет быть принуждающей силой для народов. Европа, которая на протяжении 300 лет давала мируответы, сама станет вопросом. И все наши нынешние предрассудки, как, например: «быть современным – значит думать и поступать, как человек Запада» – эти предрассудки падут, и нам придется учиться думать самим, не оглядываясь на Европу. Вам это кажется невозможным? Но Бог и история только и делают, что доказывают невозможное; будущее есть то, что нам кажется невозможным.
***
«Этнографическая» точка зрения на обряд, свойственная нашим дням – сугубая ложь. «Человек, – говорит этнография, – видит в обряде способ воздействовать на природу…» Совсем не так! Обряд есть зримый образ космического Закона, как и (более поздняя по происхождению) греческая трагедия. Участникам обряда дается просветление (как и зрителям трагедии), п. ч. они направили свои души с частных и случайных путей на путь закона… Здесь совсем, совсем не то, что видит разнимающее мышление. В обряде человек не пытаетсянавязать свои пути природе, но, совсем напротив, желает выйти на пути природы и того, что выше природы – на пути Бога. Обряд – путь не обособления, но слияния. Трагедия человеческой жизни во все времена есть трагедия оторванности от мирового Закона. «Зачем душа поет не то, что море, и ропщет мыслящий тростник?» Обряд, начиная с самого первобытного, есть путь к слиянию с этим высшим единством. То, что современность так предельно далека и от обряда, и от мысли о слиянии с высшим – т. е. не о гибели, самоуничтожении ради мертвого «высшего», как учил Л. Толстой, а о жизни на путях, указанных высшим, – говорит о ее оставленности, бедности, положении, достойном всякого сожаления. Если современный человек и признаёт внешние, случайные обстоятельства жизни, ее «мышью беготню» за существо жизни вообще; если он и думает, что «вселенная есть ничто и еще немножко сверх того» – этого удалось добиться только ценой насилия над его душой. Тягу к общности, к единству, к включению души в космический круговорот целей и смыслов можно только временно подавить, но нельзя уничтожить до конца. Предложите человеку землю – и он потребует небо; предложите ему небо – и он не сможет жить без земли, и всё потому, что алчет цельности и включения в мировое единство.
***
Протестантизм – не просто ступень в развитии христианства, но и в значительной мере явление послехристианской жизни. Протестантское (по меньшей мере, учеников Кальвина) отношение к труду никоим образом не может быть выведено из Евангелия. Евангелие знает труд в силу необходимости: «а если не хочешь трудиться – не ешь», как это выразил апостол Павел. Протестантство делает труд самоцелью – всё новейшее техническое процветание западного мира выросло на этой почве. Я не скажу ничего нового, если замечу, что кальвинизм, в сущности, приложил огромные усилия квыведению Бога из мира. «Трудись, упорно, отчаянно трудись. Бог не смотрит на тебя, Он тебе не поможет, но, может быть, ты достигнешь успеха и тем самым узнаешь, что избран слепой и неотвратимой судьбой ко спасению – а неудачники погибнут». Это смелое и отчаянноемировоззрение ни в коем случае не христианское. К религии Нагорной проповеди оно не имеет никакого отношения. Наши дни, с их культом силы и насилия, только сделали последние выводы из этой обезбоженной веры. Протестантизм был молотом, который ударил по твердыне западного христианства и сокрушил ее; силой сугубо разрушительной, хотя и необыкновенно плодотворной. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим» – эта мудрость была отвергнута. Христианство же в мировой истории распознаётся именно по своему отношению к силе. Бытовым языком это отношение можно выразить словами: «Ты силен? Хорошо. Но это ничего не прибавляет к твоим достоинствам». Безусловно, отдельными христианами совершалось множество отступлений от этого правила презрения к силе, но все настоящие христиане были ему верны. Христианство отличается обостренным вниманием к невидимому, внутреннему, неисследимому. Протестантизм разорвал со всем этим и открыл путь послехристианскому будущему, построению царства на земле и для земной жизни.
***
Атеизм склонен к гораздо более невероятным предположениям относительно природы человека, чем те, которые делает религия. Главным образом, его подводит страсть всё богатое и сложное выводить из бедного и простого. Душа, творчество, общество, культура выводятся из игры и борьбы случайных и не сознающих себя сил… сколько бы труда это ни стоило. Все усилия «отрицательной этики» выдать дурное, запретное, лживое, низкое за «истинную нравственную природу человека», подавляемую в силу обычая, разбиваются о вопрос: откуда же берутсяпротивоположные, якобы противоестественные побуждения, т. е. неувядающее, неуничтожимое и в поколениях восстанавливающее себя стремление к добру, правде и красоте? Переворот в области ценностей, который мы наблюдаем, сводится к простой перемене знаков и освобождению сдерживаемых устремлений, однако никакого «нового знания о человеке» в себе не содержит. Даже если мы провозгласим совокупление на площадях, нечистоту и сквернословие «нравственно безупречными, естественными и желательными», если мы – а к тому идет – назовем зло добром, а добро злом, мы ничего по-настоящему не изменим. Легко объявить зло «естественным», труднее будет объяснить якобы «противоестественное» стремление к добру. Победа зла, напротив, создаст непреодолимые трудности для его идейных защитников. Пока усилия общества направлялись на защиту от нравственной неполноценности, от недостатка развития и откровенного уродства, еще можно было говорить о «вынужденности» нравственного поведения и о «насилии над природой человека». Однако уже на следующий день после освобождения от нравственных авторитетов, и чем дальше, тем больше, стремление к добру, правде и красоте – посреди широко раскинувшего сети соблазна – будет всё более и более необъяснимо. Легко, очень легко предположить, что творчество – скажем – Достоевского было проявлением борьбы его истинного «я» с принудительно навязанным нравственным порядком; гораздо труднее объяснить бунт человека, все низменные желания которого не замедлят удовлетвориться, стоит только захотеть, ради «устарелых» и «противоестественных» высших ценностей. А именно таково будет положение, к которому мы, я полагаю, придем.
***
Страсти для своего проявления не нуждаются в развитии, а дух – нуждается. Ползать проще, чем ходить, но именно прямостояние естественно для человека. Почва духаглубже почвы инстинктов и достигается только развитием. Инстинкт – поверхность жизни, дух – глубина.
Наше время – время оправдания инстинкта. Провозглашена его безусловная полезность, а дух, в свою очередь, признан гасителем человеческого. Однако в общественной жизнине разрушительны только смягченные и облагороженные проявления инстинкта. Инстинкт терпим только там, где одухотворен. Он указывает цели, но не может руководить нами в их достижении. Азы и зачатки семьи и общества инстинктивны, но если вполне предоставить их бессознательным силам – горе таким обществу и семье. Инстинкт воистину первый учитель, и именно потому – учитель, которого надо оставить. Нас же призывают из высшей школы, школы духа, вернуться в ясли.
***
Потребительская культура бесстыдно эксплуатирует коренную человеческую способность – способность бесконечно желать, сводя ее цели с небес на землю, из мечты ополноте делая мечту о насыщении. Разоблачая демона потребительства, мы не должны забывать, что он, как и все остальные демоны, не в силах внести в мир ничего нового, но только искажает стремления и способности, которые были в мире и до него. Способность безгранично желать есть добрая способность, одна из сугубо человеческих черт, отличающих нас от животных. Подмена совершается в области целей: они становятся исключительно материальными и больше не требуют усилий от достигающего, имею в виду, усилий духа и совести, внимания и творчества. Если тех, высших целей достигает человек сосредоточенный, то подменных, материальных – человек сугубо развлеченный, потерявший равновесие внутри себя. Он умеет желать, но не умеет стремиться. Стремиться, значит молчаливо выбрать цель и сосредоточенно и молчаливо же преследовать ее; увидеть свет, и темными неторными тропами к нему пробираться… Желание – горячо и переменчиво, алчно и непостоянно. Неодухотворенное желание заводит человека в темный лес, да там и оставляет, и только высшие стремления указывают ему путь к выходу. Эти-то высшие стремления к тому, чего нельзя увидеть и чем нельзя обладать, старательно изгоняются из мира. Мы всё глубже заходим в лес темных желаний… и солнце уже низко над деревьями и вот-вот уйдет от нас.
***
Вот коренной вопрос, которого совершенно не хочет видеть современность:нужна ли человечеству свобода, и если нужна, то всему ли его составу, и если не всему, то как отличить тех, кто нуждается в ней? Вот вопрос, задаваясь которым, Платон создал свое государство, а Достоевский – «легенду о Великом инквизиторе». Сейчас этот вопрос разрешают в исключительно положительном смысле, т. е. даже не разрешают, а не видят самого вопроса. Свобода признаётся необходимой в неограниченных количествах – неограниченному же числу людей. Мысль о всепригодности свободы проводится без страха и смущения – к каким бы последствиям ее применение ни приводило. Беспристрастное наблюдение, которым так гордится эпоха, когда речь идет о маловажных и никому не нужных предметах, по отношению к свободе и ее дарам и слепо, и глухо. Если, скажем, последовательное рассвобождение некоего общества ведет ко всё возрастающему росту числа преступлений – на это закрываются глаза; и в самом лучшем случае убийства, насилия и грабежи объявляются – с видом глубокомысленной скорби – «ценой, которую мы должны платить за общественный и хозяйственный прогресс». В то же время, всё растущая волна проступков против совести есть признак страшный, т. к. в некоей конечной точке, пусть и весьма удаленной, обещает разрушение общества или – что ничем не лучше – установление тирании, чье существование будет оправдановопиющим злом эпохи «всё возрастающей свободы». Ее поклонники, однако, смотрят на вещи куда спокойнее: «это, де, временные издержки; просто человек пока еще не освоился с безграничной свободой…» Будем ждать, пока соблазненный и постоянно соблазняемый «освоится» с преизбытком соблазна и станет вести жизнь «честного буржуа»!
***
Современная западная «свобода» рассчитана на личность, воспитанную христианским обществом, которая знает себе пределы и сама согласна их не переступать. Перед противником, не признающим Десяти заповедей, Запад совершенно беззащитен; тем более беззащитен, что не верит в злой умысел, вообще в существование зла. Запад до сих пор, несмотря на все опровержения, данные XX столетием, верит в то, что человек «добр по своей природе», а зло в мире происходит не от чего иного, как от недостатка материальных благ. «Если у всех будет всего вдоволь, зла не станет». Эта вера успокоительная, но совершенно ложная… Вообще мировоззрение Запада в той части, в какой оно не является придатком химии, физики, биологии, сшито из множества несхожих лоскутков. С одной стороны – культ насилия, с другой – вера в природную доброту человека. Первое убеждение одобрено наукой, второе – дань прошлому, пережиток наивного и самоупоенного XVIII века. Учение Руссо, казалось бы, ни на иоту несовместимо с мнениями неразлучных близнецов – Маркса, Фрейда и Дарвина, но оно оставляет хотя бы призрактеплоты жизни, хотя бы малую видимость смысла – и оттого так привлекательно. В Бога не верят, но Руссо оставляет возможность веры хотя бы в человека, и с ней немного тепла. Впрочем, и это тепло недолговечно. Нас ждут времена последнего холода и последней гордости, новый Рим со всем отчаянием богооставленности, но без Христа и христиан. Грустно, но это так.
***
Сло́ва «моралист», как и сло́ва «верующий», на современном Западе достаточно для того, чтобы выставить того, о ком говорят, человеком смешным и ничтожным, в общем, умственно непригодным. От Паскаля, скажем, француз наших дней отделывается так: «Паскаль был не философ, но человек, ослепленный собственными религиозными верованиями» (sic!). Однако вещиобъективно, независимо от нашего желания не исчерпываются числом, мерой, объемом – у них есть нравственный смысл, и напрасно те, кто к нему слеп, презрительно называют нас «моралистами». Подобным образом Ренан в своей «Истории христианства» отзывается и о Самом Христе: «этот милый моралист, которого мы все любим». Определив Христа таким образом, можно спокойно видеть в Нем уже не открывателя космических нравственных законов, но учителя чистописания, который в очередной раз задает нам хорошо знакомые прописи… Мораль, с этой точки зрения, не есть нечто от века присущее вещам и поступкам, но наше частное дело, милая и успокоительная иллюзия, которая, конечно, свидетельствует о мягкости нашего характера, но распространение которой в обществе не может быть терпимо. На этом стоит Общество Вседозволенности, и, надо заметить – уже весьма шатко стоит.
***
Прежде, когда заманивали человечество на гибельные пути, ему обещали истину и справедливость, на худой конец – «свободу, равенство и братство». Теперь мы видим, что этих обещаний было дажеслишком много. Большинству человеческому нечего делать с истиной и справедливостью; ему достаточно предложить беспрепятственное утоление желаний – и дело ваше выиграно. Я говорю даже не о разрешении всевозможных пороков, но именно о свободе следовать желаниям, т. е. пути наименьшего сопротивления. Впрочем, острие такой свободы всегда направлено в сторону пороков: именно к ним приходят все не находящие себе предела желания…
***
Наряду с исходящим из глубины души движением к высшим ценностям и их первоисточникам есть и другое движение: объявить все ценности «понятиями», «понятиям» дать исключительно служебное значение и, наконец, почувствовать себя господами среди этих служебных, заимствующих свет от человека понятий. В наши дни это движение достигло, пожалуй, наибольшей силы. В Боге, родине, мире мы хотим видеть нечто такое, что находится в зависимости от нас, тогда как на деле это первоосновы, от которых в зависимости находимсямы. На что только не идет человек, чтобы сохранить положение судящего и оценивающего! На всяком «трезвом и научном», т. е. покровительственно-высшем взгляде на мироздание можно разглядеть отсвет мысли Ницше: «как я могу признать существование Бога, если этот Бог – не я?» Надо сказать, кстати, что Ницше умел удивительно проговариваться – а всё потому, что только пытался уверить себя в правоте материализма и позитивизма, но никогда не был искренним их сторонником. Не был он и человеком науки, который привык скрывать свои истинные мысли и побуждения за мнимой объективностью. Его вражда к божественному не только имеет откровенно психологические основания (так бывает всегда), но он даже не пытается их спрятать (что случается значительно реже)…
***
На мир в последнее время смотрят как на неистощимую пищу для утоления любопытства, но не как на поприще для поступков, самосовершенствования, борьбы… Усовершенствование вещей вместо усовершенствования себя; борьба с техническими трудностями вместо борьбы с собой – и это неистощимое и неоправданное любопытство, которое отказалось от вопроса: «почему?» и спрашивает только: «как?» Наше нынешнее любопытство можно назватьлюбопытством образа действия. Внимание к первопричинам теперь считается признаком низкого развития, детства, отсталости. Первопричины исключены из рассмотрения, если они и есть (в чем большинство в наши дни склонно сомневаться), то исследованию не подлежат. Не устану говорить, что это предельно обедняет мышление, которое, не в силах отказаться от идеи причин вообще, начинает их искать всё в тех же обстоятельствах образа действия: «преступление совершается, п. ч. в мозгу у преступника вырабатывается особое вещество», и тому подобное. Мы входим в область настоящего полета воображения, где всякое сопутствующее обстоятельство, какое удается изловить, может быть объявлено причиной.
***
Если бы современному европейцу предложили мудрость, веру и смысл жизни – он бы от них отказался. Всем этим вещам он предпочел знание и силу, обмана же в сделке не заметил: ведь предпочтенное им знание есть сплошь знание о том, что ненужно и неважно, а сила – самая внешняя, которая никак не может согреть душу. Из всех его чувств не осталась внакладе только гордость. От европейца укрылось – или от него укрыли, – что есть только два положения: либо ограниченность познаний и смиренная мудрость, либо половодье ненужных фактов – и оставленность разумом. Мудрость, как я уже не раз говорил, не есть знание, но искусство верной оценки. И, напротив, познание в том виде, как его боготворит современность, предпочитает сознательное и горделивое воздержание от оценок. Ницше называл его приверженцев «холодными демонами, лишенными инстинкта истины». Я скажу проще: они напоминают подростков, которые торопятся испытать всевозможные удовольствия, оставляя нравственные оценки другим. «Наша цель, – могут сказать этидругие подростки, – в удовлетворении собственного любопытства. Если же на пути удовлетворения этого любопытства нас или наших ближних постигнут несчастья, будет признаком малодушия связывать их с какими-нибудь из наших намерений и поступков – пусть так поступают заплесневелые ханжи и моралисты, но не мы!» И они получают вдоволь свое удовольствие – удовольствие познающих.
***
К известным от века соблазнам силы и власти добавился новый:соблазн всеведения, причем это ложное всеведение, поражающее в наши дни представителей естественных наук, не только уживается, но и тесно связано с полным неведением, невежеством и нежеланием знать о человеке, культуре и духе. Эта притязательная смесь гордости и невежества тем более удивительна, что в области человеческого – культуры, общественной жизни, нравственного уровня – современное общество, ведомое представителями точного знания, испытывает ряд сокрушительных неудач, движется от провала к провалу. «Научное мировоззрение», примененное к решению жизненных задач, имело исключительно разрушительные последствия. Как говорил Сократ, повар и врач равно заботятся о человеке, но если мы предоставим его заботам одного только повара, с его односторонним представлением о благе – добра не жди. Наука оказалась таким поваром. Под ее присмотром западный человек телесно поправился и захирел духовно. «Будьте же благодарны, ибо я накормила человечество!», восклицает наука, не замечая ничего вокруг. О, эта гордость самовлюбленного повара!.. Пора бы и врачу вернуться после долгого отсутствия, да я боюсь, что повар его не пустит в дом.