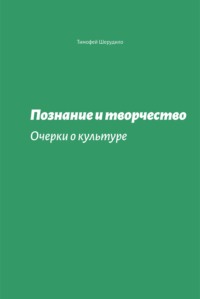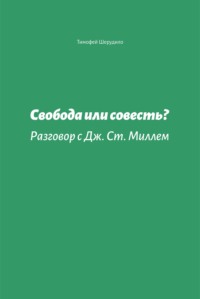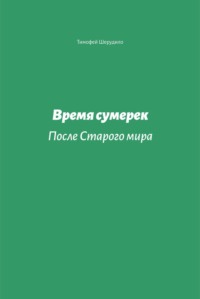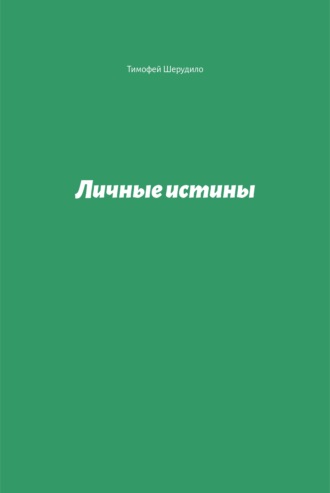 полная версия
полная версияЛичные истины
***
За какие-то 100 лет удалось разрушить все опоры человеческой личности – религию, честь, патриотизм, дисциплину, совесть – и создать человека, совершенно не укорененного на земле, ведомого только зовом пола и призраком удовольствий. Легковерие превысило все границы. Человеку прошлого не так легко было что-нибудь внушить. Поразительно при этом, что крайняя податливость масс сочетается с предельным индивидуализмом, однако без всякой умственной независимости. Желают жить для себя и страстно отвергают все твердые мнения, которые могли быть дать опору против подавляющего влияния большинства. Люди «освободились» как будто для того, чтобы подчиняться любому пустяку, суеверию, умственному поветрию. Что еще хуже, в массах воспитывается вкус ко всему кроваво-сексуальному, к смеси крови и спермы, и ту же цепь насилия и похоти приучают видеть в природе. Поклоняются ужасу, но не тому ужасу, который создает религию, а ужасу посреди наслаждений, который только придает дополнительную остроту этим наслаждениям. Открыт невозбранный доступ к удовольствиям крови и похоти, и этими удовольствиями удалось купить небывалое послушание и спокойствие народов. Против чего восставать, когда ипоследнее доступно?! Пусть только воображению, так ведь блуд воображения для большинства человеческого единственно доступный, так как ни на что настоящее оно неспособно…
***
Отказавшись от твердого понятия о правде и непроизводных ценностях, мы получили со временем, всего за какие-то несколько столетий, культуру, основанную в значительной степени на лжи, то есть на предположениях, выгодных настоящей минуте или просто могущих в настоящую минуту быть легко доказанными. «Правда есть то, что может быть доказано», говорит современность, однако у этой формулы есть продолжение: «…то, что может быть доказано данному слушателю прямо сейчас», иначе говоря, то, в чем может быть убеждена публикав меру своей способности судить о вещах. Наступило торжество крайнего софизма. Взяв мерой истины ее доказательность, мы поставили эту истину в зависимость не только от доводов убеждающей стороны, но и от умственной несложности убеждаемой. Если и прежде «истин было много, как листьев в лесу», то всё же выбирали между ними мудрецы, и с известной ответственностью. Истина не была тогда поставлена в довольно постыдное положение удовлетворительницы общественных пожеланий. Возражают, однако, что только второстепенные истины отданы демократией массам; главную же истину дает наука, от которой остальные только заимствуют свет… Тут, однако, просто подмена слов. Науку занимают не истины… Научный метод, или рациональный, как всецело основанный на доказательствах, постоянно под угрозой превращения в чистый софизм, от которого удерживается только такой призрачной вещью, как совесть исследователя. Не основанная на совести наука превращается в шарлатанство. Совесть же – понятие духовное, совершенно самостоятельное от «научной любознательности» и других добродетелей этого сорта. Повторяю: всякому методу познания, основанному на доказательствах, угрожает вырождение в чистый софизм при условии недостатка нравственной чистоплотности познающего. «Истина то, что может быть доказано». Но кому?! В конечном счете – совести ученого. Но поскольку наука или отрицает совесть, или только соглашается ее терпеть при условии невмешательства в собственные дела, то ученого – если он последователен и черпает только из одного источника – рано или поздно ожидают трудности, ведь свою совесть он получил (если получил) из совсем иного источника, чем всё остальное…
***
Как уже отмечалось, проповедь крайнего детерминизма – признак крайнего разочарования в идее свободы. Это разочарование началось еще после провала французской революции, и тогда привело к появлению марксизма с его отрицанием личности в истории. Именно крайний и последовательный детерминизм нашего времени говорит о его крайней, последней разочарованности в свободе, несмотря на всё внешнее уважение, которое ей оказывается на Западе до сих пор. Свобода всё еще является игрушкой и знаменем для масс, но люди мысли, той мысли, которая редко и почти никогда не соприкасается с духом, давно уже в ней разочаровались. Чаемого «господства разума» свобода не принесла; освобождение от религии, на которое возлагались такие надежды, не начало золотого века… Если позволительно так сказать, «ум Запада», который некогда через кощунства и насмешки и рассуждения об «экономическом человеке» и «общей пользе» освобождался от хорошего и дурного в наследии Средневековья – этот ум усомнился в собственном деле и занялся прямо противоположным. Теперь он измышляет всё новые построения, чтобы показать ничтожество, бесполезность и мнимость человеческой свободы. Именно так надо понимать здание, громоздимое наследниками Маркса, Дарвина и Фрейда. Свобода не нужна больше. Только дети и ограниченные люди всё еще верят в нее…
***
Можно быть субъективно честным, но при этом совершеннобессовестным человеком. Мелкая честность, так превозносимая русской интеллигенцией, отлично мирилась и мирится с безнравственностью. Честный вообще не означает нравственный. Нравственность в первую очередь подразумевает ответственность и, как следствие, смирение; «честность» в любую минуту уверена в своей правоте и не испытывает сомнений. Совершать непотребные поступки можно вполне «честно», т. е. не кривя душой. Циник, скажем, есть образец честного человека. И что же? Станем ли мы ему подражать? Ах, какой же, впрочем, это напрасный труд – объяснять, что такое совесть, тем, у кого ее никогда не было! Русские либералы – а я говорю о них – всегда были готовы получить награду за свою «честность», и охотно упрекали в «бесчестности» инакомыслящих. И что наиболее любопытно для беспристрастного наблюдателя – именно те, в ком была совесть была сильнее «идейности», как Достоевский, Розанов, Франк, Ильин, Струве и другие, и заслуживали клейма «бесчестных». «Честен» тот, кто готов подчиниться какой-нибудь книжной идее до конца, не думая о последствиях; бесчестны все остальные. Так обстоит дело с хваленой честностью, а иначе сказать – нежеланием думать…
***
Есть некая двуединая связь между атеизмом и либерализмом – иневидением зла в мире. Отчасти она объясняется тем, что говоря: «Нет добра», мы говорим и: «Нет зла»; но есть и другое – некоторый, я бы сказал, первородный оптимизм, свойственный сторонникам этих учений. Как будто какое-то врожденное легкомыслие мешает им видеть зло как действующую в мире силу… Надо заметить и другое: если такой человек разочаруется в своей вере, он увидит в мире и человеке одно только зло и ничего кроме зла; т. е. останется в плену у всё того же монистического самообмана, только в противоположном смысле. Вообще монизм как философское учение дает своим сторонникам либо спокойствие и безоблачный взгляд на вещи, либо черный ужас. XVIII столетию было свойственно первое, а XX – второе. Психологически любопытно, что всякое учение, признающее сложность вещей, несводимость наличного мироздания к одному началу, уже по одной этой причине осуждается современностью. «Прогрессом» считается отвращение к мысли о множественности причин. Современность во всем видит, желает видеть «один корень», отсюда ее несносный и убогий эволюционизм во всем, вплоть до науки об обществе и психологии. Любой ценой нужно вывести несоединимые, вечно противоборствующие силы из одного начала… И ценой известного насилия над фактами такое начало находят. «Насилие над фактами» – ключевое слово этой на словах поклоняющейся фактам эпохи. Отвлеченное фактоприятие только проповедуется; на деле «факты» собираются и оцениваются в высшей степени избирательно, а именно – так, чтобы не нарушать умственного покоя. Победил, в сущности, принцип истолкования ценой наименьших усилий; этому принципу придан вид «высшей научности», хотя на деле это принцип высшей умственной лени. Будь с нами старый Сократ, он сказал бы, что победило мышление кузнеца с его заботой о целесообразности и сбережением усилий. «Но разве, друзья мои, – сказал бы Сократ, – пристало кузнецу судить о происхождении вещей и о том, что такое человек? Пусть каждый занимается своим делом!» Но, к сожалению, Сократа с нами нет, и место овода в современных Афинах пусто.
***
Я вижу любопытную черту эпохи в склонности, смотря на человека и его душу, считать естественными только те движения, которые ведут вниз. Это как-то противоречит господствующей вере в «эволюцию», ведущую все вещи к неизменному улучшению. Однако, если вдуматься, противоречие чисто внешнее. Психологически из веры в некую «самопроизвольную живительную эволюцию», которая действует вне нас и без нашего участия, может выйти только исчезновение личной ответственности и, как следствие, постоянное падение и понижение культуры, в лучшем случае – культура, замешанная на инстинктах. В области духовной жизни никакого благодетельного и неизбежного «саморазвития» нет. Предоставленное самому себе общество будет не обществом поэтов и пророков, но обществом верящих в грубую силу дикарей. Исходя из этой веры, растлителей не осуждают, говоря: «это естественно!», а в желании поднять падшего человека видят безумие. Нормой наконец-то стала считаться тупая бездарность. Нет, угождение толпе началось не вчера; но еще вчера угождать толпе приходилось исподтишка, боясь осуждения. Это время прошло. Демократия – великий и острый топор для дерева культуры. Если прежде естественным и желательным, пусть и не для каждого возможным, признавалось полное и высокое развитие лучшего в человеке, то стараниями новейшей эпохи «естественным» признано низкое. Идеал развития личности ниспровергнут и растоптан. Если «хорошее» – как раз то, в чем данная личность не отличается от большинства, то к чему поощрять движение к большей обособленности, отличию, уединению (а всякое личное развитие, очевидно, к ним и ведет)?
Понятие «бессознательной эволюции», последовательно приложенное к обществу и культуре, означаетупрощение и распад. И всё потому, что культура и общество строятся волевым началом, а не «вырастают непроизвольно». Случайный рост только накладывается на движение, изначально направленное волей. Отказ от строительства культуры есть отказ от общей культуры вообще. Бессознательно складываться могут только разного рода привычки, и называемые теперь «культурами». В прежнее время никому не пришло бы в голову говорить о «культуре ткачей» или «культуре едоков», но теперь это в порядке вещей. Всё это употребление множественного числа относительно слова «культура» – ложно в своем основании. Культура общества есть видимый образ душевной жизни, она одна. Не может быть «культур», как у одного человека не может быть «душ». Разговор о «культурах» является столь же явным признаком неблагополучия, как ощущение нескольких «я» в одном человеке.
***
На наших глазах «гуманизм» как-то нечувствительно переходит вчистый демонизм. Все предпосылки, зародыши демонизма были в нем, надо признать, с самого начала 34 , однако носитель этого мировоззрения был иным. Человек времени «раннего гуманизма» бывал безнравствен, но при том умел желать, и сила его желаний придавала им известный вид благородства (как это было и в древнем мире). Его наследник, человек эпохи демонизма, очень мало желает, малого добивается и вообще значительно измельчал, хотя бы потому, что верит в равенство, следовательно, не только не считает себя лучше, достойнее, благороднее других, но и других никогда не ставит выше себя. Если он и бывает «врагом общества», то эта враждебность бездеятельная. Он готов наслаждаться, но и наслаждаться предпочитает без затраты душевных сил. Он впитывает собираемые для него ужасы целого мира, как это делал и римлянин на скамье своего амфитеатра, но только в неизмеримо большем числе… Ужасы целого мира к его услугам, и что еще хуже, они множатся по мере усиления жажды ужасного. Вчерашние сны становятся действительностью; долго вызываемые страхи приходят… Ужасы современного мира, я глубоко в этом убежден, суть в немалой степени вымечтанные ужасы; их призывали – и вот, они явились!
***
Нам предложен ныне идеалскоточеловечества, и чтобы от него отказаться, нужны не сила, не смелость – как раз силу и дерзость он ставит на первые места, – но что-то совсем другое. Людское стадо стремится по пути наименьших усилий, на ходу теряя человеческий облик, околдованное разговорами о «могуществе человечества» как единственной и последней цели, но могущественным-то в конечном итоге будет не стадо, а его погонщик. Как остановить эти толпы? Всё хорошо задумано и улажено. Идеал скоточеловечества был предложен не прежде разрушения всех прошлых устоев и целей, причем пока шло это разрушение, обещали народам совсем другое. Пока культура прошлого еще стояла, массам обещали «всестороннее развитие личности» и всяческую духовную полноту, которым эта культура будто бы препятствовала, но стоило ей повалиться, как вместо обещанной полноты стала нищета. По пути разрушения шли народы за блуждающим огоньком «будущих благ»; пройдя его до конца, очутились во тьме. «Я утолю все ваши желания, вплоть до самых низменных, – говорит голос из этой тьмы, – но счастья жизни, но смысла жизни не будет у вас никогда». И насколько можно судить, массы готовы успокоиться на том, что им предлагает этот голос.
***
Своеобразие эпохи в том, что она внушила человеку, будто он – механическая кукла, заводной автомат, и человек поверил. Вот пример власти распространенных представлений над обществом, иначе говоря – власти идей. Современность ничуть не менее, чем прошлые эпохи, находится под властьюсобственных о себе представлений, даже если она верит в обратное. Духовное развитие общества не прекращается оттого, что это общество не верит ни в дух, ни в самостоятельное развитие, не обусловленное подспудными влияниями и бессознательными влечениями, которые теперь принято искать повсюду… Мировоззрение человека определяется по-прежнему идеями, а не фактами, как бы нам ни пытались представить дело. Прежде всяких фактов существует желание истолковать их определенным образом; убеждения и житейские привычки вырастают совсем не из фактов, а из их толкований. Из «наблюдений и опытов» никакое мировоззрение не вытекает вообще, по меньшей мере, из тех наблюдений, которые более всего признаю́тся и ценятся теперь. Мировоззрение создается только на основе жизненного опыта, глубокой душевной жизни, как признак внутренней зрелости; дается душевным трудом, а не лабораторными бдениями. Ограниченность специалиста, в наше время часто выдаваемая за глубину познания, не дает еще почвы для мировоззрения. Ее нужно искать в другом месте, там, где мерой ценности не является успех опытов и достигнутая мощь. В обществе, к которому Россия так несчастливо присоединилась в конце XX века, мерилом ценностей стала как раз достигаемая через их посредство мощь, с извечным припевом – «to improve the quality of the human life!» 35
Как было бы хорошо – совсем несбыточная мечта! – воспитать хоть сколько-нибудь людей в духе если неотвращения к мощи, то хотя бы глубокого недоверия к ней. В чем мы более всего нуждаемся, так это в том, чтобы внушить человеку сомнение в ценности силы, научить видеть в силе не цель, но средство, причем не всегда нравственно оправданное. На деле всё прямо противоположно: мы уверовали не только в то, что правота дается силой, но в то, что сила и есть правота. Глупые, невоспитанные дети думают, что сила разрешает споры; мы хуже их: мы думаем, что могущество является самодостаточной ценностью и мерилом и источником всяких истин. Если бы заронить в людях подозрение ко всякой мощи и умение спрашивать: «чем повредил мне этот успех? чем заплатил я за свою победу? что у меня отняла моя сила?» А ведь эти вопросы так естественны! Однако пока что распространен предрассудок, будто сила дается даром и невозбранно, что наслаждение будет вечно и что расплачиваться за него не придется никогда.
***
Мы живем в эпоху, когда Запад с напряженным и живым любопытством готовится к концу, причем принять этот конец думает то от мстительного мусульманина, то от болезни, то от камня с небес… Что-то удивительное в этих похоронных приготовлениях посреди криков о могуществе и процветании человечества (под коим обычно подразумевается население пяти-шести государств христианского мира). Воздух дрожит от трубного звона: «Мы сильны, и завтра станем еще сильнее!», однако вместо всеобщего счастья, какого следовало бы ожидать, мы видимвсеобщее беспокойство, а еще более – готовность верить только дурным предсказаниям. Складывается такое впечатление, будто западный человек разделился сам в себе, и его светлая и темная половины видят совершенно разные вещи. Там, на дневной стороне, всё благополучно: приобретение следует за приобретением, сила громоздится на силу, а ночная сторона жаждет ужасов, готова к ужасам, видит ужасы под блестящей поверхностью дня… Дневной человек идет по пути накопления земных богатств, ведущему в никуда; ночной как будто уже прошел этот путь и достиг своего «ничто». Общество, которое всякую нравственную, шире говоря – духовную жизнь объявило «болезнью» и тем лишило ее остроты, само страдает тяжкой душевной болезнью. Его ночная половина знает тайну, которая могла бы лишить покоя дневную… Не случайны же все эти мечты о разрушении, гибели, ужасах посреди видимого благополучия. Западный человек охвачен тяжелым сном и хочет проснуться, но проснуться ему не дают, и раздвоение заходит всё дальше.
***
Либо считать взрослыми и сознательными гражданамивсех, либо только некоторых и в разной степени, либо никого. Что ни говори, блестящими в культурном отношении бывают только эпохи, соответствующие второму правилу – ограниченной свободы. Нельзя доказать, что полная и последовательная демократия может быть хорошей культурной почвой. Всё, что угодно, но только не это! Демократия отказывается от идеи «господ» (хотя оставляет право господствовать денежным мешкам) не только в политическом смысле, но и в духовном. В области духа и нравственности такие господа суть ценности. «Демократические ценности» – это ведь просто шутка, неудачный набор слов. Демократия, как и ее опорный камень – равенство, является сугубо отрицательной идеей, в основном выражаемой словами: «Никого выше нас!» Она хочет, чтобы известных вещей (неравенства лиц, обязательного нравственного авторитета…) не было, но сверх этого отрицательного списка ни к чему не стремится. Могут возразить: а как же благосостояние, которые мы наблюдаем в самых убежденно-демократических странах, разве оно не цель? На это я скажу, что называть благосостояние «целью» значит либо подменять понятия, либо вводить весьма приниженное представление о целях. Благосостояние, как и некоторые другие прекрасные вещи, вроде покоя и свободы, есть только средство или условие для чего-то большего, чем они сами. Если же мы объявим, скажем, послеобеденную сытость и сонливость самодостаточными немеркнущими ценностями, то прощай, человечество! Твоя история закончилась. Благосостояние, взятое не как условие, но как цель – это бездна, в которую уходят стремления и ценности, это непрестанное алкание большего без возможности удовлетворения… Именно это мы и видим в странах, вполне и без остатка предавшихся демократии. Собственно говоря, не стоило бы тратить стрел на эту мишень, если бы эти баснословные «демократические ценности», иначе сказать – ценности потребления, не насаждались теперь и в России. Факт таков: демократия враждебна каким бы то ни было ценностям, не имеет ценностей и не может быть нашей целью, разве только нас устраивает человечество, низведенное до уровня конного завода.
Неизбежен, однако, вопрос: в чем жеположительная цель? К чему можно стремиться? Не имея никакого желания измышлять еще одно «идеальное государство», я всё-таки кое-что скажу об этом. Во-первых, твердое существование человека на земле (насколько оно вообще возможно) основывается только на твердых ценностях и духовных авторитетах. Господствующая мысль современного мира: «Чтобы выше меня никого не было!» сама по себе разрушительна. Во-вторых, признание авторитетов в области духа влечет за собой и признание неравенства людей в обществе, которое является злом лишь настолько, насколько оно перестает выражать неравенство в развитии, способностях и образованности. Идея «неотъемлемых прав», признаваемых вне связи с действительными достоинствами личности, есть злостное заблуждение, смешение этики и политики. Всякая личность заслуживает известного уважения, но ровно настолько свободы действий, насколько она умеет собой управлять. Последовательное проведение демократических взглядов в этой области делает невозможными и брак, и воспитание детей, и вообще всякую совместную жизнь. Не нужно, я думаю, особенно обосновывать ту мысль, что свобода внешняя может даваться только в меру свободы внутренней, т. е. способности обладать собой. Словом, это желательное общество будущего должно быть обществом умной, ограниченной свободы, и самым трудным для него, если оно когда-нибудь установится, будет сохранить равновесие между поглощением одним авторитетом всех остальных (тогда мы увидим нового Кесаря) и уничтожением авторитетов вообще (к чему стремится демократия со своими эволюционными и атеистическими верованиями). Это очень узкий путь, но только на нем можно создать новую культуру на место полученной нами от Средневековья и уже обветшалой. Демократия на создание какой бы то ни было культуры неспособна, и не стоит от нее этого ожидать.
***
Любопытно, что нынешние растлители человечества – самые грубые, самые топорные. Речь не идет о каких-то тонких соблазнах, о пороках, страстях… Проповедуемое снижение нравственного уровня даже пороком назвать нельзя. Обращаются непосредственно к самым грубым вожделениям, к силе и похоти; понятия соблазна и порока отброшены, как слишком тонко-духовные, вместо них один призыв:«Будьте как звери!» Церковь, говорят, смиряла народы, внушив им покорность перед Вечным Законом. Насколько же более покорны будут народы, приведенные к состоянию трудолюбивых зверей: днем труд, ночью случка, и огоньки безмысленных удовольствий в кромешной тьме.
***
«Неважно, что мы думаем; неважно, что говорят религия и совесть – лишь бы удовольствие не оскудевало», говорит современная психология. Но что-то мне мешает поверить. В себе самом я нахожу упорное нежелание согласиться… Что бы ни говорили, совокупность удовольствий не составляет счастья, напротив – потерянность, смятение, нравственный упадок. Никакие внешние блага не могут нас избавить от нравственной оценки вещей. И надо заметить, что нравственный порядок и порядок нашего физического существования не поддаются ни согласованию, ни разделению. Между желаемым и делаемым всегда остается зазор, даже и до противоположности. «Что делаю, того не хочу; чего хочу, того не делаю». И всё это помимо нашей воли, самим ходом вещей. Нравственная оценка поступков существует совершенно независимо от того, насколько они нам желательны или неприятны. И делая, и не делая, нельзя – при достаточном развитии души – уклониться от суда и оценки. Мнение общества, стыд чужих взглядов маловажны перед этими внутренними трениями в самой душе, для которой нравственный смысл факта значит больше, чем сам факт. Достоевский в «Братьях Карамазовых» достиг великой силы изображения противоположностей, при которой и зло теряет свое жало рядом с чистотой и добром… однако подспудно, глубже гармонии и примирения, видимая в речах старца Зосимы – он-то о ней знает, – пролегает трещина в собственной душе Достоевского: зазор между «делаю» и «хочу». Если бы в душе того, кто написал «Карамазовых», не было этого зазора, не было бы и романа, и пленяющих образов добра в нем. Если бы Достоевский не мучился внутренним разрывом, мы бы не услышали от него о гармонии. И всё в мире так!
***
Человека можно рассматривать либо цельно, либо никак. Созданная два столетия назад химера «экономического человека» не сменилась, но осложнилась в наши дни другой химерой – «человека физиологического». Со всем почтением к небесной механике надо сказать, что человеку в мировоззрениях этого рода отводится то же место, что камню или планете в астрономических расчетах: подразумевается, что в каждый данный миг на этого человека оказывает влияние только одна сила. Сначала это только удобное допущение, затем (это непременно происходит, поскольку речь идет о мировоззрениях) всякая нерешительность отбрасывается и человек – удобства ради – начинает действительно рассматриваться как находящийся под влиянием одной-единственной силы. Применительно к небесным телам это еще допустимо, но в отношении человека приводит к заведомой лжи. Мир человеческий перекраивается произвольно, в зависимости от того, какуюсилу считает верховной тот или иной мыслитель. Для ныне господствующего взгляда такими силой является жажда обладать, направленная на материальные блага – деньги и удовольствия. Думаю, этим выражением охватывается как мудрость Маркса, так и мудрость Фрейда. Неудивительно, что итоги умственного развития на этой почве оказываются более чем скромными. Тогда как все высшие душевные движения, по своему существу, суть движения отдающего (и творчество, и любовь – радостная самоотдача), западный мир в качестве «господствующей силы» выбрал жажду брать, а не отдавать, и это оказалось решающим.