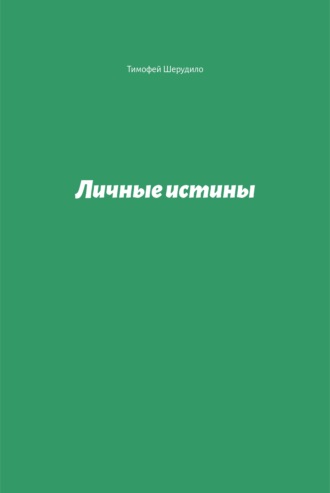 полная версия
полная версияЛичные истины
***
Правда романтики в том (я об этом уже писал когда-то), что всё хорошее в жизни – откуда-тонеотсюда; и, напротив, всё, что отсюда – скучно, бессмысленно и бесцельно. Нужно стремиться к тому, что входит в жизнь, но не является самой жизнью, что по отношению к ней выше – или, по меньшей мере, находится в какой-то иной плоскости. Жить, придавая наибольшее значение жизни самой по себе, как морю, в которое мы погружены, значит подчиняться пошлости в самом первоначальном смысле этого слова. «Существователей» этого рода во множестве описывал Гоголь. Один из ответов на пушкинские «Стансы» – «жизнь для жизни нам дана» – обессмысливает саму жизнь, вовсе не является ответом: если «жизнь для жизни», т. е. для себя самой, то она ни для чего. Жить для чего-то значит – надо ли объяснять? – жить для того, что само не является жизнью, стоит вне ее. Вот это невидимое «что-то» и придает нашей жизни вкус и дыхание, не входя, однако же, в число ее несчастий и благ. Искать это «что-то» в кругу вещей и переживаний бессмысленно; оно достижимо только на пути прочь от всех вещей мира – на пути внутрь себя.
***
Идеал стоика или эпикурейца – довольствоваться тем, что есть, – ничего не значит для христиа́нина, если это «то, что есть» не причастно к божественному. С точки зрения стоика и эпикурейца вещи либо вовсе не имеют отношения к Божеству, либо безразличны Ему; для нас же – как бы ни было притязательно это «мы» – весь вопрос в том, божественно ли, истинно ли, чисто ли, прекрасно ли «то, что есть». Если нет – гори оно огнем, оно не нужно, его хуже чем нет. Стоик, по существу, был глубоко равнодушен и заранее утомлен; его видимое внешнее сходство с христианином обманчиво. Сколько бы ни говорили о «неотмирности» христианства, куда более неотмирен стоицизм: какая разница, в палатке или в палатах отбыть постылый срок? Вспомните Марка Аврелия. История знаетхристианское государство, но невозможно вообразить «стоическое государство»: тоскующий император, тоскующий монах, тоскующий рыцарь… царство всеобщей тоски, связываемое только покорностью долгу. Христианство дало поток неослабевающей деятельности, которого хватило на полторы тысячи лет, источник которого в убеждении, что жизнь на земле причастна божественным началам и может быть основанана божественных началах. Можно сказать, что всякая настоящая религия такова: не так же ли верили Греция и почти незнакомый нам Египет? Но к настоящей-то религии римляне и не были способны, как римляне-»вольтерьянцы», так и римляне-»мистики». Всё превозмогала усталость от избытка ощущений и мировой власти… И стоик с эпикурейцем, в конечном счете, оказывались равными скептиками по отношению к Божеству, только один тайным, а другой – явным.
***
Религиозную веру иные выводят из психологической потребности «самоуспокоения». Совсем напротив. Для самоуспокоения, для того, чтобы вполне жить т. н. «действительной жизнью», пользоваться ее благами и огорчаться ее неудачами, необходима уверенность в том, что эта жизнь – последняя и окончательная, т. е. нечто прямо противоположное религиозной вере. Без этой уверенности бо́льшая часть житейских побед потеряет свою сладость, и многие поражения утратят горечь; и те, и другие станут толькомалозначительными происшествиями на пути. Но поскольку человек защищает собственную значительность, уж во всяком случае значительность своих дел, от всех покушений – он склонен защищаться и от мысли о том, что всё здесь неокончательно. Несмотря на то, что религия, философия и поэзия терпимы (вернее, были терпимы) в обществе, для них отведены известные часы и места – так, чтобы в другое время и в другом месте с ними не встречаться. Религии (было) отдано воскресенье; философии – кафедра в университете; а поэзии… поэзии власть над юностью (что, впрочем, тоже в прошлом – в переживаемую нами эпоху понимания человека как мыслящей мышцы 28 ). Но жизнь течет мимо них. По отношению к этому состоянию «практической веры», религиозная вера является не дурманом, а пробуждением, высшей степенью ясности. Жизнь понуждает совсем не к религии, а к приятию всего сущего в качестве последней и решающей действительности; религия же приходит посреди представления, вынимает из наших рук картонный меч и говорит: «Проснись!»
***
Что же такоеистинно ценное? Ведь ясно, что жизнь сама по себе, со всеми ее пустяками, еще не ценность – ценности скрыты в ней, но их надо найти. Когда-то я пришел к такому довольно опасному на первый взгляд выводу: что истинные ценности суть, во-первых, те, к которым нас влечет с наибольшей, непреодолимой силой, и, во-вторых, влечение к которым не ослабляется удовлетворением, не пресыщает и не оставляет оскомины, да и удовлетворено сполна быть не может. Без этого второго положения – высшие ценности превращаются просто в предмет наибольшего вожделения, и понимать их можно сколь угодно плоско и плотски. Боюсь, я в те времена выразил эту оговорку недостаточно ясно и мог быть неправильно понят. Впрочем, есть одна область, где ценности и вожделения действительно сходятся. Вы знаете, о чем я говорю: это человеческая красота, стоящая между духовным и плотским, сразу на двух берегах. Будь я писателем Средневековья, я сказал бы, что ангел учит нас отличать прекрасные лица и прекрасные тела, а бес научает нас их желать. И дальше я сказал бы, что удовлетворив желание, мы чувствуем себя обманутыми, потому что стремились к духовному, а нашли плотское, и прибавил бы: «так шутит бес над человеческим родом». Иначе нельзя выразить это запутанное и двойственное отношение, которое привязывает нас к красоте… Есть, замечу в скобках, два рода людей, для которых красота не двойственна и не содержит в себе обмана: это святые и отпетые грешники. Первые не видят в ней плотского, а вторые не замечают духовного; и те, и другие избавлены от двойственности и внутренних мучений. Для нас же, людей середины, красота говорит больше, чем мы можем понять.
***
Тоска – признак и последствие греха. Где нет греха,недолжного, нет и тоски, а только радость, или по меньшей мере безмятежность. Иначе нельзя понять существа тоски, иначе она бессмысленна, ниоткуда. Только видя в тоске следствие наших поступков, можно найти способ от нее освободиться. «Найти способ? А зачем его искать? Он давно известен!» В том-то и дело, что общеизвестный путь борьбы с тоской, путь развлечений, приводит только к ней же, но только усиленной, и притом кружным и трудным путем. Все развлечения – в мирском смысле этого слова – обессиливают и утяжеляют, тогда как душе нужно легкости и сил. Развлечения требовательны к нам, и мы им угождаем; а душе нужно что-то такое, чему не нужно было бы угождать, ради чего не следовало бы поступаться свободой. Одна такая вещь мне известна – это творчество, которое всегда имело силу спасать меня от лютой тоски; есть, вероятно, и другие… «Творящий, – говорил я когда-то, – увеличивает количество себя». Он в большей степени существует, или (чтобы сказать по-другому) его существование имеет другое качество. Но, к сожалению, творчество с его светлым корнем – вдохновением – не дается душе по желанию.
***
Люди, которые ведут исключительно природную жизнь, остаются не у дел, когда природный долг – совокупление и рождение – оказывается выполнен, и природные радости, ему сопутствующие, испытаны. Природе они более не нужны. Наполнить их жизнь может только нечто сверхприродное, т. е. дух. Там же, где нет духа, начинается тоскливая мелодия обывательщины, для которой жизнь вращается вокругприродного: ухаживаний, совокупления, рождений, сначала ожидаемых, потом переживаемых и, наконец, воспоминаемых… Это путь от легкомыслия к потере всякого образа своей юности, к бесконечным разговорам о житейском и, в час раздумий, к заунывному пению: «Что ни день, то всё ближе к могиле наш путь». Дух также ужасается могиле, но притом радуется, всегда бодр, как будто уже знает, что могилы для него нет.
Розанов, в сущности, пытался доказать, чтоприродное назначение человека есть его единственное назначение. Вся его борьба против Церкви и Христа основывалась на этом. «Дух – истинная опора, истинное призвание человека», говорит Церковь. «Что такое дух? Не понимаю, – отвечает Розанов. – Вижу орудия совокупления и размножения, духа – не вижу». Цели и корни человеческой жизни Розанов пытался перенести исключительно на землю, вернуть человека к природному и только природному существованию. «Вы говорите: дух, а я вижу тело. Как могли вы забыть тело в заботах о духе?», в этом весь Розанов. Но для тела предназначены наслаждение и смерть… Вернувшись к природному порядку вещей, Розанов понес и соответствующее наказание – отсюда тоска его «уединенных» книг. Солнце природы закатилось, а Солнце Духа для него не светило.
***
Что-то есть великое и многозначительное в том, что Кто-то сделал зачатиесамым приятным из всего приятного – нарочно, чтобы жизнь вовек не прекратилась. «Плодитесь и размножайтесь», эта заповедь впечатана в нас. И наряду с этим – дух, который не хочет рождений, не нуждается в рождениях, стыдится этого «самого сладкого» и силится от него уйти. Монизм, т. е. поиск во всём единой причины, разрешает этот вопрос по-разному, но всегда решительно: либо плоть, либо дух признаю́тся случайными наслоениями, коростой бытия; либо плоть, либо дух. Но «самое сладкое» природного порядка и самое чистое и желанное порядка духовного – оба столь первичны и несводимы одно к другому, что заставляют разувериться во всяком монизме. «Если есть природа, зачем дух? Если есть дух, зачем природа?» Невозможно, будучи вполне человеком, уйти от этих вопросов. Либо самое сладкое, либо самое чистое; и никакого сопутствия, никакого сотрудничества между двумя порядками быть не может – только слепая одновременность, вынужденное сожительство. От нас хотят, чтобы мы были природными существами, и выражают эту мысль так ясно, как только возможно. И в то же время от нас, если не от всех, то от некоторых, хотят совсем противоположного – и так же явственно и твердо. Таинственный зов рвет человека на две части; не заметить его нельзя; уклониться невозможно. И что он значит? Уклониться от объяснений, всё выводящих из единого корня, значит подойти слишком близко к дуализму, еще более страшному для европейского ума, чем монизм; т. к. полагать в чем-либо два начала, две борющиеся природы считается признаком умственной слабости, силу же ума видят в любви к объяснениям простым и простейшим… Но что делать, если простым объяснениям вещи никак не поддаются?..
***
Несомненную и значительную часть личности, я бы даже сказал – ее основание, составляет испытанный ей в различные времена стыд. Можно даже утверждать, что святость, как высшая ступень развития личности на земле, связана именно с всеобъемлющим чувством стыда. Гордость, противоположность святости, потому и свойственна людям мелким, что ей не из чего выстроить себе основание. Всё, чем личность возвышаетсяпо-настоящему, гордостью же и отметается – остается только пустая кичливость, натянутая и неуверенная сама в себе… «Гордыня приходит перед падением»; это совершенно верно отмеченный факт. Перестав стыдиться, человек теряет и почву под ногами; я говорю «стыдиться», п. ч. и смирение недалеко от стыда. Религиозно эту мысль можно выразить так: «Наши дела оправданы перед Богом лишь до тех пор, пока мы стыдимся».
***
Разрушение ложных мировоззрений не оставляет по себеничего, т. к. они всегда стремятся к наибольшей возможной цельности и ни на один вопрос не забывают ответить. Поэтому освободить человека от лжи значит не «вернуть его к первоначальному состоянию», но лишить всех и всяческих ценностей. Освобождение обманутых смертельно опасно для них самих. Если прежде у них были ложные, но ответы, дурные, но правила жизни, то теперь они остались в пустыне, где «всё возможно». Прежняя богатая и сложная культура, с ее противостоянием доброго и злого, простого и сложного, с ее возможностями и обращением к человеческой свободе – ушла, к тому же обольщенный «цельным мировоззрением» (каким было, напр., мировоззрение русской революции) и не привык к культуре, основанной на возможностях и свободе. Его учили совсем иному: что на все вопросы есть однозначные ответы; что личность не ответственна за свои поступки; что крайний судья в вопросах нравственности есть государство или, по меньшей мере, общественное мнение… И вот однозначные ответы исчезли; государство ушло; личность обрела свободу – и нам предстало зрелище небывалого нравственного разгрома.
***
Духовное развитие означает постоянную угрозу самообольщения и всяческих заблуждений, от которых почти совершенно освобождает следование инстинктам – ведь инстинкт не ошибается. Различие между духовной жизнью и инстинктом именно здесь. Целеустремленен только дух. Он всегда стремится выйти из состояния, в каком находится, но и платит за эту способностьжелать иного постоянными заблуждениями. Инстинкт не заблуждается, но никогда и ни к чему не ведет. Его можно определить как способность без опытов и ошибок занимать свое место – всегда неизменное. Дух стремится, инстинкт пребывает. Дух ищет неизведанного, инстинкт хорошо знает известное. Завершая сказанное: дух есть путь, инстинкт есть место, и если мы хотим избежать опасностей, мы должны отказаться от пути.
***
Человеку, который хочет сохранить свою душу, самое главное – не становиться в жизни ни на какую «твердую точку». С постановки на эту «твердую точку» и начинается падение – самодовольство, огрубение, «отягчение сердца» – и из существа отчасти земного, отчасти небесного человек становится всецелосуществом земным. Нет ничего для некоторых соблазнительнее, а для иных хуже, чем жизнь, «твердо стоящая на земле». Она хоть и основательна, и крепка, но вся здесь, по эту сторону, всецело основывается на преходящих вещах. Жизнь культуры и духа выглядит призрачной рядом с этой земляной основательностью, но только она приобщает человека к чему-то более основательному, чем его телесный состав. Только тот, кто не строит себе дома, чает грядущего Иерусалима – только тот и остается в истории. Всякий же прочно построенный дом есть гробница своего создателя, на которую, возможно, с любопытством глянут последующие поколения – но не более того.
ІV. Современность и ее верования
***
По отношению к человечеству и себе самому благодушие является пороком. Благодушная вера в «разум» – вера в соборную глупость человечества. «Всё хорошо устроится, – говорит либерал, – только предоставьте людям свободу!» Позволю себе сказать, что я, как и все, нуждаюсь в свободе, нов нее не верю. Мы дышим воздухом, без него нельзя, но всё-таки вдыхание воздуха не цель существования. Так же и с свободой.
***
Наука пытается создать цельное мировоззрение, имеющее опору только в себе самом. В этом она наследует религии и потому с ней враждует. Дело вовсе не в том, что наука «права», а религия «ложна», но в том, что наука не терпит соперниц в делеисключительного объяснения мира из одного корня. Наука не верует в Бога, т. е. не признаёт Его существования, но она не верует и в человека, враждебна человеку, потому что ее цели и святыни не имеют ничего общего с целями и святынями человека. До сих пор не нарушенное обаяние науки объясняется не ее соответствием человеческим чаяниям, но умелой игрой на человеческих слабостях. Как ни относиться к Апокалипсису, в нем содержится важнейшая мысль, замеченная Достоевским: «слава зверю сему – он сводит нам огонь с небеси!» Человечество готово к этому восклицанию, готово к поклонению силе без правды. Наука оказалась такой силой. Глупых она делает богатыми, трусов сильными, как ей не поклониться? Первой своей заповедью она называет «любовь к истине», однако мир предпочитает не замечать, что это любовь к истине без правды, точность без верности, стремление без любви. Наука не признаёт человека, поэтому не понимает, что велик не тот, кто накормит голодного, а тот, кто утешит слабого; улучшение качества жизни, начиная с определенной ступени, не имеет ничего общего с ее нравственным возвышением.
***
– Мироздание устроено так же, как наше общество: всюду слепая борьба за жизнь без Божества и правды.
– Напротив: не природа подобна современному обществу, но наши взгляды на природу отражают устройство нашего общества. Пока это общество признавало не одну только силу, ему видны были и Божество, и правда, и красота в мире. Учение Дарвина, как многое другое в наших взглядах на природу, имеет местное и временное значение. В нем современность находит себеоправдание; думая смотреть в окно, мы смотримся в зеркало. Философия часто служит средством самооправдания; наше не склонное к отвлеченному мышлению время для той же цели воспользовалось наукой. Торжество науки не было бы столь основательным, если бы она противоречила духу своего времени в области целей и выводов, что отнюдь не является невозможным, так как цели и выводы науки определяются человеком: опытные данные только дают для них материал. Общества выбирают то объяснение мира, которое соответствует их природе, но прямой связи с действительным устройством мироздания этот выбор не имеет.
– Сие не ново. Уже Ницше провозгласил относительность всякого познания, но вышло ли из этого что-нибудь доброе?
– Мало провозгласитьотносительность познания, надо еще научиться жить с таким знанием. Если едва ли не все виды знания о вещах привременны и зависят от человека и места, какая твердая почва остается душе? Только почва веры, т. е. убежденности в том, что самое легкое, самое призрачное в человеке – его мечты – вырастает из самой твердой основы; что именно то, чего мы страстно желаем, чего не достигаем, из-за чего боремся – есть важнейшее в мире, важнее познания, богатства и власти. Человек, который разуверился в познании, может искать опоры только в шекспировском материале снов. «Мы созданы из той же основы, что и сны», т. е. наши мечты.
***
Либо человек укоренен в мироздании и человеческие добро и зло имеют опору в мировом порядке, либо корня нет, основы нет, всё в равной мере доступно и всё возможно. В этом случае человеческое общество основывается на призраке, паутине; человеческая личность имеет опору только в самой себе; продолжение мировой истории бесполезно, потому что ее начало было бессмысленно. Таковы последние выводы из проповеди нигилизма; однако нигилисты их не боятся, полагая, что общество, о разрушении основ которого они пекутся, всё же как-нибудь там сохранится и позволит им продолжить безбедное существование. Однако в новом мире, который готовят эти мечтатели, не будет места для них, как и для самой мечты; она будет оставлена на пороге, как и всё человеческое.
Либо человек укоренен в мироздании, и мироздание радуется в человеке, либо дела его призрачны и жизнь основана на паутинке. Принимая одно из этих положений, мы принимаем жизнь или разрушение; среднего между ними нет. Переходное состояние современного общества, в котором видят прообраз наступающей счастливой эпохи, есть только мостик между старым миром и новым; междумиром невидимых ценностей и миром их отсутствия. Жизнь в этом переходном обществе потому еще возможна, что нас охраняют не вполне забытые прежние ценности, и потому так приятна для некоторых, что постоянно, самим своим ходом отрицает эти ценности, давая живущим чувствовать себя нарушителями запретов. Но сладость и острота времени разрушения святынь недолговечна. Разрушающий храмы чувствует себя богоборцем, но уже его сын или внук будет чувствовать себя только тем, что он есть, то есть бедняком на развалинах.
***
По отношению к христианству и всем великим ценностям Запада мы должны быть рыцарями-хранителями идеи, в полном понимании того, что историческая почва для применения этих идей уничтожена переворотами последних времен и едва ли скоро восстановится, если восстановится вообще. Защищать в эти дни Бога и свободу – значит идти против сильного и всё крепнущего течения. На знаменах его, как ни странно, тоже требование «свободы», безграничной свободы. Однако кто исходит из бесконечной свободы, тот всегда заключает безграничным деспотизмом. Достоевский прав. Человечество отказалось по своей воле от великой идеиограниченной свободы, умной свободы, свободы, имеющей цели, и теперь гонится за призраком «полностью освобожденной» от целей и ценностей личности, которая «свободна до того, что уже и не знает, к чему себя приложить, и находит исход своему томлению в убийстве или самоубийстве… Из опыта новейшего времени мы узнали, что и свобода имеет своих рабов.
***
В основе магии и науки – стремление к силе, желание власти над миром. Им обеим противостоит христианство с его верой в неподдающегося воздействию, свободного Бога, Которым нельзя управлять при помощи заклинаний или технических приемов. Христианин свободнее человека магии или науки, потому что он не желает никого поработить. Маг хочет подчинить себе Божество; ученый – природу; только христианин смотрит на мир без вожделения и знает, что дается нам, если дается, толькосвободно и даром. Что получено силой, то бесполезно для получившего. Только отказ от принуждения по отношению к миру и Богу дает внутреннюю свободу.
***
Употребление слова «свобода» оправданно, пока речь идет об утверждении положительных ценностей. Без понятий добра и истины нет понятия о свободе. Кто печется об упразднении истины, выходит из-под защиты свободы; пусть он не огорчается непониманием и преследованиями. Свобода есть условие достижения целей, но сама не цель. Памятником слепому стремлению к ней, пожирающему наше время, может быть безликий, с обрубленными крылами идол, попирающий ногойраздавленного непосильной свободой человека. Вне области духа нет свободы. Там можно говорить только о безразличии, о следовании или, еще хуже, о порабощении стихиям мира. Власть без правды – насилие, свобода без правды – блуд. В последние столетия мы слишком много спорим о свободе, а следовало бы – о правде: ради какой правды вы требуете себе свободы? Современному человечеству нечего ответить на этот вопрос.
***
Есть вещи, которые можноизучать, и такие, каким можно только научиться. Изучают всегда нечто внешнее, враждебное; научаются через внутренний опыт и приведение души в согласие с познаваемым. Научаясь, душа принимает; изучая, – берет. Изучать можно и то, во что не веришь; учиться – только тому, в ценности чего убежден. В иные времена учатся; в иные времена изучают. Мы живем в эпоху, склонную к изучению, – не удивительно, что она ничему не хочет учиться.
***
Наше время не знаетвеликих людей, но только людей, имеющих успех. Величие как будто потеряло под собой почву с тех пор, как для дел и вещей не стало другой меры, кроме успеха. Великим можно быть только относительно другого великого: веры, познания, отваги; когда мерой оценки делается успех, место великих занимают сильные и удачливые, причем не те сильные и удачливые, которые некогда искали успеха у Судьбы, борясь с преградами и опасностями, но те, которые за успехом обращаются к общему мнению, – как будто оно может одобрить что-нибудь, кроме доступного и простого. Область духа – не бесконечная общедоступная низменность: то, что делается в ее долинах, имеет ценность только в виду ее вершин. Уберите из виду вершины духа, и вы обессмыслите повседневность.
***
«Сильные умы» считают человека случайным явлением во вселенной; «слабые умы» видят в ней же общий замысел, в котором и человек занимает свое место. Таков общепринятый взгляд, как его выразил Ницше. Однако внутри него скрыто недоразумение: «слабые умы» оказываются способнее к обобщениям и видят порядок там, где для свободомыслящих только случайность; нет ли тут ошибки? Сила ума, иначе говоря, связывается с его способностью пренебрежительно относиться к человеку; свободомыслие испокон века состоит в том, чтобы видеть в человеке только подверженное гибели животное и лучше всего выражается словами старшего Карамазова: «Умру – лопух вырастет!» Тут мы встречаем препятствие. Если Карамазов-старший – это именно и есть «сильный ум», вершина умственного развития, то – поскольку мы люди, мы должны признать это, – то всё это развитие гроша ломаного не стоит, и лучше б его и не было. Простаявера в человека не позволяет так думать; или, избегая пугающего слова «вера», – нам мешает так думать уважение к человеку. Таким образом, отношение к человеку оказывается камнем, на котором держится всё мировоззрение, весь взгляд на мировой порядок. А так как взгляд на человека основывается в каждом из нас прежде всего на самопознании, то – позволю себе сделать вывод – говорить следует не о борьбе «слабых» и «сильных» умов, но о противостоянии умов, приверженных самопознанию, и умов, которые от самопознания отказались.




