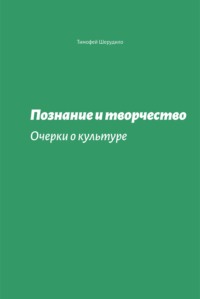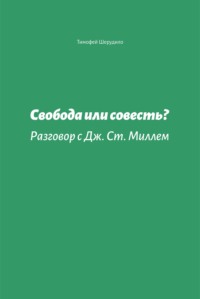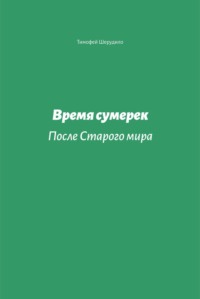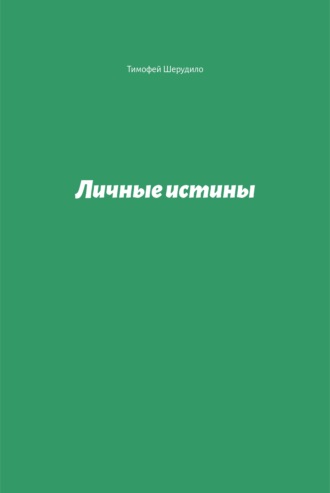 полная версия
полная версияЛичные истины
***
В области мысли мы находимся в положении позднейших последователей Платона. В разреженной религиозной атмосфере мы можем строить свое здание из самого чистого, самого хрупкого материала. Мир религиозных представлений прошедшей эпохи расстилается под нами, как море, – или, скорее, как вечерняя земля, видимая сверху; мы охватываем его одним полетом глаз, что было недоступно нашим предкам, смотревшим на тот же мир изнутри. Мы не можем удержать этот мир от погружения в вечернюю зарю и то, что за ней, но можем дать его последнее, вернейшее и очищенное изображение. Мы вечерняя стража у ворот христианского мира – до следующего восхода.
***
Внешние причины – когда речь идет о творчестве – ничего не объясняют и только служат прикрытием внутренних, душевных причин. Если философские взгляды выводятся из болезней или несчастий мыслителя, то вопрос «почему?» не исчезает, но только меняет звучание: «почему эта болезнь, это несчастье привелиименно к этим мыслям?» В сущности, такие объяснения только переносят ответственность с мало кем в наше время признаваемой души – на внешние обстоятельства. «У него была болезнь глаз, и потому он писал мало и кратко». Болезнь глаз не определяет еще содержания, неотделимого от формы, которую оно себе выбрало. Болезни – или любому внешнему обстоятельству – приписывается способность мыслить. Обстоятельства могут заставить душу мыслить, это правда, но не определяют содержания ее мыслей. Иначе те или иные болезни или несчастья можно было бы рекомендовать всем, желающим стать философами или поэтами: для каждого направления мысли – свою болезнь…
***
Один из пороков т. н. «научной психологии» в том, что всё высшее, как правило, остается за пределами опытного познания. Мир уже полон разгадывателей человеческой души, которые будто бы познали ее до конца и вполне могут ей управлять. Найдя несколько струнок, на которых ищущий власти над душами может безошибочно играть, они не заметили в душе духа. Высшее осталось за пределами познания, да и не могло быть познано: опытное познание гения, религиозности, вдохновения и любви невозможно. А так как всё, что не может быть ей исследовано, наука признаёт несуществующим, тонесуществующим теперь она признала человека. В сущности, против самого понятия человека идет такая же борьба, какую материализм уже давно вел против понятия Бога. Что не может быть познано, то не существует, или даже так: «чего я не понимаю, того нет»; это правило неизбежно требует войны против Бога, затем против человека, затем против всей духовной культуры, как всецело основанной на «том, чего нет» – на духовных ценностях и высших понятиях, не вытекающих из нужд питания и продолжения рода. «Психология» объясняет человека, чтобы его упразднить, в точности как история религии, которая изучает христианство только с той целью, чтобы в конце объявить Христа никогда не жившим.
***
В философии и религии ищут не «утешения», а освобождения. Чем тяжелее эпоха, чем менее свободным себя чувствует человек, тем больше он нуждается в обеих. Говоря о свободе, я имею в виду внутреннюю свободу. Внешне и политически человек может быть сколь угодно свободен, и притом чувствовать себя неблагополучно. «Позна́ете истину, и истина освободит вас», говорит о своей задаче христианство, рожденное в такое же время внутреннего неблагополучия, как наше. Нас теснят отовсюду: в мире, созданном трудами человеческих поколений, человеку не остается места. Все ищут над ним власти и находят всё более совершенные способы эту власть захватить и удержать. Пусть нас не обманывает незыблемая пока личная свобода: пленив душу, нет необходимости порабощать тело, а о пленении души-то и печется наш век.
***
Философская годность определяется силой беспокойства, которое испытывает мыслитель. Никакая «древняя мудрость» нас больше не защищает; старые истины не помогают и не спасают; здание, построенное нашими предками, больше не дает нам укрытия. Прежде можно было прославлять «беспочвенность», стоя на почве европейского культурного мира; теперь мы по-настоящему, в самом деле беспочвенны: почва ушла из-под наших ногвместе с культурным миром. Противопоставление «культуры» и «прогресса» прежде было парадоксом, а теперь решительный факт. Культура и прогресс разошлись, и кто хочет быть с культурой, для того нет радости в техническом развитии, и кто с «прогрессом», для того культура представляет собой отживший хлам. Любить разом «культуру» и «прогресс», иначе говоря, любить одновременно человека и его технику – больше невозможно. Душевная жизнь и культура ретроградны в обществе, в которое мы поставлены. Говорить о таких вещах значит в существующем обществе звать назад, против направления, в каком радостно движется большинство, с которого наконец-то снята повинность душевной жизни, тяжесть совести и ее вопросов, иго личной ответственности – весь строй понятий христианского тысячелетия.
***
Тот или иной отрезок истории проходит не потому, что его упразднил «неизбежный прогресс», но потому, что он не справился со своими задачами. Прошлое может быть осуждено лишь постольку, поскольку, поставив себе задачи, оно не смогло их разрешить. Упразднены могут быть не задачи, но способы их решения. Основное заблуждение судящих об истории в том, что прошлое осуждается ими уже потому, что оно прошло. Достоинства настоящего историк видит в том же, в чем Екклесиаст видел преимущество живой собаки перед мертвым львом. Задачей истории становится оправдание целей и задач современности при небрежении целями и задачами прошедших эпох. На историю силой налагается идея «прогресса», всё чтобы доказать, будто целью всех прошедших времен является современность. Но если история не заканчивается настоящим, то ее цели – если у нее есть цели – находятся за пределами современности, а мы не судьи, но такие же деятели и борцы или страдатели, как и наши предшественники.
***
Либо – и это основной вопрос – мы признаём в человеке божественное, особенно во всём, что его потрясает и просветляет, и не в последнюю очередь в любовных переживаниях, – либо видим в нем только случайность, игру частиц, пар над водой. Современность готова признать в человекепар над водой, но не понимает, чем ей это грозит. Защитники материализма думают, что им всё-таки удастся, развенчав человека, сохранить для себя семейные радости, привязанность детей, счастье иметь родину… Они отвергают главное, но надеются удержать второстепенное. Если ближний твой – только пар над водами, что тебя к нему привязывает? Чем его жизнь ценнее жизни пара? Чем его любовь и привязанности дороже движений ветра? Кто видит в человеке ветер, тот и относиться к нему должен, как к ветру, как к движению воздуха, потоку частиц, из ничего идущему в ничто… Однако же нет: материалисты, как будто бы отвергая всё, надеются сохранить семейную жизнь, или хотя бы радости взаимной привязанности, и охраняющий эти радости государственный порядок, хотя какой же «порядок», кроме определенных физических законов, применим к беспорядочному движению частиц?
Уже второе столетие мы имеем возможность наблюдать людей, которые думают, будто, отвергнув Бога, можно продолжать пользоваться Его дарами. Они возвращают Господу совесть, душу и любовный дар, но хотят удержать при себе закономерно устроенное и человеколюбивое государство, личную свободу и безопасность, охраняемые в свою очередь тем же ангелом, которого они не желают видеть возле своей колыбели и ложа смерти… Богу они хотели бы отдать Богово, а себе оставить кесарево, то есть силу и власть, власть и силу. И общество, над входом в которое написаны эти слова, говорит о себе как о самом просветленном и человеколюбивом в истории!
***
Чтобы привить человечеству «научное мировоззрение», нужно прежде избавить его от духовных потребностей. Чтобы избавить его от духовных потребностей, нужно заменить их какими-нибудь другими, лучше всего – противоположными, то есть материальными. Нужно еще привить емунеобходимую ограниченность, без которой никакое научное мировоззрение невозможно. Удивительно только, что господствующий позитивизм (и это еще в лучшем случае позитивизм; на деле и позитивизм слишком духовное явление для современности) надеется истребить духовные корни человеческой жизни, но сохранить их побеги и цветы и плоды: устроенное общежитие, искусство, человечность и, главное, веру в осмысленность жизни. Как раз искусство и вера в осмысленность жизни и падут первыми, и уже падают, без признания духовной природы человека и независимости его ценностей от мира мертвых вещей. И устроенному общежитию и человечности не на чем станет держаться, потому что из этого здания также вынут краеугольный камень. Ни из какого положительного и научного воззрения на человека не следует, и никогда не будет следовать, что этого человека нельзя обманывать, мучить и убивать.
***
Не так уж трудно показать, что Герцен был неправ и что поклонники «разума» вообще заблуждались, да только отрицательные доводы имеют отрицательную и ценность. Я говорю: «показать», так как в этой области не доказывают: доказательства здесь не имеют веса, поскольку подбираются разумом для убеждения разума же. Спорящие стороны редко задумываются о том, есть ли нашим доказательствам какое-нибудь соответствие в природе вещей, о которых идет спор. Наш опыт, опыт самой недавней эпохи, говорит, чтосилы отвечать на вопросы, возникшие за пределами разума, разум не имеет. Он блестяще разрешает им самим поставленные задачи, помогает добывать пищу, убежище и удовольствие, но перед вопросами душевной жизни теряет голос. Разуму нечего ответить на вопросы души; его область самым коренным образом ограничена, и если мы ищем Правды – не Пользы, – нам остается только рваться за пределы разума и предлагаемых им ответов. Герцен страшно заблуждался; разумно подбирая доводы, я могу доказать это другим людям, но – поскольку Сократ ошибался и «правильно составленные речи» всё же не составляют высшего блага души – что мне в этом доказательстве? Время наше больше не требует доказательств. Вспомним Достоевского: сначала в «Братьях Карамазовых» увидели оскорбление святынь, потом стали видеть пророчество, нам же в них остается видеть только проницательно указанный факт. Да, дело с человеческой душой обстоит именно так, как показано Достоевским, и здесь уже нечего доказывать. Но наше положение от этого не легче. Наше душевное беспокойство – религиозное беспокойство, назову его настоящим именем, – не устраняется тем, что предвидения Достоевского более чем сбылись. Разум – не человек! – действительно существует постольку, поскольку сомневается, и даже видя битву Бога с дьяволом, о которой нас Достоевский предупреждал, разум будет продолжать сомневаться. Сергей Булгаков остроумно и убедительно показал, что «философия Герцена ниже духовных запросов его личности», но душевная борьба Герцена устарела меньше, чем его философия. Те страницы «Былого и Дум», где Герцен расправляется с собственными надеждами, до сих пор современны. Я знаю, душа моя знает, что Герцен вполне ошибается: по выражению князя Мышкина, «скользит мимо чего-то самого главного, как скользят все атеизмы», – однако и на противоположной стороне нет покоя. Если Сергей Булгаков нашел себе прочный камень, на нем же и утвердился, то особенность нашего времени в том, что все прочные камни порасшатаны, утвердиться – не на чем. Можно только искать.
***
Наука предпочитает не обращать внимания на человека. Вернее сказать, в науку принято входить, как-нибудь наскоро объяснив человека и общество, чтобы больше ими не заниматься. Ученый пробегаетмимо человека к своим химии и биологии, а чтобы оправдаться, говорит о душевной и общественной жизни примерно следующее: «Да, всё это прискорбные пережитки средневековья, варварство, животные инстинкты, похоть и жадность, но им немного осталось: разум уничтожит всё это; скоро, скоро кончится предварительная история и начнется новая эпоха…» Человеческая душа – как бы тот колодец, в который, не видя в нем дна и пользы, торопится плюнуть всякий проходящий по дороге познания. Долг исполнен, движущие силы всемирной истории найдены, душевная жизнь объяснена, то есть признана если и существующей, то неважной. Теперь можно заняться настоящей наукой… Человеку дается такое «объяснение», которое избавляет от необходимости что-либо объяснять: остается только дожидаться мирового переворота, начала эпохи, когда восторжествует, наконец, «разум» и будет осуждена как «неразумная» вся духовная жизнь человечества от начала времен. Как и всякое революционное мировоззрение, этот взгляд избавляет от беспокойства и тягостной необходимости мыслить. Все неугодные «разуму», – то есть данной мыслящей личности (такова обязательная подмена, поскольку речь идет о разуме), – явления объявляются «ретроградными» и как бы несуществующими, что очень удобно для отведения требований нравственности, религии и культуры. Необходимо признать, что в основе современной науки – желание, воля, страсть пройти мимо человека и его души, т. е. факт несомненно психологический, а признав здесь психологический факт, можно и развенчать это стремление вместе с его притязаниями на последнюю истину.
***
В наши дни выясняют, какое место в мозгу надо раздражать, чтобы добиться от тела определенного отклика, и это называетсяизучением человека. Высшую человечность видят в том, чтобы человека ни в грош не ставить, но при этом сохранять видимость к нему уважения, хотя вполне уверены, что никакого уважения он не заслуживает. Даже больше: чем более материализм развенчивает и презирает человека, тем более заслуг он видит в сохранении какой-то неестественной, натянутой «человечности». Впрочем, это относится только к тем материалистам, которые бессознательно остаются христианами в своем отношении к ближнему. Материализм новейшего уклада уважает в человеке только потребности тела, так называемые «естественные», поэтому он внутренно демократичен и главную задачу видит в равномерном распределении удовольствий. Бороться с этим направлением бесполезно; оно не заслуживает даже спора; противопоставить ему можно только напряженную жизнь духа и ее плоды – создания культуры. Я говорю: «не заслуживает даже спора», потому что с соблазнителями не устраивают прений. Всякий, кто приглашает человека свернуть с трудного пути на легкий, есть его нравственный враг. Корень нравственности в труде, понимаемом в самом широком смысле; кто не трудится, тот не имеет ни нравственности, ни религии, ему просто, – как я говорил уже, – «не о чем молиться».
Заявляя это, я и в мыслях не держу спора с материализмом. По словам одного мудреца, «истин много, как листьев в лесу». Каждая истина ведет человека по своей особой дороге так далеко, как он только может зайти, и приводит к особенной и только этой истине присущей цели. Личное развитие – плод постоянной борьбы и внутренних решений, каждодневный выбор пути, определяемый всеми прошлыми предпочтениями. По-настоящему девственны, т. е. поддаются убеждению, только те люди, которые ни разу в жизни не предпочли одну истину другой. Они находятся на исходище путей и могут быть увлечены в любую сторону. Все остальные, кто выбрал хотя бы раз, идут по дороге своих истин, чтобы в конце испытать их годность. Истины – закончу на этом – даются человеку не затем, чтобы на них успокоиться, а затем, чтобы ими жить, выбрав один раз со всей страстью, и дойти по своему пути до конца. Истины, которые не выдержали такого испытания, уходят из мира; истины, путь которых нам удается пройти до конца, остаются.
***
Значительная область в современной душе и культуре занята серым, ни туда, ни сюда не относящимся туманом, одинаково удаленным от ума и от чувства, – область посредственности. Посредственность – определяющее слово для нашего времени. Я даже думаю, что есть внутренняя связь между культом посредственности, демократическим мировоззрением – и дарвинизмом в науке. Человеку в философии уделяют так же мало (или ровно столько же) значения, как и в общественной жизни. «Научное мировоззрение» с его принижением человека только отражает демократическое общественное устройство с присущим ему презрением ко всему, что возвышается над средним уровнем. Обществу нужна вера в то, что его идеалы имеют космическое обоснование; в то, что во Вселенной нет ничего высшего, чем «средний человек», как и в то, что «средний, рядовой, незаметный» – прилагательное, подходящее не только к винтику демократической избирательной машины, но и к роду человеческому. Общество строит себе мировоззрение по собственному образу и подобию, и цену этого «последнего и окончательного» мировоззрения не стоит преувеличивать. Оно пройдет. Я боюсь только, что мы,сомневающиеся и свободные, пройдем вместе с ним…
***
По поводу соотношения пола и духа надо сказать: почему-то, где возвышен один – возвышен и другой. Ненасытность в области пола как-то связана с вечным алканием в области духа, как будто то и другое выходит из одного и того же источника, как будто пол и дух – два потока в водах одной реки… Попутно замечу, что фрейдизм совершает в этом отношении ту же ошибку, что общераспространенная форма дарвинизма. В одном случае говорят, что человек произошел от обезьяны, в другом – будто дух есть производная пола, тогда как действительное отношение между этими вещами (как мне кажется, во всяком случае) – наследование общему предку. Пытливость в области пола называется чувственностью. Пытливость в области разума не имеет такого пугающего имени и обычно считается благородной. А что, если та и другая имеют одинаковое происхождение? – Человек, может быть, и в самом делецелен, но только основа этой цельности лежит глубже таких сравнительно доступных наблюдению вещей, как пол и разум…
***
Новейшее время пожертвовало глубинной душевной жизнью ради «разума», т. е. самого поверхностного слоя личности, руководящегося трезвым рассуждением, а не чувством. В ясности разума увидели спасение от неотчетливости «души», но – странное дело! – оказалось, что все сколько-нибудь сильные душевные движения как разнеотчетливы, а ясные разумные побуждения обыкновенно слабы. Грубо-упрощенно можно сказать, что внутри личности есть область сил и область намерений; силы исходят всегда из глубины души, они неотчетливы и мощны; намерения идут от разума, они ясны, сухи и легки. К тому же еще область намерений постоянно обманывается; склонность к самообману можно назвать ее основным отличием. Паскаль говорил: «la raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses» 29 . Все ценности имеют своим источником темную душевную глубину, происходят совсем не из наших дневных намерений, и одни только намерения, как бы хороши они ни были, не могут снабдить человека и человечество ценностями, пригодными для того, чтобы с ними жить. Защищаться от последовательности собственного мышления иногда не лишне. Доходя до логического предела, наши мысли исчерпывают не истину, а только нашу способность мышления, и чаще всего именно предел человеческого разумения выдается за предельную крайнюю истину.
***
Некоторые верят в то, чтосила и деньги, закон и капитал, могут заменить все высшие отношения между людьми. В этом предельная слепота к человеческому. Я в это попросту не верю, и не поверю даже несмотря на видимость всеобщего преклонения перед деньгами и силой. Этика, т. е. область действия любви и совести, не упраздняется ничем. Она может быть только забыта, пренебрежена, но – как всякий «камень, который отвергли строители» – она о себе еще напомнит. Бесполезна всякая попытка устроить человеческое общежитие на началах, чуждых любви и совести, особенно же на началах так называемого «разума», кумира, у которого находят прибежище все те, кому любви и совести недостало. Самый «совершенный» общественный порядок, если он создан людьми, не умеющими стыдиться, душевреден и пуст. И это не значит, поверьте мне, что несовершенные общественные порядки, порядки, в которых закон и деньги имеют меньшее значение, лучше, чем порядки, учрежденные «разумом». Просто чем дальше от разума, тем больше значат для человека любовь и совесть; чем дальше от «разума», тем ближе к Богу. Разум осуждает «чувства», но можно осуждать «сентиментальность», как неумеренное и неуместное расточение чувств на нестоящие их предметы, и всё же не быть бесчувственным. Сентиментальность размягчает душу, самоцелью делая получение всё новой пищи для чувств; жизнь, таким образом, делается только рядом поводов для того, чтобы испытать приятную расслабленность или, напротив, нервную щекотку; но бесчувственность создает полную противоположность типу «сентиментального человека» – бесчеловечного деятеля, прокладывающего себе путь в совершенной пустоте, как если бы кроме него в мире не было ни одного человека.
***
Вобласти человеческого кто не приобретает, тот расточает. Это опасный путь и мы прошли по нему достаточно далеко. Нужно помнить, что, поскольку, вообще говоря, можно быть либо человеком, либо скотом, то всякое отступление от человеческого ведет неизбежно к скотскому. Вопрос в том, насколько широко мы трактуем «человеческое». Я бы сказал, что человеческое кончается там, где начинается сознательное следование второстепенным, служебным ценностям, которые сами по себе цены не имеют, но только необходимы для чего-то большего. Поиск наибольшего числа удовольствий уверенно выводит за круг человеческого. А вот любовь – нет; напротив, влечет нас к центру. Любовь, творчество и еще красота – пожалуй, главные вещи, которые придают жизни осмысленность, а душе – желание жить. Все они как-то связаны, и кто признаёт одно, признаёт их все, а отрицающий что-то одно из этого ряда отрицает и весь ряд. Чувство правды всегда приходит и уходит вместе с чувством красоты. Либо вещи прекрасны и осмысленны, либо безобразны и лишены смысла. Взгляд, привыкший во всем видеть безобразное, не увидит и правды. Таким образом, эстетика оказывается неотделима от – в последнем итоге – религии и философии, а говоря житейски, от целеустремленности и осмысленности жизни, ведь только осмысленная жизнь может быть целеустремленной. Где нет целей, где не к чему стремиться, там нет и смысла.
***
Свободный ум сегодня не тот, который идет «впереди всех», но тот, кто идет уединенной дорогой, в стороне от общего пути. Это совсем не приятная свобода игривых кощунств и легких проступков против совести… но путь к новому бремени, тому самому, о котором сказано: «иго Мое благо, и бремя Мое легко», к бремени высокой культуры – подчинения человека Духу. Культура – постоянное самообуздание, упражнение воли, стремление к высшим целям помимо низших. В культуре нет ничего «естественного»; она вся плод искусства. Когда говорят: «современность предпочитаетпотреблять культуру, и с ее вкусами нужно считаться», соединяют несоединимое. «Потреблять культуру» никак невозможно, ее можно только создавать и поддерживать. В области духовной жизни «кто не собирает, тот расточает». Вычеркнуть хоть одно поколение из череды культурного роста значит обделить потомков, что, кажется, и происходит. Внутри современной культуры вырабатывается новый человек: он не читает и не пишет, но только говорит и слушает, или, если угодно, смотрит. Следовало бы еще прибавить: «и не думает», не только не читает и не пишет… Убывание грамотности – черта эпохи, эпохи утраты письменной речи. А ведь письменная речь, как высшая разновидность речи, – не только средство, но и канва для выражения мыслей. Мы не можем помыслить то, чего совсем не можем выразить. Упрощенные способы выражения мысли упрощают мысль. Упразднение письма, если оно когда-то произойдет, будет означать и упразднение мышления, как мы его знаем… Каково будет человечество, окончательно переставшее читать и писать, трудно представить. Можно только предположить, что умственная жизнь (в той мере, в какой она еще останется) станет в основном жизнью чувства, ощущения для души станут важнее мыслей… И места книгам, а особенно книгам, будящим мысль, в этом мире больше не будет.
***
«В мире, – говорят, – нет красоты; красота – обман, мечта; истины безобразны, как мир, их породивший, и как принимающий их человек». Дело здесь, думаю, не в мире, а в нашей обобщающей способности. Малая способность к обобщению извлекает из мира только ложную красивость, которой действительно в вещах и людях нет, стремиться к ней невозможно; а вот достаточная сила обобщения извлекает на свет настоящую красоту, в людях или вещах. Нежелание мира видеть красоту – скорее неспособность – говорит о сугубом душевном неблагополучии. «Мы встали рано, обошли площади и улицы, но нигде не обрели красоты!» – так ведь не говорят современные люди, а говорят совсем иначе: «Мы знаем себя и дела свои, нет в них никакой красоты, а раз там ее нет, то и нигде быть не может». Чего в нас нет, того нет и в мире, и чего мы не понимаем, того в мире не может быть; таково это самодостаточное мировоззрение. Поклонникам «дневного разума» следовало бы изъять из мира сны, предчувствия и понимание без слов. Тогда их цель будет достигнута, мир станет вполне прозрачным и бессмысленным. Но сделать этого они не могут.