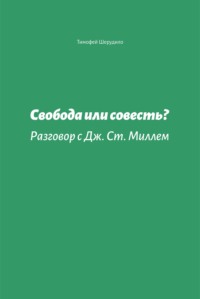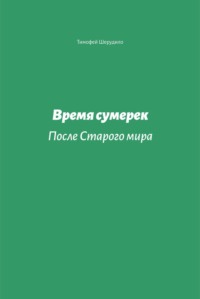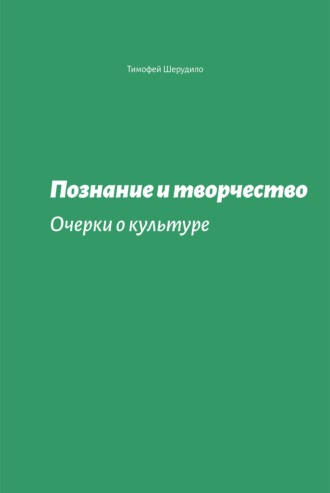 полная версия
полная версияПознание и творчество. Очерки о культуре
Что такое ценности, наша эпоха также давно забыла. Мера этого забвения – требование «критического обсуждения», без которого не может быть принято и самое малое. За одобрением ценностей идут к разуму – к той самой силе разрушения, которая из всякого сложного делает простое. Однако действие разума на вещи известно – он разрушает всё, к чему ни прикоснется.
Ценность, в первую очередь, естьнерасторжимое единство, в котором нечего «критически обсуждать», и которое можно только вполне принять или вполне отвергнуть. «Критическому разуму» нечего сказать о ценностях, п. ч. все они, кроме самых низменных, не имеют разумного происхождения. Даже если разум в борьбе со старыми ценностями объявляет новые – и эти «новые ценности» так же произвольны и внеразумны, как предыдущие. Ни одна ценность, это надо подчеркнуть, не может ответить на вопрос: «Почему?» Если поклонники «критического мышления» думают, что есть некий предел, за которым начинаются ценности «положительные», «подтверждаемые разумом», одним словом – доказуемые, то они ошибаются: таких ценностей в природе нет.
На пути творчества мывынуждены из потока простых событий извлекать сложные представления, создавая тем самым культуру (начиная с ее первоисточника – религии), и мы не можем остановиться, если не желаем разрушения собственной душе. Вдохновенный поэт – искатель истин, человек, который зажигает огонь на высокой башне, но, не в силах жить постоянно в свете этого огня, уходит в темноту и горько жалеет о своей неспособности жить в свете. Поэтический дар сопряжен с постоянными изменами скрытой в поэзии Истине. Поэт – не святой; его художественное чутье достаточно сильно для того, чтобы узнать истину, но не для того, чтобы ей следовать; он, если так можно выразиться, любит свет, скитаясь во тьме.
Но неужели всякий поэт – действительно «производитель ценностей»? Конечно, нет. У творчества есть свои ступени. Художественное чутье ведет творца всё выше – или всё глубже? – и рано или поздно он достигает необходимой внутренней ясности и глубины, достигает – но не может их сохранить. В действительности, поэзия начинается не с этого и не обязательно к этому ведет. Поэт, как и всякий человек, вовсе не обязательно идетвперед и вверх. Его отвлекает множество вещей: заботы, желание успеха и сам успех; его стремление к ясности и чистоте – если уж оно проявилось – соперничает с жаждой полноты жизни, самоистребляющей жаждой… Но всё же путь настоящего поэта – путь мудрости, если даже он и не в силах удержаться на этом пути. Может показаться, что я рисую образ Пушкина – истинного Пушкина, а не того, какой известен школьнику и Писареву. Но Пушкин – только великий пример, образец, но не исключение.
Поэт находит ценностии уходит от них, и снова возвращается, и опять уходит. Отношение его к собственным ценностям есть постоянная измена. Но не будь этой цепи измен, мы бы многого о себе не знали. Хотя поэт и не всегда пророк, и почти всегда не святой, он знает настоящее откровение, хотя говорит оно чаще всего не о божественном, а о человеческом. Истины поэта суть истины о человеке, и чем глубже поэт, тем ярче на них отблеск божественного. Поэт не заменит нам пророка, не научит нас искать Бога, но расскажет о том, как сам искал Его, и без конца терял, и снова искал…
Поэт – изменник. Всякая по-настоящему пленительная поэзия есть нескончаемая цепь измен.
X. Совершенное общество
Культура, как и многие другие достойные вещи, возникаетиз разделения. В обществе слитном, однородном, свободнопроницаемом нет для нее условий, а именно: плодотворных различий. Свободное движение мыслей и чувств, столь дорогое нашему времени, само по себе способствует не развитию культуры, но только распространению плодов развития, бывшего прежде. Великие культурные державы современности не потому таковы, что свободны и богаты (обычное заблуждение русского ума). Существующими культурными запасами мы обязаны прошлому, в котором и свободы, и богатства было значительно меньше, чем в наши дни. Это общество человек наших дней даже не в силах назвать «процветающим». Государственная власть в нем была слаба; техника неразвита; просвещение ничтожно или, во всяком случае, неравномерно. Однако это общество оставило нам запас мыслей, которым мы будем жить до тех пор, пока вовсе не перестанем мыслить. Как это может быть? Что такое «великая в культурном отношении» держава? Что такое «культура»?
Под «величием» (все мы знаем) наше время понимает количество и совокупную мощность машин, применяемых как для производства, так и для уничтожения (причем последние в любой «великой» державе современности неизмеримо сильнее). Великая держава та, у которой достаточно сил для того, чтобы уничтожить соседей или, по меньшей мере, внушать им возможно более сильный страх. «Культурная» держава в наше время та, которая обладает достаточным штатом обученных технических специалистов, необходимых для обслуживания машин производства и уничтожения. В массовой подготовке этих специалистов и состоит в наши дни дело просвещения; остановись колесница просвещения – остановится и производство, а с ним – жизненные удобства. Конечно же, всё не так просто, и под «культурой» понимают, как правило, и некоторые правила общежития, сводящиеся к тому, чтобы – говоря по-детски –жить весело и без обид. Против этих правил я ничего не скажу, они хороши, необходимы и являются частью всякого верно устроенного общества. Однако сама по себе культура древнее, первобытнее всяких правил безболезненно, удобно и приятно устроенной жизни.
Что же она? Скажу так:культуру производит желание обладать постоянными и воспроизводимыми отличиями. Там, где человек не отличается от человека ничем, кроме природных различий, культуры нет. Чтобы она появилась, необходимо желание быть особенным. Этого может желать отдельная личность или целое общество, и там, где мы видим устойчивую и воспроизводимую непохожесть, мы видим культуру. Эта непохожесть может быть свойственна определенному классу лиц; или определенному обществу; или целой стране – в действительности множество «непохожестей» налагается друг на друга, определяя лицо стран и народов. Где нет различий, нет культуры.
Впрочем, разнообразие как таковое, сколько его ни поощряй, не способствует высокому развитию личности или общественной культуры. Для личного и общекультурного подъема необходима определенная этика, которую я бы назвалэтикой преодоленной трудности. Понятие о благородстве всегда связано с понятием о труде, об усилиях, затраченных на преодоление неких препятствий. Благороден, достоин, изящен, ценен – называйте как вам угодно – тот, кто потрудился и преодолел. Все достоинства развитой культуры, будь то поэзия, или общественная жизнь, или личная нравственность, происходят от этой этики преодоления, выражаемой словами: «Хорошее трудно». Человеческой деятельности важно поставить препятствия, в преодолении которых личность станет сильнее и чище – сильнее, потому что приучится к упражнению сил ради достижения целей, чище – потому что научится отбрасывать ненужное в погоне за ценным. Рыцарство, поэзия, личная этика… Широко, просторно, привольно, беспредельно «развиваться» означает, иными словами, расти как трава в поле. Только сковывая волю ограничениями, только осложняя желания препятствиями, только исключая одни цели ради других, более ценных, мы достигаем высшего развития. А как же свобода? Свободы люди заслуживают в меру ценности своих целей.
Общественное развитие нескольких последних столетий, направлявшееся исключительно волей ко всё более чистой и незамутненной свободе, открыло нам загадочное противоречие: можно желать или свободы, или культуры; или свободы, или нравственности; или нравственности, или процветания торговли; или культуры, или роста производства;но никоим образом нельзя ожидать процветания и того, и другого. При внимательном рассмотрении оказывается, что благотворное действие свободы, если оно и есть, сугубо избирательно… Не могу сказать, чтоб это было удивительно. Свобода, по своему существу, есть отсутствие ограничений. Есть, однако, целые области человеческой жизни, и даже очень важные, в которых отсутствие ограничений губительно. Религия, культура, нравственность влияют на человеческую личность в первую очередь посредством запретов. Всякое высшее развитие личности идет путем самоограничения. Всепригодна ли неограниченная свобода? Нет. Что нужно Алкивиаду, то бесполезно Сократу. Во многих делах мы не можем следовать своим желаниям; мы не можем верить себе – от школы и до могилы. Но если воспитание – всегда насилие над природными склонностями, если культура есть путь запретов, тогда противоположностью свободе является не «рабство», но культура.
По-видимому, так оно и есть. Свободное общество, как мы его узнали, есть общество угасающей, уходящей за горизонт культуры, и в то же время обществогражданского мира, мягкой и удобной земной жизни. Совершенный механизм этой жизни, наконец-то найденный Западом, есть механизм совершенно непрозрачный, через который перестает просвечивать небесное. Земная жизнь становится сплошь искусственной, плотной, со всех сторон закрывающей горизонт. Чем благоустроеннее мир сей, тем меньше в нем места человеку с его врожденными, беспричинными, ненужными высшими побуждениями, чувствами, стремлениями и мечтами. Чем благоустроеннее жизнь на земле, тем больше желание от нее убежать – в мир трудностей, препятствий, стремлений, надежд… Совершенному обществу нет надобности в человеке – существе, которое может больше, чем ему нужно, и хочет больше, чем может, существе вечно недовольном и ненасытном. Что обещает «совершенное общество»? Что больше не будет алчущих и жаждущих; что больше не будет стучащих и ожидающих, что им откроют; что больше не будет ищущих и находящих – потому, что каждый будет доволен своим уделом и во веки веков не захочет иного. Общество всеобщего благополучия предлагает конец истории, венец, к которому пристроить ничего высшего уже невозможно – разве только найти способы еще более совершенного и удобного удовлетворения потребностей… Совершенное общество и человечность (понимай: религия и культура) расходятся невозвратно. В известном смысле демократия – родная сестра революции. За исключением отвращения к мясной пище, она разделяет вкусы сестры, хотя не имеет ее великих планов, и потому более безжалостна к личности, ее стремлениям и надеждам…
За словами Милля и иных либеральных мечтателей видится какой-то сверкающий механизм, крутящийся беззвучно и ровно. Однородное общество (о нем-то и мечтали либералы и социалисты) – сильное общество. Его не ослабляют внутренние разделения; напротив, всех его граждан воодушевляет одно… Однако это единство неплодотворно. Подумайте о человеке с единственной мыслью в голове. Неслучайно «общество равных» – общество в некоторых отношениях необыкновенно консервативное. Будучи бесплодно, оно ожесточенно защищает свой ветхий набор отрицательных ценностей («свобод») и даже утверждает, что эти ценности суть венец , конечное достижение мысли, дальше которого пойти нельзя. Такое же исключительное значение придается построениям современной научной мысли: они объявляютсяпоследними истинами о природе. У науки, кажется, совсем закружилась голова… Она хочет править человечеством, не предлагая ему не только веры (если не понимать свойственный многим людям науки нигилизм как «религию пустоты»), но и совокупности целей, повелений и запретов, которыми можно руководствоваться в вещах повседневных, не имеющих отношения к конечным целям и упованиям человеческой души.
Освободите личность от обязательныхцелей, ценностей и запретов, и вы получите общество благополучное, избавленное от всех или почти всех внутренних трений, однако не приспособленное к производству нематериальных ценностей. Именно такое общество, освобожденное от всякого намека на борьбу, включая борьбу идей, мы и наблюдаем: богатое и довольное, сильное материально и вялое, дряблое в отношении всего, что находится выше довольства и покоя, голода и жажды, сытости и удовлетворения. Совершенное общество пожрало личность и дало ей давно обещанный покой.
XI. Сила Запада
Русский взгляд, устремляясь на Запад, видит в нем, как правило, какое-то одно начало, одну черту, которая затмевает все остальные. Современный западный мир определялся когда-то как «буржуазный» или «капиталистический» (враждебно), определяется ныне как «рыночный», «свободный», «демократический» или «либеральный» (с восхищением), но всё это односторонне и чересчур просто.
Не без основания главной чертой западного порядка называют свободу. Однако это не та свобода, о какой мечтают в России. Основные черты западной свободы таковы: равенство возможностей в пределах ясно очерченного круга дозволенного. Могущественное, почти всесильное государство стоит за этим мягким и уютным обществом. Свободы в русском, т. е. анархическом понимании в этом обществе не так уж много: государство ведет гражданина по дороге законных и полезных трудов, прибылей и расходов, не позволяя ему сворачивать направо или налево. «Зарабатывай и трать», – говорит Государство человеку, – «и твой гражданский долг будет исполнен». Независимость личности ограничена весьма тесными пределами, узость которых не замечается только потому, что все сильные общественные движения отошли в прошлое, сама личность значительно измельчала и не задает неудобных вопросов, не ищет большего, чем может получить. Умиротворенное общество – удивительное зрелище: там, где еще сто лет назад были широкие политические движения, множество недовольных и скептиков, мы видим удивительную сплоченность, единство мнений, одобрение всего сущего иполное отсутствие политической оппозиции. Политическая деятельность в старинном смысле этого слова, как состязание намерений и убеждений, как будто отмерла; она сводится теперь к рациональному управлению тщательно отлаженной государственной машиной… Но я говорил о свободе.
«Свобода» в чистом виде – вообще условность, нечто не существующее на свете. «На свободе» может вырасти только животное, да и то, его свобода не так широка как нам кажется. Общество в своих еще дочеловеческих первоосновах означает иерархию, соподчиненность, неравенство. Есть два вида неравенства: по природе и по положению. И то, и другое можно скрыть, но нельзя уничтожить. Демократия ополчается против обоих. Природное неравенство угашается единообразным воспитанием, образованием (вернее, полуобразованностью), господством вкусов и мнений большинства во всех областях. Неравенство положения пытаются скрыть, говоря: «Все люди равны, и если одни приобретают власть над другими, то временно и по соглашению с согражданами». Это, разумеется, ложь, п. ч. за видимыми «временными» привилегиями скрываются невидимые устойчивые основания этих привилегий. Оставляющий выборную должность политик не отправляется на свое поле или в свою мастерскую – он занимает новую должность. Здесь разница между «демократией» новейшей и древней. Или правят все, но по очереди, или некоторые, но постоянно: так понимали древние разницу между демократией и другими порядками. Потому древнее народоправление и было столь неустойчивым: оно не желало, чтобы у государства была крепкая и постоянная опора, будь то царская власть или аристократия. Современность решила этот вопрос иначе: сохранив демократические формальности, она создала, так сказать, «невидимую элиту» – избранный слой, поставляющий государству правителей. Сила этой элиты исходит не от государя, не от древности рода и благородных преданий, не от личных заслуг. Опора ее и источник власти иные: деньги.
Дело, однако, не в том, что у западного общества есть верхний слой, поставляющий правителей, дело в том, каким способом он образуется. Деньги и даваемые ими преимущества – слишком шаткая основа для создания аристократии. Кроме того, всякая настоящая «аристократия» сильна не своим исключительным положением, но своей идеей. Идеей всех аристократий, думаю, является служение государству, как бы ни отклонялись от этой идеи отдельные лица. Даже большевики строили свой «орден меченосцев» (как называл партию Дзержинский) на идее служения, хотя эта скороспелая элита оказалась весьма неудачной. В наши дни общественная деятельность неотделима от совсем другой идеи: идеи личного благосостояния.
Либеральное общество лишило гражданина возможности приобщения к высшей культуре, высшим удовольствиям и вкусам – невозможно ведь отрицать, что уравнительство, «демократизация» означает исчезновение крайних точек, вершин и низменностей, равнение на средний уровень. Однако технические возможности этого общества позволили не только накормить голодных, но и внести в жизнь средних классов то, что прежде считалось роскошью. На этом и основался новейший союз государства и граждан: всесильное государство дало массам процветание – и «борьба за свободу», которая на самом деле была не более чемборьбой ради равенства, немедленно прекратилась.
Но есть и другая сторона. Общество, которое предпочитает называть себя «демократическим», на самом деле им не является – потому что демократия старого, античного образца в наши дни невозможна. На самом деле, видимость «народовластия» создается при помощи класса наемных политических представителей, поставляемых высшим общественным слоем. Не думаю, что своим благополучием Запад обязан деятельности этих личностей. Дело в другом. В последние столетия на Западе действительно произошел политический переворот, но смысл его был не в передаче власти «народу», а в создании совершенного общественного механизма, независимого от воли отдельных личностей и рассчитанного, это надо подчеркнуть, на достаточно низкий уровень общественной нравственности. Различие между старыми и новыми общественными формами именно в том, что одни ожидают от правителей рассудительности и благородства (и часто ошибаются), а другие рассчитывают на их посредственность и малопригодность (и достигают цели). Коротко говоря, разница между старым и новым порядком определяется разницей взглядов на человеческую природу. Странным последствием этой «политической трезвости» явилось заметное падение нравов, как среди управляющих, так и среди управляемых. Не ждать благородства – то же, что побуждать к низости. Так и случилось с «трезвой» и «рассудительной» политической системой новейших времен.
Итак, силу Запада составляет не «демократия», которой нет, но разумно устроенные учреждения, сущность коих в том, чтобы предельно ослабить влияние личности на ход государственных дел. Существующий порядок, исходя из наихудших представлений о человеческой природе, ставит преграды всякой злой воле – до такой степени, что государственная машина продолжает работать даже тогда, когда ей управляют люди беспомощные и ничтожные. Именно эта машина является главным достижением новейшей Европы. Когда России советуют установить «демократию», ей дают дурной совет, совет от ложного друга. Будет в России демократия или не будет в России демократии, это ничего не изменит, как не изменится вдруг судьба Америки или Европы оттого, что массы перестанут «отдавать голоса». Есть два порядка: один зависит от лиц, другой от учреждений. Первый, условно говоря, монархический; второй, также условно, конституционный. Оба могут быть хороши, но первый более требователен к личности, приносит отличные плоды при хорошем управлении и прескверные при дурном или легкомысленном, тогда как второй всегданеплох, звезд с неба не хватает, но и ниже определенного уровня не падает. Предлагать стране некоторую «демократию» вообще – весьма легкомысленно, т. к. избирательное начало, общественное самоуправление (к которому и сводится всякая действенная и осмысленная демократия) уместны как при одном, так и при другом строе. Даже более того, для страны, не имеющей ни хорошего монарха, ни хорошего управления (т. е. ни пригодной личности, ни добротных безличных учреждений), «демократия» сведется только к пресловутой «всеобщей подаче голосов», которая будет прикрывать самое обыкновенное хищничество всякого рода «сильных людей», что мы уже и видели во времена так называемых демократических реформ.
Другое расхожее представление: источником силы западных стран является т. н. «плюрализм», терпимость к любым мнениям, какими бы они ни были неосновательными или отталкивающими. Терпимость эта предлагается как образец и странам, стоящим за пределами западного мира. Не принято однако задумываться о том, что прославляемый «плюрализм» есть только неприменимая к действительной жизни условность. Только в освобожденном от внешней и внутренней борьбы и угрозы обществе может появиться мысль о какой-то безграничной терпимости. Трудности, с которыми встретился современный Запад, говорят о том, что он бессилен против сколько-нибудь заметной внешней или внутренней угрозы и неспособен к действенной борьбе. Еще хуже: для того, кто добросовестно и окончательно принимает принцип «терпимости», никакая борьба вообще невозможна. Что означает «терпимость»? Что истины нет, но есть только частные мнения. Разумеется, о мнениях, то есть вкусах, не спорят. Но поскольку проповедующее терпимость государство решается на борьбу, даже вооруженную борьбу, оно вступает в противоречие с самим собой. Нельзя поднимать оружие, если нет истины, а есть только мнения. Ради мнений нельзя убивать. Если же мы признаём возможность и необходимость убийства, мы признаём и то, что борьба идет за что-то более высокое, чем простые мнения и самая жизнь: ради истины. Но «плюралист» не верит в истину и потому не знает, за что он воюет, и следовательно, воюет плохо.
Говоря о Западе, мы думаем прежде всего о процветании, высоком развитии техники, свободном предпринимательстве, уравнительной демократии, «терпимости» и «правах». Повседневное мышление предпочитает связывать все эти черты западного общества, говоря, например, о «демократическом капитализме». Нередко мы слышим: «Запад велик и богат потому, что привержен демократии и многообразию мнений». Я говорил уже, что эта связь искусственна; что богатство былопрежде неограниченных свобод и всеобщего избирательного права; что свободы и права только уменьшили внешнее различие между властвующими и подчиняющимися, защитив последних от чересчур явных обид.
Думаю, этот список желанных благ следовало бы разделить на две части, в зависимости от того, о чем идет речь:о фактах или о представлениях. Выводить одно из другого было бы неверно. Разделив эту будто бы единую цепь, мы увидим два ряда вещей: во-первых, процветание, высокое техническое развитие, свободное предпринимательство; и во-вторых, уравнительная демократия, «терпимость», «права и свободы». Понятия первого ряда говорят о том, чем Запад является; второй ряд свидетельствует о том, чем Запад себя представляет. Общего между ними немного. Первый ряд говорит нам: «Мощное, централизованное, рационально устроенное, основанное на высоком развитии и обширном применении техники общество, пользующееся неограниченной свободой изобретения и предпринимательства». Может быть, я в самом деле слишком близорук, но я не вижу здесь ни тени «демократии» и «плюрализма». Место этих понятий во втором ряду, который я прочел бы так: «Общество смягченных противоречий, в котором чересчур явным обидам и злоупотреблениям поставлен предел, а личность защищена как от влияния высшей культуры, так и от покушений на свою независимость – в известных пределах, насколько это не противоречит государственным интересам, и участвует – более или менее успешно – в местном и общегосударственном управлении».
Может показаться странным, что я поместил «демократию» – казалось бы, несомненный факт – в области «представлений». Причины тому указаны выше. Всеобщая подача голосов еще не означает участия народа в решении государственных вопросов; вопросы эти решаются классом наемных политических представителей, видимым образом связанных со своими избирателями, а невидимым – с интересами темных, неизвестных публике сил. Западная демократия всецело принадлежит к области представлений, как и почившая в Бозе демократия социалистическая. Ее сила не в действительном участии народа в политической жизни (этого нет), но в уравнительном принципе, требующем равного отношения к мнению выдающегося ума или тупицы, то есть в пресловутой «терпимости».
Хорошо или плохо такое общество, решать не мне. Опираясь на столетиями накопленное национальное богатство, пользуясь плодами неограниченной предприимчивости, используя освобождающую человеческие руки технику, это общество способно дать народам если не счастье, то благополучие – лишив их, однако, веры, культуры, нравственных ценностей и личной независимости. В прошлом осталось та истинно великая Европа, которая сочетала предприимчивость и подвижность с нравственными и культурными ценностями былых веков, которая пользовалась техникой, а не служила технике; которая становилась всё сильнее и сильнее, но еще не поклонялась силе… «Умиротворенное общество» наших дней пользуется накопленным предками капиталом: само оно, к сожалению, ничего не оставит потомкам.