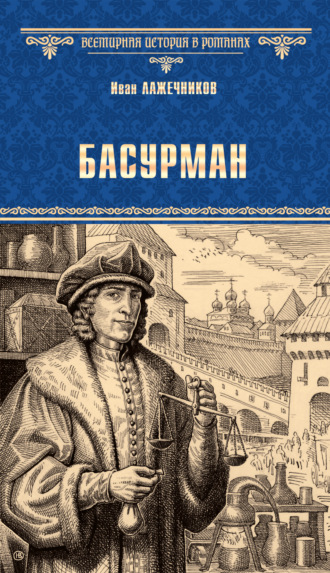
Полная версия
Басурман
Ночь, а не спят обитатели бедного замка! Видно, кого-то поджидают.
Раздался звук рога, и тот перехвачен ветром. Никто не слыхал, кроме девушки.
– Батюшка! – сказала она, порвав свою прядь. – Якубек приехал.
И служитель привстал во всю высоту свою. И старушка, отделив голову от спинки кресла, обратила к небу взоры, исполненные слез. Все в комнате стало ожидание.
Опять заиграл рог, но резче и живее прежнего, и на этот раз взял верх над неугомонною стихией.
На всех лицах означилась душевная тревога; грудь девушки заволновалась.
– Что ж не посветишь ему, Ян? – сказала старушка.
– Остолбенел от радости, госпожа баронесса! – отвечал служитель и спешил поднесть к огню светильню железной лампы, налитой жиром, которую успела подать ему девушка. Но приезжий, видно, был не мешок: дверь отворилась, и вошел в комнату малый лет двадцати, пригожий и проворный. Взгляд любви на девушку, поклон баронессе Эренштейн (так звали владетельницу бедного замка), мокрую шляпу и большие рукавицы с раструбами в ноги к своей любезной, рог с плеч долой, и начал расстегивать лосиную броню, ограждавшую грудь его.
– Все ли здорово, наш малый? – спросила баронесса дрожащим голосом и, если б не боялась унизить свое рождение, готова была броситься на шею вестнику.
– Слава богу, милостивая госпожа, слава богу! Поклонов от молодого господина несть числа, – отвечал приезжий. – Только ночь хоть глаз выколи; едешь, едешь и наедешь на сук или на пень. А нечистых не оберешься на перекрестке у Белой горы, где недавно убаюкали проезжих: так и норовят на крестец лошади да вскачь с тобою. Один загнал было меня прямо в Эльбу.
Старый служитель покачал головой, давая ему знать, что он болтает вздор.
– Ты прочел бы молитву Пресвятой Лоретской Деве, – перебила баронесса.
– Молитвами Богородицы и спасся я от купанья… Когда бы не ваш приказ скакать сюда, лишь провожу молодого господина, да… (тут он умильно взглянул на девушку), да не усердие обрадовать весточкою о нем, так ночевал бы в последней деревне. А дождь, дождь так и лил, как из кадушки.
– Бедный Якубек! Ты, чай, промок насквозь, – сказала баронесса. «Погрейся у огня», – хотела она примолвить, но, увидев, что он вытащил из-за пазухи бумагу, исправно сложенную и перевязанную крест-накрест зеленым снурком за восковою печатью, едва могла произнести: – Письмо от него!
Дрожащими руками схватила она послание и прижала к иссохшей груди; потом посмотрела на него, любовалась им и спрятала на груди, ощупывая, хорошо ли ему тут будет.
Почему ж не спешила прочесть драгоценное послание?
Потому… потому что баронесса не умела читать (заметьте, это было к концу XV века).
Якубек с радостным видом вручил еще своей госпоже кошелек, туго набитый; за ним-то он так много хлопотал около себя.
– Такой добрый молодой господин, – сказал он, отдавая это бремя, – по всему видно было, боялся не столько за деньги, сколько за меня. Такой добрый! А не даст себе на ногу наступить. Видно, рыцарская кровь поговаривает в нем, даром лек…
Тут Ян не выдержал и с сердцем дернул рассказчика за рукав, так что тот закусил себе язык. Между тем баронесса держала кошелек и, смотря на него, плакала. Какую ужасную повесть прочли бы в этих слезах, если бы перевесть их на язык! Потом, как бы одумавшись, отерла слезы и начала расспрашивать Якубека, как доехал до Липецка сын ее (о нем-то были все заботы), что там делал, как, с кем отправился в путь.
Этих спросов только и дожидался Якубек, чтобы почесать язык.
– Ехали мы подобру-поздорову, – начал он так. – Только в одном бору, частом и темном, как черная щетина, выставили было молодцы белки своих глаз, да мы были людны, сами зубасты и показали им одни хвосты наших коней. Да еще…
Встревоженная баронесса стала со страхом прислушиваться.
– В одной гостинице… проклятая хозяйка, еще и молодая!.. подала нам ветчины… поверите ли, милостивая госпожа, ржавчины на ней, как на старом оружии, что лежит в кладовой. Молодой господин не ел, проглотил кусочек сухаря, обмочив его в воду; а меня дернуло покуситься на ветчину… так и теперь от одного помышления…
– Говори дело, Якубек! – перебил сердито старый служитель. – Коли станешь молоть всякий вздор, так речи твоей не будет конца, как Дунаю.
– Пускай малый говорит себе, что вздумает, – сказала баронесса, для которой и малейшие подробности путешествия были занимательны.
– Спасибо, господин Яне, – произнес смущенный рассказчик, отвесив поклон старому служителю, – поправили вовремя деревенщину. Вот видите, вы живали при покойном бароне…
При слове «покойном» легкое содрогание означилось на губах баронессы.
– Живали в больших городах, видали императора и церковь Святого Стефана, так слова даром не пророните, все равно что розенобель. А мы отродясь впервой выехали в Липецк… ахти, что за город! – Тут, опомнясь, он кивнул головой и замахал рукою, как будто отгонял мух. – Сыплем себе глупые речи, словно медные шелехи[5]. Вот видите, добрая госпожа, – продолжал он, обратясь к старушке, – ехали мы благополучно. Только дорогой его милость все скучал о вас, то и дело наказывал мне и просил: «Смотри, Якубек, служите верно, усердно матушке, как дети ее. Разбогатею – не забуду вас. О Яне не беспокоюсь, – молвил он, – старик положит за нее душу свою. – Слеза блеснула на реснице старика, между тем как улыбка судорожно промелькнула на губах. – Но вы молоды…» – Он говорил мне все: вы – наверное, разумел тут и… гм! – коли позволишь, господин Яне, сказать…
Тут он поклонился, взглянув очень умильно на девушку. Покраснев, как пунцовый мак, она что-то пошарила около себя и вышла будто за тем, чего не нашла.
– Я разгадаю эту загадку, – молвила баронесса ласковым голосом, – Антон разумел тут и Любушу.
– Добрый молодой господин, – продолжал парень, – обо мне не забыл… И по дороге к Липецку, и как отъезжать изволил, наказывал мне строго-настрого: «Не забудь, Якубек, смотри, скажи-де матушке, я обещал женить вас… Матушка и добрый наш Ян, верно, не откажут мне…»
– Я в душе давно благословила вас, мои друзья. Что скажет отец?
– Сына у меня нет, так ты будешь мне сыном, – произнес старик. – Только благословения не дам, пока не доскажешь вестей о молодом господине без прибавок о себе.
Якубек едва не прыгал от радости, осмелился поцеловать руку у баронессы, поцеловал в плечо своего будущего тестя, потом, приняв степенный вид, будто взошел на кафедру, повел свой рассказ о молодом Эренштейне.
– В Липецке нас только и дожидались… Нас? То есть его милость, хотел я сказать… Въехали мы в дом. «Господи! – думал я. – Уж не сам ли король королей тут живет?!» Десять башен поставь рядом, разве выйдет такой дом: посмотришь на трубы, шапка валится, а войдешь в него – запутаешься, как в незнакомом лесу. Комнаты были готовы. Тотчас же пришел к господину Антону посол московитский, подал ему руку и говорил очень, очень ласково: и что государь его будет весьма рад молодому нашему господину, и что будет содержать его в великой чести, милости и богатстве. Диву дался я! Господин ничего почти не понимал из речей посла; переводил ему все какой-то итальянец, живавший уже в Московии. А я – так и нижешь каждое словечко, будто на нитку, редкое проронил, разве-разве уж какое мудреное, не по-нашему сказанное. Посол, ни дать ни взять, по-чешски говорит. Гадал я сначала, не по-чешски ли выучился. Ан нет, и слуга его так говорит; вишь, это так по-московски. Посол молодому господину сам молвил: чехи с московитами были одной матери детки, да потом войнами разбиты врозь. «Эдак, – думал я, – легко и мне махнуть в переводчики…»
– Ты забыл, – перебил, смеясь, Ян, – ведь переводчику надо разуметь и по-таковски, по-каковски говорит тот, для кого переводишь… Понимаешь?
– И впрямь! Экой я простак!.. Вот, примерно сказать, бык с бараном хотели б кой о чем переговорить друг с другом; по-бараньи-то понимаю, и баран меня, а по-быковски не знаю, и станешь в тупик.
Невольно улыбнулась баронесса при этом сравнении.
– Хорошо, хорошо! – сказал Ян. – Только договаривай о молодом господине, а то разом залетишь за какой-нибудь вороной под небеса.
– Не заботьтесь, господин Яне, хоть и глазею по сторонам, а все-таки держусь крепко за полы молодого барона.
– Уж не вздумал ли дорогой называть Антона бароном?! – сказала старушка с видом встревоженным. – Тебе это строго запрещено.
– Не хочу солгать, милостивая госпожа! Только раз согрешил, нечаянно ослушался, сорвалось с языка. Зато мигом оправился: «Не подумайте, – молвил я ему, – что вас называю бароном потому, что вы барон; а эдак у нас чехи и дейтчи[6] называют всех своих господ, так и я за ними туда ж по привычке… Вот эдак мы все честим и вашу матушку, любя ее». Нет! Я себе на уме! Как впросак попаду, так другого не позову вытащить.
– Спасибо, Якубек! Ну что ж с вами было в Липецке?
– Вот нанесли от посла молодому господину шкур звериных, московитских: все куницы да белки – и наклали в горнице целую гору. «Это все от великого князя в задаток», – сказал переводчик. Куда нам это! – не успел, кажись, вымолвить господин мой, как налетели купцы, словно голодные волки, послышав мертвое тело, и начали торговаться. Разом наклали кучку серебра и золота на стол да шкурки и унесли. Только вам изволил молодой господин прислать с десяток куниц да мне пожаловать белочек с десяток. «Невесте твоей, – молвил он, – на зимний наряд». Тут пришел к нему извозчик, что повез его, еврей…
– Еврей!.. – воскликнула баронесса, всплеснув руками и подняв глаза к небу. – Мати Божья! Храни его под милостивым покровом Своим! Ангелы Господни! Отгоните от него всякую недобрую силу!
– Я сам было испугался, что поганый жидок повезет молодого господина; да как дело распуталось, так и у меня на груди стало легче. Извозчик, лишь увидал его, бросился целовать полы его епанчи. «Ты мой благодетель, спаситель! – говорил он. – Помнишь, как в Праге школьники затравили было меня огромными собаками? Впились уж в меня насмерть; а ты бросился на них, повалил их замертво кинжалом, да и школьников поколотил. Никогда не забуду твоего добра; пускай тогда забудет меня Бог Иакова и Бог Авраама! В Москве у меня много приятелей, сильных знатных людей: молви мне лишь слово, к твоим услугам! Нужно ли тебе денег? Скажи: Захарий, мне надо столько и столько, и я принесу тебе их во тьме ночной, затаю свои шаги, свое дыхание, чтобы не видали, не слыхали, что ты получаешь их от жида». Ничего не понимал я из его речи, только видел – еврей бьет себя в грудь и чуть не плачет и опять примется целовать полы господской епанчи. А все это перевел мне после молодой господин, чтобы я вам пересказал слово в слово. «Матушке будет легче, если она это проведает, – молвил он. – Захарию верю; он меня не обманет. Да и посол за него ручается: он-де то и дело бывает в Москве, и все знают его там за честного человека. С ним и писать можно к матушке». Наконец собрались в дорогу. Ехало их много: тут были разные мастеровые (легкая краска набежала на лицо баронессы)… и те, что льют всякое дело из меди, и такие, что строят каменные палаты и церкви, и не перечтешь всех, какие были. Разместились по повозкам. Я проводил господина за город. И стал он мне опять наказывать служить вам верно, усердно, как бы он сам служил вам, и сто раз повторял это. За городом остановилась его повозка. Тут простился со мною, не почуждался обнять меня. «Приведет ли Бог увидеться!» – молвил он и заплакал. Последнее слово его все было об вас… Повозка тронулась, а он все стоял на передке и долго кивал мне и махал рукою, будто просил передать вам его поклоны. Я не трогался с места, а он, мой голубчик, дальше и дальше – и скрылся, словно канул на дно… От сердца что-то оторвало… Хотел бы воротить его, хотел бы еще раз поцеловать его руки; не тут-то было… Когда бы не вы да не Любуша, воля Господня! – не удержали бы меня здесь…
Якубек не мог более сказать слова: горькие слезы мешали ему говорить; рыдала мать, плакал и старый служитель.
Все трое, казалось, пришли с похорон родного. Долго не ложились спать обитатели замка и почти всю ночь проговорили о молодом Эренштейне. Наконец баронесса ушла в свою почивальню, наказав Яну позвать к ней завтра отца Лаврентия. Это был диакон[7] соседнего моравского братства{9}, доверенный чтец ее корреспонденции.
И завтра пришло, и отец Лаврентий прочел баронессе следующее письмо от ее сына.
«Дражайшая матушка, поспешаю уведомить тебя, что я благополучно прибыл в Липецк. Я здоров и доволен, сколько может быть доволен сын, удаленный от матери, которую нежно любит. Не пеняй на мечтателя, что он покинул тебя: любовь к науке и ближним и вместе возможность быть тебе полезным решили меня на такое дело. Ты сама благословила меня на него, добрая, милая матушка!
В Липецке ожидал уж нас посол русский: он не обманул меня и доставил мне на первый раз значительную сумму, которую получишь с Якубом. Только для тебя дорожу деньгами: ими могу успокоить твою старость. Милости короля московитского, которыми посол обнадеживает, дадут мне средства и впредь быть тебе полезным.
С каким удовольствием услышал я первые звуки языка московского, или, как называют иначе, русского, еще с большим удовольствием, когда узнал, что он нашему языку родной! Кое-что и теперь понимаю из разговора посла, с которым еду. Жалею, что я по-чешски не знаю более. Надеюсь по приезде в Москву скоро выучиться говорить по-русски: это заставит моих новых знакомцев скорей полюбить меня; а я уж и теперь люблю их как единоплеменников.
О чем Якубек тебя попросит, сделай это для меня и для него.
Дорожа твоим родительским благословением выше всего, отправляюсь с ним в дальнейший путь: оно вместе с тобою тут, у сердца моего. Целую сто раз твои руки, твой послушнейший сын
Антон Эренштейн».Отец Лаврентий несколько раз вынужден был перечитывать письмо; всякий раз было оно орошено слезами и спрятано у сердца матери.
Первые дни разлуки были для нее убийственны. Везде бродила она по следам милого сына, воображая где-нибудь его встретить. Вещи, им оставленные, перебирала с каким-то благоговением. Запрещено было садиться на стул, на котором Антон обыкновенно сиживал во время стола, или сдвигать его с места. Этого не позволяли даже и отцу Лаврентию. Цветок, сорванный Антоном в последний день его отъезда, вложен, как святыня, в лист рукописной Библии, на котором он остановил свое чтение. И в комнате его все осталось в том виде, в каком было при нем. Часто старушка мать ходила в нее тайком и плакала, сидя на кровати милого странника. Ни одной жалобы к небу, ни одного упрека; только молитвами о его здоровье и благополучии денно и нощно провожала его.
А странник все далее и далее. Еще долго видел он голубое небо своей родины, в которое душе так хорошо было погружаться, горы и утесы, на нем своенравно вырезанные, серебряную бить разгульной Эльбы, пирамидальные тополи, ставшие на страже берега, и цветущие кисти черешни, которые дерзко ломились в окно его комнаты. Еще чаще видел он во сне и наяву дрожащую, иссохшую руку матери, поднятую на него с благословением.
Мы узнали, что Антон – сын баронессы Эренштейн. Скажем еще более: отец его жив, богат, знатен, занимает важную должность при императоре Фридерике III{10}; но в замке богемском знают эту тайну баронесса да старый Ян, никто более. Прочие жители башни, сам Антон почитают его умершим. Но для чего это? Зачем, в каком звании ехал молодой Эренштейн на Русь?
Антон был лекарь.
Сын барона – и лекарь?.. Странно, чудно! Как согласить с его настоящим званием гордость тогдашнего немецкого дворянства? Чтобы судить, каково было сердцу баронскому терпеть это, надо вспомнить, что лекаря были тогда большею частию жиды, эти отчужденцы человечества, эти всемирные парии. В наше время, и то очень недавно, в землях просвещенных стали говорить о них как о человеках, стали давать им оседлый уголок в семье гражданской. Как же смотрели на них в XV веке, когда была учреждена инквизиция, жарившая их и мавров тысячами? Когда самих христиан жгли, четверили, душили, как собак, за то, что они смели быть христианами по разумению Виклифа{11} или Гуса, а не по наказу Пия или Сикста? Власти преследовали жидов огнем, мечом и проклятиями; народ, остервененный против них слухами, что они похищают детей и в день Пасхи пьют их кровь, вымещал на них за одно вымышленное злодеяние сторицею настоящих. Думали, воздух, свет Божий, заражены их дыханием, их нечистым глазом, и спешили лишать их воздуха, света божьего. Палачи, вооруженные клещами и бритвами, еще до места казни сдирали и рвали с них кожу и потом, уже изуродованных, бросали в огонь; зрители, не дождавшись, чтобы они сгорели, вырывали ужасные остатки из костра и влачили по улицам человеческие лоскутья, кровавые и почерневшие, ругаясь над ними. Чтобы хоть несколько продлить свое существование, жиды брались за самые трудные должности: из огня кидались в полымя. Должность лекаря была одною из опаснейших. Разумеется, большая часть этих невольных врачей морочила людей своими мнимыми знаниями; зато с лихвою отплачивались им обманы их или невежество. Отправлялся ли пациент на тот свет, отправляли с ним и лекаря. Нужен ли пример? Вот один, довольно громкий. Врач Петр Леони, из Сполетты, истощив все средства свои над угасающим Лаврентием Медичисом, дал ему наконец порошок из жемчугу и драгоценных камней. Это не помогло: великолепный Лаврентий отправился без возврата туда, куда отправляются и не великолепные. Что ж с Леоном? Друзья покойника недолго думали: убили тотчас врача или, как говорят другие, мучили его так, что он сам бросился в колодец, избегая новых пыток. Сколько же таких мучеников погибло в безвестности, не удостоенных помина летописцев! После всего этого надо было нежиду большое самоотвержение, чтобы для пользы науки и человечества посвятить себя во врачи.
Судите, что чувствовал барон, видя своего сына лекарем.
Как же, для чего, почему это случилось?..
Глава вторая. Мщение
Когда б над бездной моряНашел я спящего врага,Клянусь, и тут моя ногаНе пощадила бы злодея.Я в волны моря, не бледнея,И беззащитного б столкнул:Внезапный ужас пробужденьяСвирепым смехом упрекнул,И долго мне его паденьяСмешон и сладок был бы гул.Пушкин{12}В Риме закладывали храм… замечателен ли был этот день, можно судить, если скажу, что закладывали тогда храм Св<ятого> Петра{13}. В этот день положен был краеугольный камень, идеал этого дивного здания; но нужно было еще полвека, чтобы гений Браманте пришел осуществить его. Со всех сторон стекались итальянцы и чужеземцы, многие из любопытства видеть великолепное зрелище, иные по долгу, другие из любви к искусству или чувства религиозного. Церемония отвечала вполне величию предмета: папа (Николай V, основатель и ватиканской библиотеки) не пожалел своей казны. Толпа кардиналов, герцогов, князей, сам преемник Петра со своим кортежем{14}, легион кондотьеров, блестящие латы, знамена, орифламмы, цветы, золото, пение – все это в чаду курения, как бы шествующее в облаках, представляло чудное зрелище. Но кто бы подумать мог, что безделица едва не разрушит величия этой процессии!
В толпу знатных иностранцев, один другого богаче одетых, один другого статнее, следовавших в некотором отдалении за папою, неведомо как втерлась маленькая уродливая фигурка итальянца в какой-то скромной епанче. Это был кусок грязи на мраморе художественного произведения, нищенская заплата на бархатной тоге, визг лопнувшей струны посреди гармонического концерта. Казалось, уродец нарочно пришел в этот блестящий круг мстить за свои природные недостатки. Блестящая молодежь, его окружавшая, начала перешептываться между собою, бросать на него косые взгляды, теснить его: уродец молча шел себе далее. Стали допытываться, кто бы такой был этот смельчак, осмелившийся испортить кортеж, который старались так хорошо уладить, и доискались, что – врач из Падуи. «Лекарь? Важная штука!.. Какой-нибудь жид!..» В это время несколько хорошеньких личиков выглядывало из окон. Вот одна лукаво усмехнулась: вот, кажется, другая указала пальцем на толпу молодых людей… Можно ли это стерпеть? Участились косые взгляды, рожицы; посыпались перекрестным огнем насмешки: кто наступил на ногу уродца, кто придавил его. Он, будто глухой, слепой, бесчувственный, шел себе вперед. «От него воняет мертвечиной», – говорил один. «Мылом цирюльным», – перебил другой. «Отбрил бы его своею двугранной бритвой», – прибавил третий, грозясь палашом. «Слишком благородный металл для этой ракалии! – сказал молодой, красивый, статный немец, который был всех ближе к нему. – Для него довольно и палки». Тут маленькая фигурка ручонкою схватилась было за бок, думая найти кинжал; но оружия при ней не было. Из крошечного рта вырвалось слово «Knecht»[8], вероятно, потому, что некоторых наемных немецких воинов называли тогда ландскнехтами. О, при этом слове надо было видеть, что сделалось с молодым тевтоном! По лицу его пробежали багровые пятна, губы его затряслись; мощною рукою впился он в затылок малютки, поднял его на воздух и выбросил за черту процессии. Это было сделано так быстро, что могли только заметить руки и ноги, которые не более двух-трех мгновений барахтались на воздухе; слышали какое-то шипение, потом удар о мостовую, и потом… ни вздоха, ни движения.
– Славно, барон! – сказали товарищи атлета, сомкнув ряды и тихомолком смеясь, как бы ничего не бывало.
Несчастный, брошенный в прах с такою исполинскою силой, был падуанский врач Антонио Фиоравенти. В этом маленьком создании высочайший разум сильно проявил себя. Говорили много об его учености, о чудесах, которые он делал над больными, доброте души и бескорыстии его. Не знали, однако ж, силы этой души, потому что никто еще не входил с нею в борьбу, ни люди, ни судьба. До сих пор жизнь его была одним успехом: учение, деньги, слава – все ему далось, казалось, в вознаграждение за обиду, сделанную ему природою; и все это он скрывал под завесою девичьей скромности. Увидав его в первый раз, нельзя было не смеяться над его крошечною уродливою фигурой; но при каждом новом свидании с ним он незаметно рос и хорошел в глазах ваших: так очаровательны были его ум и любезность. Путешествуя для подвигов добра и науки, он только что приехал в Рим и, так сказать, на первом шагу через порог Вечного города оступился очень несчастливо. Во время процессии какая-то властительная дума увлекла его, без ведома его воли, в круг блестящих иностранцев: жестоко же был он наказан за свое рассеяние.
Когда он пришел в себя, все было тихо и пусто вокруг; только перед глазами его прыгали черные мальчики и между ними наступал на него молодой германец. Голова его была так тяжела, мысли так смутны, что он едва понял свое состояние. Собравшись с силами, он потащился на свою квартиру; но образ противника всюду следовал за ним. С того времени этот образ никогда не покидал Антонио Фиоравенти: если б он был живописец, то положил бы его сейчас на полотно; он указал бы на него среди толпы народной; он узнал бы его и через тысячу лет.
Несколько недель пролежал он в сильной горячке; в бреду видел только немца; по выздоровлении первый предмет, который он мог распознать умом своим, был ненавистный немец. С силами его росло и желание мести; дарования свои, науку, деньги, связи, жизнь – все посвятил он отныне этому чувству. Тысячу средств, тысячу планов было придумано, чтоб отмстить за оскорбление. Когда бы выполнить тогдашние его помыслы, из них встал бы исполин до неба. Антонио начал беречь жизнь, как берегут отпущенную сталь меча, когда собираются на битву. Отмстить, а там бросить эту жизнь в когти дьяволу, если не дано ему было повергнуть ее к престолу Бога! Тридцать лет исполнял он завет Господа: любить ближнего, как брата; тридцать лет стремился по пути к небу – и вдруг судьба схватила его с этого пути и повесила над пропастью ада; вправе ли она была сказать: «Держись, не падай!»? Был один, у которого голова не вскружилась над этой бездной, но тот был не человек, тот ходил по волнам, как по суше{15}. Кто же виноват, если простой смертный не удержался?
Так говорил сам с собою Антонио Фиоравенти и мысленно точил орудие мести. «За дело!» – сказал он наконец, лишь только был в состоянии выйти из дому. Разыскания повели его везде, во дворцы и на большие дороги, в храмы и виллы, в библиотеки и на кладбища. Нередко видали его в тайных переговорах с привратниками, в дружеских сношениях с полицией; чернь и знать – все было для него средство, лишь бы достигнуть цели своей. Под знойным небом, в дождь, в грозу стоял он на перепутьях, поджидая, не увидит ли своего немца. Да! Он называл его своим, как будто купил несметною суммою мести. Своими расспросами перерыл все кварталы, все дома до дна; Рим перед ним обнажился, и когда он узнал, что в Риме не было его врага, он оставил Вечный город, бросив ему на прощание слово проклятия.
Но розыски его были не совсем напрасны: он достал список всех иностранцев, которые приезжали от разных дворов к закладке храма. Часто пересматривал он его, перебирал сердцем разные имена, в нем означенные, учил их наизусть; то одно имя, то другое, будто по предчувствию, отмечал кровавою чертою и упивался иногда радостью, как будто с этим списком имел во власти уже и тех самих, которые были в нем помечены. Чего не дал бы он за магическую силу призвать их всех на лицо к себе!.. О, тогда бы отметил он одного иною, кровавою чертою!









