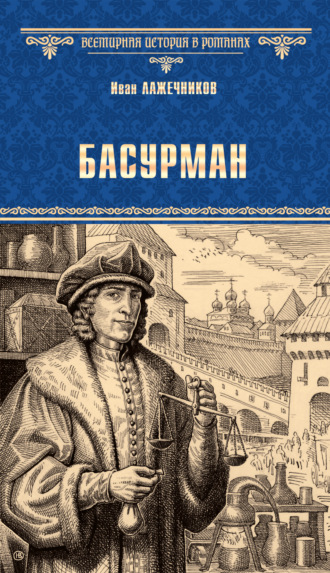
Полная версия
Басурман

Иван Иванович Лажечников
Басурман
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
Сайт издательства www.veche.ru
Об авторе

Иван Иванович Лажечников, один из родоначальников русского исторического романа, родился 14 (25) сентября 1792 года в городе Коломне Московской губернии. Его отец, один из богатейших коломенских купцов, отличался любовью к образованию, поэтому позаботился о том, чтобы воспитать сына в духе идей просвещения и гуманизма.
Серьёзные литературные способности Иван Лажечников обнаруживает ещё в подростковом возрасте, когда опубликовал в журнале «Вестник Европы» сочинение «Мои мысли» в подражание французскому философу-моралисту Жану де Лабрюйеру. Год спустя опубликовал в других журналах «Военную песнь», ряд стихотворений и (всё в том же «Вестнике Европы») рассуждение «О беспечности».
В 1812 году, охваченный патриотизмом, против воли родителей поступил в ополчение. Позднее участвовал в Заграничной кампании русской армии, в том числе взятии Парижа. После окончания войны продолжает литературные упражнения и в 1817 году издаёт свою первую книгу, которую озаглавил просто: «Первые опыты в прозе и стихах». Опыты были не очень удачны, что вскоре понял и сам автор, поэтому решил скупить и уничтожить тираж.
В следующем сочинении – «Походные записки русского офицера», опубликованном в 1820 году, видно стремление идти по пути реалистической прозы. В тексте много подробностей, свидетельствующих о наблюдательности автора.
В 1819 году Лажечников оставил военную службу и решил попробовать себя в службе статской, хотя по-настоящему его влекла только литература. К этому времени относится знакомство с В. Белинским, позже перешедшее в дружбу.
Выйдя в отставку в 1826 году, Лажечников поселился в Москве и стал собирать материалы для своего романа «Последний Новик», посвящённого Петровской эпохе. Заглавный герой романа – Владимир (он же Вольдемар) по прозвищу Последний Новик – незаконный сын царевны Софьи Алексеевны и князя Василия Голицына, всеми способами добивающийся возвращения на Родину.
Опубликованное в начале 1830-х годов, это произведение имело крупный успех как у читателей, так и у критиков. Белинский назвал его «необыкновенным», а автора охарактеризовал как «первого русского романиста».
В 1831 году Лажечников поступил на статскую службу, был назначен директором училищ Тверской губернии и именно там, в Твери, создал свой самый знаменитый роман – «Ледяной дом», посвящённый периоду правления императрицы Анны Иоанновны. Эта книга впервые вышла в 1835 году.
Два года спустя Лажечников снова выходит в отставку, чтобы без помех заниматься литературным творчеством. Он поселился в деревне в своём имении и всего лишь за год написал новый роман, озаглавленный «Басурман». В центре повествования – иноземный (немецкий) лекарь Антон Эренштейн, реальное историческое лицо, который по рекомендации инженера Аристотеля Фиораванти приехал для службы ко двору Ивана III.
На этом взлёт литературного таланта Ивана Лажечникова закончился. Все последующие его произведения не имели такого успеха. Ему не удалось добиться признания как драматург. Его произведения мемуарного характера (например, «Заметки для биографии В.Г. Белинского») вызывают интерес прежде всего у литературоведов.
Только романы обеспечили Лажечникову литературную славу. Все произведения неоднократно переиздавались.
В 1842–1854 годах Лажечников снова служит – вице-губернатором в Твери и Витебске, в 1856–1858 годах – цензором в Санкт-Петербургском цензурном комитете, но очень тяготится должностью цензора, поэтому снова подаёт в отставку. На этот раз окончательно.
3 мая 1869 года в московском артистическом кружке был торжественно отпразднован пятидесятилетний юбилей литературной деятельности Лажечникова, а 26 июня того же года автор скончался, написав в завещании: «Состояния жене и детям моим не оставляю никакого, кроме честного имени, каковое завещаю и им самим блюсти и сохранять в своей чистоте».
Избранная библиография:
Последний Новик (Санкт-Петербург, 1831–1833),
Ледяной дом (Москва, 1835),
Басурман (Москва, 1838).
* * *Благословите, братцы, старину сказать.[1]
СахаровПролог
Божиею милостию, радуйся и здравствуй, господин и сын наш, князь великой, Дмитрий Иванович, всея Руси… на многая лета!
Слова митрополита по случаю венчания на великокняжение Дмитрия Иоанновича, внука Иоанна IIIЭто было 27 октября 1505 года. Будто к венчанию царя Москва снарядилась и изукрасилась. Собор Успенский, церковь Благовещения, Грановитая палата{1}, Теремной дворец, Кремль со своими стрельницами, множество каменных церквей и домов, рассыпанных по городу, – все это, только что вышедшее из-под рук искусных зодчих, носило на себе печать свежести и новизны, как бы возникло в один день волею всемогущею. Действительно, все это было сотворено в короткое время гением Иоанна III. Кто оставил бы Москву за тридцать лет назад бедною, ничтожною, похожею на большое село, огороженное детинцем, не узнал бы ее, увидав теперь. Так же скоро и вся Русь поднялась на ноги по одному молодецкому окрику этого гения. Взяв исполина-младенца под свою царскую опеку, он сорвал с него пелены и не по годам, а по часам воспитал его на богатырство. Новгород и Псков, не ломавшие ни перед кем шапки, сняли ее перед ним{2}, да еще принесли в ней свою волю и золото; иго ханское свержено{3} и переброшено за рубеж земли Русской; Казань хотя отыгрывалась еще от великого ловчего{4}, но отыгрывалась, как волчица, которой некуда утечь; уделы сплавлены и выкованы в один могучий особняк, и тот, кто все это сотворил, первый из русских властителей воплотил в себе идею царя.
Однако ж 27 октября 1505 года изукрашенная им Москва готовилась не к радостному, а печальному торжеству. Иоанн, изнемогая и духом и телом, лежал на смертном одре. Он забывал свои подвиги, он помнил только грехи свои и каялся в них.
Было время к вечеру. В храмах горели одинокие лампады; сквозь слюду и пузыри окон светились в домах огни, зажженные верою или нуждою. Нигде народная любовь не теплила их, потому что народ не понимал заслуг Великого и не любил его за нововведения. В одном углу казенного двора черная изба позднее других домов осветилась слабым огоньком. На пузырную оболочку окна ее железная решетка с ершами отбросила клетчатую тень, которую, однако ж, пестрила точка, то блестящая, как искра, то вьющая струю пара. Знать, узник провертел отверстие в пузыре, чтобы, украдкою от своего сторожа, глядеть на свет божий.
Это была тюрьма, и в ней на этот раз томился молодой узник. Ему казалось не больше двадцати лет. Так молод! Какие же ранние преступления могли привести его сюда? По лицу его не веришь этим преступлениям, не веришь, чтобы Бог создал такую обманчивую наружность. Так пригож и благовиден, что, кажется, ни один черный помысел не пробежит по спокойному челу, ни одна страсть не заиграет в его глазах, исполненных любви к ближнему и безмятежной грусти. И между тем статен, величав; как встрепенется из дремоты своей, как тряхнет черными кудрями, виден забывшийся господин, а не раб. Руки его белы, нежны, словно женские. На косом вороте рубашки горит изумрудная запонка; в сырой закопченной избе на широком прилавке пуховик, с изголовьем из мисюрской[2] камки и с шелковым одеялом, а подле постели ларец из белой кости филиграновой работы. Видно, не простой узник!
Не простой, да еще венчанный… И чист делами и помыслами, как житель неземной. Все его преступления в венце, которого он не искал и который надела на него прихоть властителя; никакой крамоле, никакому злу не причастный, он виноват за чужие вины, за честолюбие двух женщин{5}, за коварство царедворцев, за гнев деда на сторонних, не на него ж. Ему назначили царство и отвели в тюрьму! Он не понимал, почему венчают его, и теперь не понимает, за что его лишили свободы, света божьего, всего, в чем не отказывают и смерду. За него ближние и молиться не смеют вслух.
Это внук Иоанна III, единственное дитя любимого сына его, злополучный Дмитрий Иоаннович.
То сидел он в грустном раздумье, облокотясь на колена и утопив пальцы в чернокудрой голове, то вставал, то ложился. Он метался, как будто дали ему отраву. Никого с ним не было. Одинокий огонек освещал его бедное, несчастное жилище. Тишину избы нарушали капель с потолка или мышь, подбиравшая крохи от трапезы узника. Огонек то замирал, то вспыхивал, и в эти переливы света, казалось, ползли по стене ряды огромных пауков. В самом же деле это были каракульки на разных языках, начертанные углем или гвоздем. Едва можно было разобрать в них: «Matheas», «Марфа, посадница Великого Новгорода», «Будь проклят!», «Liebe Mutter, liebe А…»[3] и еще, еще какие-то слова, разорванные струями, которые текли по стене, или стертые негодованием и невежеством сторожей.
Дверь темницы тихонько отворилась. Дмитрий Иоаннович встрепенулся.
– Афоня! Это ты? – радостно спросил он; но, увидав, что принял вошедшего за другого, присовокупил с грустью: – Ах, это ты, Небогатый!.. Что ж нейдет Афоня?.. Мне скучно, мне тошнехонько, меня тоска гложет, будто змея подколодная лежит у сердца. Ведь ты сказал, что будет Афоня, когда огни зажгут в домах?
– Афанасий Никитич никогда не кривит словом, не то что глазом, – сказал дьяк Дмитрия, Небогатый – приставник добрый, услужливый и между тем строгий в исполнении наставлений, данных великим князем, как стеречь внука. (Надо знать, что в это время он же, за болезнию Дмитриева казначея и постельничего, исполнял их должность. Честь честью князю, хотя и заключенному!..) – Успокойся, Дмитрий Иванович, голубчик мой! Уж конечно, скоро придет наш краснобай. Ты сам ведаешь, хил становится, худо видит, так бредет себе ощупью. А ты покуда, милое дитятко мое, поиграй, потешься своими игрушками. Присядь себе хорошенько на постелюшке; я подам тебе твой ларец.
И Дмитрий Иванович, дитя, которому было за двадцать лет, от скуки, его томившей, исполнил тотчас предложение своего дьяка, сел с ногами на постель, взял костяной ларец к себе на колена и отпер его ключом, который висел у него на поясе. Понемногу, одна за другою, выходили на свет божий дорогие вещицы, заключенные в этом ларце. Княжич подносил к огню то цепь золотую с медвежьими головками или чешуйчатый золотой пояс, то жуковины (перстни) яхонтовые и изумрудные, то крестики, мониста, запястья, запонки драгоценные; любовался ими, надевал ожерелья себе на шею и спрашивал дьяка, идут ли они к нему; брал зерна бурмицкие и лалы в горсть, пускал их, будто дождь, сквозь пальцы, тешился их игрою, как настоящее дитя, – и вдруг, послышав голос в ближней комнате, бросил все кое-как в ларец. Лицо его просияло.
– Это Афоня! – молвил он, отдавая ларец дьяку, и слез с постели.
– Запри, Дмитрий Иванович! – сказал с твердостью Небогатый. – Без того не приму.
Проворно щелкнул ключ в ларце; дверь отворилась, и вошел в избу тюремную старичок небольшого роста, сгорбившийся под ношею лет; ими золотилось уже серебро волос его. От маковки головы до конца век левого глаза врезался глубокий шрам, опустивший таким образом над этим глазом вечную занавеску; зато другой глаз вправлен был в свое место, как драгоценный камень чудной воды, потому что блистал огнем необыкновенным и, казалось, смотрел за себя и своего бедного собрата. Сын не встречает ласковее отца нежно любимого, как встретил старика Дмитрий Иванович. Радость горела в очах царевича, в каждом движении его. Он принимал от гостя посох, стряхал с него порошинки снега, обнимал его, усаживал на почетное место своей постели. А гость был не иной кто, как тверской купец Афанасий Никитин, купец без торговли, без денег, убогий, но богатый сведениями, собранными им на отважном пути в Индию, богатый опытами и вымыслами, которые он, сверх того, умел украшать сладкою, вкрадчивою речью. Он жил пособиями других и не был ни у кого в долгу: богатым платил своими сказками, а бедных дарил ими. Ему позволено было посещать великого князя Дмитрия Ивановича (которого, однако ж, запрещено было называть великим князем). Можно судить, как он наполнял ужасную пустоту его заключения и как поэтому был дорог для него. Что ж давал ему за труды Дмитрий? Много, очень много для доброго сердца: свои радости, единственные, какие оставались у него в свете, – и эту награду тверитянин не променял бы на золото. Как-то раз хотел царевич подарить ему дорогую вещицу из своего костяного ларца; но дьяк с бережью напомнил узнику, что все вещи в ларце – его, что он может играть ими, сколько душе угодно, да располагать ими не волен. Вчера Афанасий Никитин начал современную ему повесть о немчине, прозванном басурманом. Ныне, усевшись, продолжал ее. Речь его текла, как песнь соловушки, которого можно заслушаться от зари вечерней до утренней, не смыкая глаз. Жадно внимал царевич рассказчику; рдели щеки его, и нередко струились по ним слезы. Далеко, очень далеко уносился он из тюрьмы своей, и только по временам грубая брань сторожей за перегородкою напоминала ему горькую существенность. Между тем дьяк Небогатый бегло поскрипывал перышком; листы, склеенные вдоль один за другим, уписывались чудными знаками и свивались в огромный столбец. Он писал со слов Афанасия Никитина Сказание о некоем немчине, иже прозван бе бесерменом.
Вдруг среди рассказа вбежал в тюрьму дворецкий великого князя.
– Иван Васильевич готовится отдать Богу душу, – сказал он торопливо, – он сильно воспечаловался о тебе и послал за тобой. Поспешай.
Судорожно затрепетал княжич. По лицу его, которое сделалось подобно белому плату, пробежала какая-то дума; она вспыхнула во взорах его. О, это была дума раздольная!.. Свобода… венец… народ… милости… может быть, и казнь… чего не было в ней? Узник, дитя, только что игравший цветными камушками, стал великим князем всея Руси!
Иоанн еще земной властитель на смертном одре; еще смерть не сковала уст его, и эти уста могут назначить ему преемника. Мысль о будущей жизни, раскаяние, свидание со внуком, которого он сам добровольно венчал на царство и которого привели из тюрьмы, какую силу должны иметь над волею умирающего!
Княжичу подали шапку, и он, в чем был, сопровождаемый дьяком и приставами, поспешил в палаты великокняжеские. В сенях встретили его рыдания ближних и слуг великого князя. «Сталось… дед умер!» – подумал он, и сердце его упало, шаги запнулись.
Появление Дмитрия Ивановича во дворце великокняжеском остановило на время общую скорбь, настоящую и мнимую. Неожиданность, новость предмета, чудная судьба княжича, сострадание, мысль о том, что он, может статься, будет властителем Руси, сковали на миг умы и сердца дворчан. Но и в это время между бородками были умные головы; тонкие дальновидные расчеты, называемые ныне политикою, так же как и ныне, часто били, наверное, вместе с судьбою, хотя иногда, так же как и в наши дни, подшибались могучею рукою Провидения.
Расчеты эти восторжествовали над минутным недоумением; плач и рыдания опять начались и сообщились толпе. Только один голос, посреди причитаний изученной скорби, осмелился возвыситься над ними:
– Поспешай, батюшка, родимый наш… за тобой послано уж немалое время… Иван Васильевич еще жив… Благослови тебя Господь на великокняжение!
Этот голос одушевил княжича; но когда ему надо было вступить в постельную хоромину, где лежал умирающий, силы его начали упадать. Дверь отворилась; он прирос к порогу…
Иоанну оставалось жить несколько минут. Казалось, смерть ждала только прихода внука его, чтобы дать ему отходную. У постели его стояли сыновья, митрополит, любимые бояре, близкие люди.
– Сюда… ко мне, Дмитрий!.. милый внук мой!.. – сказал великий князь, увидав его сквозь смертный туман.
Дмитрий Иванович бросился к одру, припал на колена, лобызал хладеющую руку деда, орошал ее слезами. Умирающий, будто силою гальванизма, приподнял голову, положил одну руку на голову внука, другою благословил его, потом произнес задыхающимся голосом:
– Я согрешил перед Богом и тобою… Прости мне… прости… Господь и я венчали тебя… будь… мо… им…
Лицо Василия Иоанновича искосило завистью и страхом.
Еще одно слово…
Но смерть стояла тут на стороне сильного, и это слово не было произнесено на этом свете. Великий князь Иоанн Васильевич испустил последнее дыхание, припав холодными устами к челу своего внука. Сын его, назначенный им заранее в наследники, тотчас вступил во все права свои.
Дмитрия оттащили от смертного одра, вывели из палат великокняжеских и отвели… опять в темницу.
Там, на его постели, отдыхал Афоня крепким сном праведника. Выплакав свое горе, прилег под бок к старцу и злополучный Дмитрий. Царевич и убогий тут уравнялись. Одному снились в эту ночь столы великокняжеские и пышный венец, горящий, как жар, на голове его, и приемы послов чужеземных, и смотр многочисленной рати; другому – гостеприимная пальма и ручей в степях Аравии. Убогий проснулся первый, и как изумился он, увидав подле себя царевича! Грустно покачал он седою головой, прослезился и только что начал благословлять его, как послышался веселый, отважный возглас во сне Дмитрия Ивановича:
– Молодцы!.. На татар… на Литву!..
И вслед за тем пробудился княжич. Долго протирал он себе глаза, озирался вокруг себя и потом, упав на грудь Афони, залился слезами:
– Ах, дедушка, дедушка! Мне снилось… – Голос его заглушили рыдания.
Скоро и все, что он видел и слышал в палатах великокняжеских, стало казаться ему сонным видением. Только припоминая себе этот тяжкий сон, он чувствовал на челе своем ледяную печать, которую наложили на него уста венценосного мертвеца.
Пришла зима; все было в черной избе по-прежнему. Переменились одни декорации: утих однообразный шум капели, исчезла и светлая точка на пузыре одинокого окна; вместо них серебряная кора облепила углы стен и пазы потолка; а светлую точку, сквозь которую узник видел небо с его солнышком и вольных птичек, покрыла тяжелая заплатка. Но Афоня по-прежнему навещал тюрьму. Он досказал свою повесть о немце, которого называли басурманом, и доброписец Небогатый, передав ее исправно бумаге, положил свиток в кованый сундук – внукам на потешение.
Прошло года три с небольшим.
Венчанного узника не стало в тюрьме, и Афанасия Никитина не видать уже было в ней. Знать, Дмитрия Иоанновича выпустили на свободу?.. Да, Господь освободил его от всех земных уз. Вот что пишет летописец: «1509 года, 14 февраля, преставился великий князь Дмитрий Иоаннович в нуже, в тюрьме»{6}. Герберштейн прибавляет{7}: «Думают, что он умер от холода или от голода или задохнулся от дыма».
Этот пролог требует объяснения. Вот оно.
В 1834 году в С…м уезде продано было поместье одного из вельмож екатерининских. Богатая старинная библиотека, в которой (так сказали мне люди, достойные веры) находились исторические сокровища, распродана была кому попало. Приехав на место, бросаюсь к добычникам, чтобы силою золота исхитить у них какую-нибудь непонятную редкость. Надежда тщетная! Я опоздал. Большая часть библиотеки – говорят мне в утешение – досталась ст…скому мяснику, который допродает книги кипами, на вес[4]. Спешу к нему и получаю ответ, что все уже разобрано.
– Вот остатки, – примолвил он, указывая на книжную рухлядь и полуистлевшие столбцы, – посмотрите, не выберете ли себе чего?
С жадностью и трепетом принимаюсь за работу; погружаюсь в пыль и ветошь бумажную… Тут ничего, там столько же, далее вздор! Опять за розыски… опять утопаю в них… Время летит. Мясник поглядывает на меня, как на сумасшедшего… Наконец (о, буди благословенно жилище его!) развертываю один полуистлевший столбец, пригнетенный сильными из книжного царства в самый угол кладовой. Заглавие очень заманчиво: Сказание о некоем немчине, иже прозван бе бесерменом. Читаю текст – сокровище! Перебираю больные листы с осторожностью врача – в сердце столбца итальянская рукопись… В ней все те же имена, как и в русской, с прибавкою нескольких новых, большею частию иностранных; герой повести один и тот же. Видно, писано человеком близким к нему: рассказ дышит особенною к нему любовью и возвышенными чувствами. На заглавном листе стоит только: Памяти моего друга, Антонио. Это успел я наскоро рассмотреть в чудном архиве мясника. Не могу скрыть восторга и в жару предлагаю бородатому Лавока{8} самую пригожую, любую Ио из своего стада. Торг разом слажен; привожу столбец домой, дрожа за хилую жизнь его. Разбираю листы русской хартии, как лепестки дорогого цветка, готового облететь. Едва-едва успеваю спасти от разрушения половину ее. Итальянская рукопись более уцелела. Из них-то составил я «Повесть о басурмане», пополнив из истории промежутки, сделанные разрушительным временем.
– Уловки романиста! – скажут, может быть, некоторые из моих читателей и читательниц. – Уловки, чтобы заинтересовать нас к своему произведению!
Верьте или нет, мой почтеннейший, и вы, любезнейшая из любезнейших, а может статься, и прекраснейшая; говорите, если вам угодно, что я написал это предисловие именно с целью представить картину Москвы, обновленной и украшенной великим Иоанном, – картину, которая не могла попасть в мой роман: возражать не буду. Говорите, что я это сделал, желая поместить хоть где-нибудь романическое, интересное лицо Дмитрия Иоанновича, которое не могло быть поставлено на первом плане романа, занятом уже другим лицом, а на втором плане не умещалось; прибавьте, что я, вследствие всех этих потребностей, придумал и находку рукописей; говорите, что вам угодно: очных ставок делать не могу, доказывать на бумаге справедливость моих показаний не в состоянии и потому, виноватый без вины, готов терпеть ваше осуждение. Что ж делать? Сказочникам не в первый раз достается за обманы. Кажется, было кем-то говорено: лишь бы обман был похож на истину и нравился, так и повесть хороша; а розыски исторической полиции здесь не у места. Не оправдываюсь также в двух-трех анахронизмах годов, или времени года, или месяцев, сделанных, когда я пополнял промежутки в рукописях. Они умышленны: легко это заметить. Указывать на них в выносках почел я лишним; стоит развернуть любую историю русскую, чтобы найти, например: что покорение Твери случилось осенью, а не летом, что то и то случилось не в одном году, что наказание еретиков было в Новгороде, а не в Москве. Предоставляю детям отыскивать эти вольные и невольные погрешности. Таких анахронизмов (заметьте: не обычаев, не характера времени) никогда не вменю в преступление историческому романисту. Он должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии ее. Его дело не быть рабом чисел: он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которые взялся изобразить. Не его дело перебирать всю меледу, пересчитывать труженически все звенья в цепи этой эпохи и жизни этого двигателя: на то есть историки и биографы. Миссия исторического романиста – выбрать из них самые блестящие, самые занимательные события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа. Нужно ли говорить, что этот момент должен быть проникнут идеей?.. Так понимаю я обязанности исторического романиста. Исполнил ли я их – это дело другое.
Часть первая
Глава первая. В Богемии
Разлилась, разлелеяласьПо лугам вода вешняя;Унесло, улелеялоЧадо милое от матери.Оставалася родимаяНа крутом, красном бережку;Закричит она громким голосом:«Воротись, мое дитятко,Воротись, мое милое…»Старинная песняЗнаете ли, где Белая гора? – Не знаете, так я вам скажу: это в Богемии, близ границ саксонских. Сюда поведу вас теперь.
Вот неподалеку от этой горы, сквозь мрак черной осенней ночи мерещится на берегу Эльбы башня, омытая дождем. Вот в двух щелях, которые называются окнами, засверкал огонек, осветил смиренное феодальное здание и неверно протянул его в реку. Волчья ночь! Ни искорки на небе, ни отрадной беловатой полосы, обещающей утро. Мраку нет границ; кажется, и ночи этой не будет конца. Ветер, будто злой дух, рвется в башню; его завываниям вторит вой волков в ближнем кустарнике. Река, расстроенная в своем течении, опрокинулась поперек, осадила подножие башни и силится захлестнуть ее полою своих валов.
В башне все тихо; сквозь решетку и слюду окон едва слышится голос ветра, наигрывающий свои грустные фантазии. Огромная комната освещена пылающим в очаге костром. Везде заметна простота и даже бедность. Украшением служат только рога оленей и несколько оружий, развешанных по стенам. Против огня, опрокинувшись назад на спинку кресел, дремлет восковое лицо старушки; очерк его, пощаженный временем, говорит еще, что она была смолоду красавица, несмотря на темные местами пятна, которые, вероятно, болезнь оставила на нем. Изредка печальные думы перебегают по этому лицу; чаще проникнуто оно грустью, и вы, не видя на нем слез, сказали бы, что душа ее вся в слезах. Старушка должна быть хозяйка башни, которую называли некогда замком. В некотором отдалении от нее старик седовласый, высокий, худощавый – служитель, оруженосец или кастелян. Смотря на него, делаешься добрее, благочестивее, становишься ближе к нему. Где такие старики в доме, там, полагать можно, благословение Божье. То, сидя на треножной скамейке, он борется со сном и по временам, побежденный им, ныряет головой; то подходит на цыпочках к очагу, чтобы поправить в нем огонь; то вслушивается к стороне двери. Посреди этой воплощенной зимы пал цветок, только что распустившийся: девушка лет шестнадцати – по одежде ее, по месту, которое занимает в углублении комнаты, должно принять ее за служанку. Она сидит на низенькой скамейке за пряжею, вся убранная пылающим огнем. На пригожем лице ее тоже заметна тревога. Взоры нередко допрашивают дверь; при малейшем стуке за нею руки судорожно вздрагивают и перестают прясть. Все тихо в башне; только слышно, как жужжит веретено в нетерпеливых руках девушки, как ветер жалобно просится в окно.









