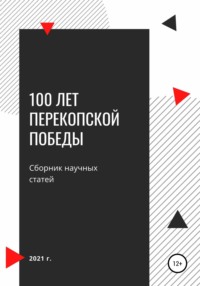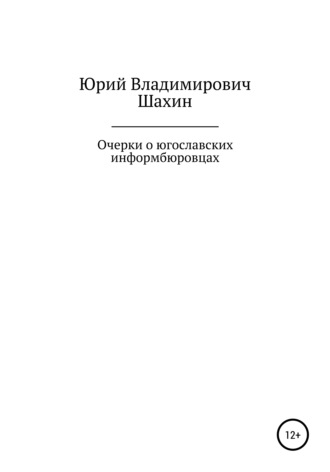 полная версия
полная версияОчерки о югославских информбюровцах
«ОХОТА НА ВЕДЬМ»: ВЫСШЕЕ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВРАГА
В данном разделе будут рассмотрены проблемы, связанные с ролью правящей партии Югославии в кампании преследования информбюровцев. Как нагнеталась «охота на ведьм», от кого исходил импульс и как он передавался – все эти вопросы пока плохо освещены. В силу этого данный очерк не закроет их, а скорее будет введением к их осмыслению.
Кампанию преследования информбюровцев вне всякого сомнения организовало Политбюро ЦК Коммунистической партии Югославии, но подробности того, как это делалось, все еще недостаточно выяснены. Отчасти это связано с нежеланием Политбюро светиться. Так мы знаем, что на уровне ЦК КПЮ Политбюро проводило разграничение между теми, кто открыто высказался за резолюцию Коминформбюро и теми, кто не мог однозначно определиться. Первых арестовывали, как С. Жуёвича, а со вторыми Политбюро вело длительную воспитательную работу. Это касается таких людей, как Б. Нешкович, Б. Ёванович, В. Влахович, Б. Зихерл. Политбюро позволяло им невероятно долгие колебания. Так, Бориса Зихерла переубеждали несколько недель121. Велько Влаховичу понадобился год, чтобы преодолеть сомнения. Блаже Ёванович, по мнению тогдашнего члена Политбюро М. Джиласа, твердо стал на позицию партии не ранее 1951 года. А Благое Нешковича терпели свыше четырех лет, пока в ЦК КПЮ не возобладало мнение, что он все больше склоняется к информбюровству122. Но даже и в том случае, когда Политбюро считало, что человек безнадежен, оно предпочитало представить его устранение как ответ на инициативу снизу. Особенно показателен здесь случай Благое Нешковича, заместителя председателя правительства ФНРЮ. Когда принималось решение исключить его из партии и отправить в отставку, Политбюро разослало на места документы, в которых пыталось представить свое решение как реакцию на сигнал снизу – от ЦК Коммунистической партии Сербии123. Хотя из воспоминаний Джиласа мы знаем, что инициатива всецело принадлежала в этом случае Политбюро ЦК КПЮ124.
В начале конфликта к должностным лицам, стоящим на более низких ступенях иерархии, тоже применялись аналогичные меры. Так, летом 1948 г. в Сербии целая группа членов ЦК Коммунистической партии Сербии приехала в срез Кладово, где вся местная парторганизация поддержала резолюцию Коминформбюро. Комиссия получила директиву никого не арестовывать, а переубедить. Совсем без арестов не обошлось, но в отношении части местных руководителей этот план сработал. После покаяния их переместили на другие должности, где они продолжили свою партийную карьеру125. Совсем иные критерии стали применяться к нижестоящим лицам в должностной и партийной иерархии уже с осени 1948 г. С тех пор даже простое подозрение служило достаточным основанием для репрессий, а партия не медлила с их проведением.
Но и в этих новых условиях Политбюро предпочитало не афишировать свою роль. Особенно это касается личности генерального секретаря Йосипа Броза-Тито. Собранные на сегодняшний день исторические свидетельства говорят, что Тито никогда не ставил свою подпись под непопулярными решениями. Например, когда Верховный суд подавал ему как президенту республики (эту должность Тито занимал с 1953 г.) прошения о помиловании, Тито подписывал только положительные решения, а отказы подписывал обычно Александр Ранкович126. Так же было и с публичными решениями. Например, 30 марта 1953 г. правительство издало постановление, прекращавшее политику коллективизации. Оно было с энтузиазмом встречено крестьянами, но к нему с недоумением отнеслись сельские активисты правящей партии, ведь они уже пятый год сражались с крестьянами за торжество колхозного строя. Поэтому Тито уехал с продолжительным визитом в Великобританию, а постановление подписал замещавший его в то время Э.Кардель127. Аналогично обстояло дело в культурной политике: «Если нужно было осуществить какие-нибудь острые меры, Тито проявлял государственную мудрость, он предоставлял ближайшим соратникам, ответственным за культуру и искусство, чтобы они публично “таскали каштаны из огня”»128. Поэтому маловероятно, что в распоряжении историков когда-нибудь появится хотя бы один документ за подписью Тито, прямо удостоверяющий его причастность к репрессиям против информбюровцев. Тем не менее, письменные источники, отражающие роль Тито в репрессиях, в архивах есть, и их доступная часть отражена в нашем исследовании.
В силу того, что архивы союзных спецслужб, унаследованные Сербией, открылись совсем недавно, причастность членов Политбюро ЦК КПЮ к тем или иным репрессивным мерам часто устанавливается лишь на основании устных свидетельств. Так, историк Владимир Дедиер собрал сведения, из которых вытекает, что идею создать отдельный лагерь для изоляции информбюровцев предложил член Политбюро Эдвард Кардель. Когда идея была принята, место для создания лагеря союзная УДБа поручила подыскать министру внутренних дел Хорватии И. Краячичу. Он-то и выбрал для него Голый остров. Однако роль Тито в этом процессе реконструируется чисто гипотетически. Дедиер уверяет, что тогдашний политический механизм исключал принятие столь важных решений без согласия Тито – и только129.
Благодаря публикациям новых источников партийного происхождения современный исследователь может составить более развернутое представление о той роли, которую играло в репрессиях против информбюровцев Политбюро ЦК КПЮ, если проследить отдельные эпизоды, когда оно считало необходимым прямо вмешиваться в республиканские дела. Как это происходило, видно по имеющимся в нашем распоряжении материалам из Хорватии и Словении. Это протоколы заседаний Политбюро соответствующих республик. При чем важно учесть, что информбюровцы там имели разную степень влияния. Кроме того, следует принимать во внимание, что протоколы хорватского Политбюро более обширны, чем словенские, и содержат больше информации, а словенские отличаются крайним лаконизмом.
Для начала возьмем Хорватию, где информбюровцы были достаточно заметным явлением. Если мы будем рассматривать дело Р. Жигича и Д. Бркича как один эпизод, тогда прямое давление Политбюро ЦК КПЮ с целью усиления кампании против информбюровцев в протоколах хорватского Политбюро отразилось четыре раза. Первый раз оно фиксируется в марте 1949 г. Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Хорватии организационный секретарь Антун Бибер доложил своим товарищам о состоявшемся у него в Белграде разговоре с членами Политбюро ЦК КПЮ Э. Карделем, А. Ранковичем, Б. Кидричем и М. Джиласом. Ранкович потребовал активизировать идеологическую работу против сторонников Коминформбюро в прессе, разоблачать их деятельность «как антипартийную и антинародную, и антигосударственную», а также наконец открыто заговорить о роли СССР в разворачивающемся конфликте130. Политбюро, разумеется, предприняло требуемые шаги.
3 июня 1949 г. первый секретарь ЦК КПХ и член Политбюро ЦК КПЮ Владимир Бакарич ознакомил участников заседания с решениями Политбюро ЦК КПЮ, которое обсуждало состояние партийной организации в Хорватии. Среди прочего он сообщает: «Подчеркнуто, что борьбу против Информбюро нужно обострить»131. Действительно, на заседании Политбюро ЦК КПЮ 30 мая 1949 г. Тито отметил, что «в отношении чистки до сих пор мало сделано… Нужно дело ужесточить, но не впадать в крайность и не характеризовать всё, как информбюровщину»132. Таким образом, сигнал к обострению репрессий исходит непосредственно от Политбюро ЦК КПЮ. Хорватское Политбюро реагирует на это. На том же заседании Иван Краячич, министр внутренних дел, который тоже присутствовал на заседании югославского Политбюро, требует активнее привлечь к гонениям партию: «Подчеркивает, что самое большое бремя в обнаружении информбирашей несла УДБа, и поэтому нужно перед партийной организацией поставить [вопрос], чтобы она обострила борьбу против Информбюро, чтобы партийная организация и массовые организации активнее и бдительнее разоблачали и хватали все эти вражеские элементы»133. Вслед затем, 14 и 15 июня Политбюро ЦК КПХ в очередной раз перетряхнуло парторганизацию Загребского университета, а 1 июля обсудило положение с информбюровцами на новых землях, присоединенных по договору 1947 г. от Италии. Там особое внимание уделили нагнетанию обстановки в Риеке. На заседании член горкома Риеки Ливио Стечич высказал следующее мнение о врагах-информбюровцах: их кампанейски похватали и они затаились134. Таким образом, если враг себя не проявляет, это не значит, что его нет. Эту точку зрения мы уже видели у республиканского руководства, теперь ее усвоили и на уровне горкомов. На том же заседании Мика Шпиляк, который был секретарем загребского горкома партии и не имел никакого отношения к Риеке, выразил мнение, что в Риеке обнаружено слишком мало информбюровцев, и сказал, что «партийной организации следует заострить бдительность по этому вопросу»135.
Важно подчеркнуть, что Иван Краячич (известный также под партийной кличкой Стево, которая нередко использовалась вместо имени Иван) – фигура не случайная. Во второй половине 1930-х гг. с согласия ЦК КПЮ он работал на советскую разведку. А в послевоенное время входил в ближайшее окружение Тито, хотя не был членом Политбюро ЦК КПЮ. По сведениям, собранным В. Дедиером, в 1945-1955 гг. он посещал Тито чаще, чем кто бы то ни было. Именно он познакомил Тито с Ёванкой Будисавлевич, которая стала его последней женой. Согласно тем же источникам, Тито часто советовался с Краячичем по важным внутриполитическим вопросам136.
Следующий случай вмешательства Политбюро ЦК КПЮ произошел в августе и сентябре 1950 г. Он связан с делом Р. Жигича и Д. Бркича. Радован (Раде) Жигич был министром промышленности в правительстве Хорватии, Душан (Душко) Бркич – заместителем председателя Совета министров Хорватии. Кроме них в деле оказался замешан Станко (Чаница) Опачич – министр строительства, деревообрабатывающей промышленности и лесного хозяйства. Еще одной крупной жертвой по их делу в декабре 1950 г. стал министр генеральной дирекции сельскохозяйственных имений Душан Эгич. Все четверо были по национальности сербами.
Весной у Жигича возник конфликт с большинством Политбюро ЦК КПХ, при этом к нему сочувственно отнеслись Д. Бркич, Опачич и Эгич. Опубликованные документы дают основание для вывода, что в основе конфликта лежало обострение сербско-хорватских трений в республике. Жигича не устраивала экономическая политика, проводимая в сербских краях Хорватии (индустриализация фактически обходила их стороной). Кроме того, у него возникло недовольство личным поведением партийного руководства. Наконец, этих сербов угнетало, что пропагандистская война с СССР приняла к тому времени антирусские черты. Дело, по-видимому, усугубил резкий и прямолинейный характер Жигича, который не стеснялся высказывать упреки своим коллегам.
С июня 1950 г. поползли слухи, что Жигич информбюровец, о чем написали доносы 6 человек из высшего партийного руководства, которые не входили в состав хорватского Политбюро. Летом телефон Жигича стали прослушивать, его начали игнорировать партийные комитеты и УДБа в местах, которые он посещал, а Бакарич в июле пришел к выводу, что Жигич точно информбюровец. По этому поводу в ЦК КПЮ была создана специальная комиссия, которая расследовала дело137. Впрочем, никаких доказательств, что Жигич информбюровец, ни тогда, ни позднее найдено не было. И тем не менее требуемый диагноз был поставлен. Сделано это было на заседании Политбюро ЦК КПХ, которое происходило три дня 26, 27 и 29 августа с участием членов Политбюро ЦК КПЮ А. Ранковича и Э. Карделя. И сделал это лично Александр Ранкович. Как он заметил, Жигич берет руководителей партии и своей критикой каждому из них по отдельности подрывает авторитет в народе: «Это тактика Коминформбюро. Какая-то подоплека здесь есть. Не случайно, что это происходит сейчас. В этих трудных условиях осуществляется нападение на единство руководства, а с этим и на единство партии. …Так делают все фракционеры…»138 Силлогизм Ранковича предполагает, что информбюровцы это фракционеры. Но именно так предложил сводить с ними счеты член Политбюро ЦК КПЮ и первый секретарь ЦК КПХ Владимир Бакарич еще летом 1948 г.139 По-видимому, это был общий метод союзного партийного руководства.
Ранкович, Кардель и член Политбюро ЦК КПХ Звонко Бркич усмотрели еще одно преступление Жигича в намерении уйти в отставку. Этим он якобы тоже хотел подорвать единство руководства. Ранкович вообще определил это намерение уйти как единственный и беспрецедентный случай в партийной практике борьбы с Коминформбюро140.
Среди участников заседания Жигича поддержал только Душан Бркич. Его тут же поставили под контроль УДБы и начали бойкотировать. 1 сентября он подал заявление об отставке с должности заместителя председателя правительства. Отставку, конечно же, не приняли: член сталинистской партии не согласный с линией большинства имел перед собой лишь одну альтернативу: или все-таки согласиться или пасть жертвой. И 3 сентября в присутствии Ранковича стали разбирать его информбюровскую деятельность. Между Ранковичем и Д. Бркичем произошел следующий диалог, ярко иллюстрирующий политическую культуру сталинизма:
«Товарищ Ранкович: разве в партии можно подавать в отставку?
Душко Бркич: Нет»141.
Это и послужило отправной точкой для последующих рассуждений. Но на этот раз диагноз «информбюровец» по методу Ранковича поставил Звонко Бркич: «Они [Жигич и Д.Бркич] хотят играть в какой-то оппозиционный блок, который отстаивает интересы народа. Это форма деятельности Информбюро. Информбюро направило острие на использование личного недовольства и мещанства. И Душко Бркич держится линии Коминформа и сейчас этой линии держится. Подача такой отставки это по меньшей мере дезертирство, это линия Информбюро, это предательство партии»142. Выступавшие вслед за ним члены хорватского Политбюро повторяли и развивали один и тот же тезис: Д. Бркич отставкой хочет нанести вред партии, следовательно, он информбюровец. Немного дополнил их общую логику Миле Почуча. Он заметил о Жигиче и Д. Бркиче: «Видно, что они по линии сербства хотят создать фракционность, а эта фракционность находится на линии Информбюро»143. В итоге Д. Бркич разделил судьбу Жигича. Оба они, а также Опачич и Эгич, были отправлены на Голый остров без суда.
Показательно, что Иван Краячич знал реальную картину. Мато Райкович, бывший начальник загребского отделения ОЗНы, заявил Дедиеру: «Стево Краячич объяснил мне, в одном из многочисленных разговоров, что ни Жигич, ни Бркич, также как и Чаница Опачич, не были сторонниками СССР». Но ЦК КПЮ верил или делал вид, что верит в их вину. По сведениям В.Дедиера на одном из заседаний ЦК А.Ранкович сделал доклад, где назвал арестованных нелегальной группой, а Тито посетовал: «Вот, мы Жигичу и Бркичу доверяли, и видите, что у нас приключилось»144. В действительности, речь должна идти о заседании Политбюро ЦК КПЮ 13 сентября 1950 г., где выступали по этому вопросу Ранкович и Тито, хотя в протоколе заседания соответствующие оценки не отражены145. Дело Жигича и Бркича оставляет недоуменный вопрос: что это было – самообман или лицемерие Политбюро ЦК КПЮ, или же интриги хорватских руководителей, убравших чужими руками часть своих коллег? Вопрос этот пока не имеет однозначного ответа. Впрочем, некоторые хорватские историки склоняются именно к последней версии, приписывая инициативу расправы непосредственно Бакаричу146.
Тем не менее, указанное заседание Политбюро ЦК КПЮ дало импульс новой кампании репрессий. По мнению Тито, случай Жигича и Бркича требовал выявить имеющуюся в повстанческих краях вражескую агентуру147. Затем, группа ЦК КПХ обследовала положение в Далмации. После этого партия начала заострять линию в отношении Информбюро148. Отчет группы обсуждался на заседании Политбюро ЦК КПЮ 13 ноября 1950 г. «В слабой борьбе против информбюровцев виноваты и мы… С этим нужно покончить», – заявил Тито и добавил, что в Далмации не нужно жалеть людей149. После этих указаний руководство ЦК КПХ немедленно приняло меры.
16 декабря Анка Берус доложила об очередном обследовании обстановки в Далмации. При этом она выдала два примера шпиономании. «Есть небдительность к Информбюро… Есть исключенные [из партии] информбюровцы на местах, и не ведется борьба против них. Борьба против Информбюро рассматривается как дело УДБы. Этим сужена база борьбы против них»150. А следующее высказывание Берус это не просто нагнетание, а яркий образец гнусной полицейской логики: «Суды мягко наказывают за разные нарушения, а когда и вынесут наказания, они очень часто не выполняются. Верховный суд очень часто отменяет наказания вынесенные низшими судами. Адвокаты имеют большое влияние на судей. Прокуратура понимает свою роль как защитника народа от власти, а не помощника власти в осуществлении ее задач»151.
Кампания преследования информбюровцев в Далмации активно нагнеталась Политбюро ЦК КПХ с декабря 1950 и вплоть до марта 1951 г. Параллельно проходила зачистка от информбюровцев в Удбине, родном крае Жигича. Прижатый сверху секретарь далматинского обкома Анте Рое своим рвением в борьбе превзошел УДБу. Он стремился провести беспорядочные аресты, а УДБа его сдерживала152. В протоколах Политбюро ЦК КПХ это единственное подобное замечание! Обычно наблюдались стандартные жалобы, что партия менее активна, чем спецслужбы. Их было много и в период далматинской кампании. С особым вдохновением призывы к всенародной охоте на ведьм, к которой бы подключились и партия, и общественные организации, и широкие народные массы, озвучивали Иван Краячич и Звонко Бркич153.
Как стимулировалось участие в охоте на ведьм, показывает следующий пример, о котором мы знаем из документов 1953 г. Некто Панза Брнэ – секретарь парткома в котаре Синь попал под подозрение как информбюровец. Он знал об этом. И чтобы отвести от себя подозрение и избежать ареста Брнэ вынужден был усердствовать в преследовании информбюровцев в своем котаре, в результате чего пострадала масса невинных людей. Тогда в Синьском котаре «арестовывали, исключали, наказывали кого-либо, по кому не было каких-либо убедительных доказательств»154. Показательно, что об этом случае знало высшее руководство республики, но ничего не сделало, чтобы ограничить травлю людей в Сине. А когда в июне 1953 г. коллеги из парткома обвинили Брнэ во вредительстве, что он информбюровец и специально подрывал авторитет партии немотивированными репрессиями, Исполком ЦК Союза коммунистов Хорватии взял его под защиту, а Бакарич даже перенаправил удар. По мнению Бакарича на партконференции в котаре Синь нужно разобраться не в том, является ли Брнэ информбюровцем, а как вообще его додумались в этом обвинить.
Для справки отметим: против Панзы Брнэ свидетельствовали три бывших «мермераша» и приписывали ему «вербальный деликт»: якобы что-то где-то ляпнул, и якобы в его присутствии пели русские песни!155 Конечно, в октябре 1953 г. активная фаза охоты на ведьм уже прошла, но в разгар кампании Политбюро вело себя иначе. В той же Далмации оно совершенно не смущалось, когда обвиняло тех или иных людей в поддержке Информбюро просто на основе слухов156. Случай П.Брнэ мы описали так подробно потому, что среди ортодоксальных сталинистов по-прежнему встречаются попытки взвалить вину за репрессии на «врагов народа», которые специально уничтожали невинных людей. В действительности, как показывает изложенный пример, за этим может стоять сознательное использование страха потенциальных жертв высшим руководством.
В ходе далматинской кампании остро встал вопрос об отношении к информбюровцам, вышедшим из лагерей. Повод для нагнетания подал член ЦК КПХ Анте Юрьевич, более известный по партийной кличке Бая. На городской партконференции в Сплите он примирительно отозвался об освобожденных информбюровцах, а затем повторил свою позицию в обкоме. Во время критики на заседании Политбюро 16 января 1951 г. Антун Бибер изложил позицию Баи-Юрьевича и прокомментировал ее так: для него «главное, что коминформовец сейчас хорошо работает, и ему неважно, какое он имел прошлое. Этого не достаточно. Нужно знать, что это люди, которые уже однажды отошли от нашей партии»157. В тогдашних условиях это был настораживающий намек. Но Бакарич поспешил успокоить Юрьевича и всполошившегося секретаря обкома Рое, что Баю не подозревают в сочувствии информбюровцам, просто обком не имеет четкой линии.
На последующих заседаниях Политбюро постаралось, чтобы эта четкая линия появилась у всех. 2 февраля Звонко Бркич несколько раз призвал ужесточить отношение к «мермерашам»: разоблачать, усилить гонения и не смотреть на них как на политические жертвы, или как на реабилитированных158. А вот более развернутая оценка: «Всякий тот, кто прошел «Мрамор», но не выдвинулся в работе больше, чем другие, поскольку недостаточно, чтобы он просто работал как остальные, он должен своим трудом и политической активностью, разоблачением империалистической политики СССР доказать, что действительно исправился. Этих «мермерашей» необходимо посылать на физические работы на малые фабрики. С ними могут проводиться и групповые встречи и открыто им и ясно говорить, поскольку Информбюро укрепляется в их среде, что они не стремятся, а обещали нам, что будут стремиться работать, и если неактивны, тогда их нужно снова отправить на «Мрамор»»159. Таким образом, запугивания информбюровцев не должны были прекращаться после выхода из лагеря.
А вот как творчески восприняли курс, провозглашенный З.Бркичем, в Истре. 26 апреля 1951 г. Бакарич доложил, что там сложился такой «метод руководства» информбюровцами: «Существует классификация информбюровцев: I группу арестовать, II избить, III изолировать, IV учет. Информбюровцев вызывали в комитет и колотили их»160.
В пятый раз вмешательство союзного Политбюро фиксируется в январе 1952 г. З. Бркич отчитывался на заседании Политбюро ЦК КПХ о встрече, состоявшейся в ЦК КПЮ. Заседание имело место 15 января 1952 г., однако в Архиве Югославии оно ошибочно датировано 1949 годом161. Там рассматривалось положение в вузах, и было отмечено, что «демократизация понята так, что всякий делает, что хочет, враг оживился, не замечаются методы работы ИБ. Большинство информбюровцев проповедует, что не будет заниматься политикой». Поскольку речь шла в основном о бывших информбюровцах, которые пытались возобновить обучение после выхода из лагерей, Политбюро ЦК КПЮ приняло ряд решений и в частности такое: «Каждого информбюровца подвергнуть контролю, все мермераши162 не могут быть приняты на факультеты»163. Хорватское Политбюро ограничилось тем, что приняло эту информацию к сведению.
Таким образом, все пять случаев, когда Политбюро ЦК КПЮ непосредственно занималось информбюровцами и доносило свою позицию до хорватского руководства, характеризуются нагнетанием обстановки и усилением репрессивного курса.
То же самое мы наблюдаем в Словении. В этой республике информбюровцы не отличались особой активностью. Поэтому в нашем распоряжении есть только два примера влияния из союзного центра – один косвенный, другой прямой.
Первый случай датируется концом 1950 г. 14 ноября на заседании Политбюро ЦК Коммунистической партии Словении присутствовал член Политбюро ЦК КПЮ Борис Кидрич. Скорее всего, его приезд был связан с разбором националистического поведения словенского писателя Э. Коцбека. Тем не менее, он принял участие в заседании, где был поставлен более широкий вопрос – о внутреннем положении Словении. Протокол не фиксирует, чтобы Кидрич непосредственно говорил об информбюровцах. Инициативу на себя взяла докладчица – Лидия Шентьюрц. Она констатировала мягкое и терпимое отношение к информбюровцам и предложила его ужесточить, усилить бдительность, углубить в партии политическую работу, бороться с прослушиванием информбюровских радиостанций164. В резолюции Политбюро так и записало: «Сильно обострить борьбу против влияний информбюровской пропаганды и жестко обратить внимание с[резных] к[омитетов], чтобы заново проанализировали информбюровские влияния и не убаюкивали себя, что информбюровцев нет»165. К тому времени в Словении исключили из партии за поддержку Коминформбюро только 317 человек, и по-видимому, кому-то это число показалось слишком незначительным. Не прошла и неделя, как 20 ноября 1950 г. на новом заседании Политбюро ЦК КПСл еще более жесткие призывы огласил министр внутренних дел Б. Крайгер: «Вопрос Информбюро. Во всей нашей борьбе недостаточно остроты, нужно поставить эту проблему.… Есть много признаков скрытых информбюровцев, а партийные организации их не раскрывают, потому что борьба против информбюровцев шаблонная». Выходит, что по мнению Крайгера враг есть, а если его не обнаружили, значит, не искали. Политбюро не возражало против этой установки на шпиономанию и постановило: «6. Против всех форм деятельности Информбюро обострить бдительность, особенно в молодежных и партийных организациях»166.
Второй случай, когда Политбюро ЦК КПЮ стимулировало кампанию охоты на информбюровцев в Словении, однозначен, и сомнений в его причастности не вызывает. В январе 1951 г. был арестован Душан Майцен – полковник, начальник кафедры артиллерии высшей Военной академии в Белграде. По происхождению он был словенцем. Это самая высокопоставленная жертва среди словенцев-офицеров за весь период репрессий167. В том же месяце закончила работу группа ЦК КПЮ, изучавшая обстановку в Словении. В итоге в январе 1951 г. состоялось заседание Политбюро ЦК КПСл с участием таких членов союзного политбюро, как Б. Кидрич, Мома Маркович, М. Джилас и А. Ранкович. К сожалению, в протоколе не сохранилась точная дата заседания, и мы можем сказать лишь, что оно прошло между 20 и 31 января.