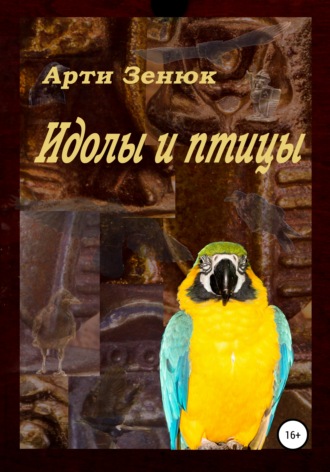 полная версия
полная версияИдолы и птицы
Но теперь слова «липли» ко мне сами по себе, всё получалось, понималось и помнилось. Мы договорились с Кирилычем больше не общаться на моем языке, и даже если была необходимость что-либо объяснить, то делалось это только при помощи слов его языка и жестов. С того момента и до момента возвращения назад я только раз или два сказал фразы на своем родном языке. Теперь моя речь была коверканная и сухая, а Кирилыч говорил очень грамотно и без ошибок.
Вместе с изучением иностранного языка продолжалось и мое знакомство с окружающим меня новым миром. Тягости быта и обстановки перестали замечаться после второй недели, влияние фигурки ощущалось углублением всех тех чувств, посетивших меня в первые дни. Но, в отличие от сумбура и шквала эмоций первых дней, теперь всё приобретало завершенность и порядок. После того осознания себя, замерзая в ночном поле, я почувствовал свою ценность. Теперь во мне было твердое ощущение, что время создает на мне все новые и новые грани. С Кирилычем мы разговаривали мало, он не пытался ни узнать что-либо про меня, ни отвлекать, если я вдруг садился на корточки и рассматривал часами какие-нибудь травинки или камешки.
Осенью, уже перед самыми заморозками, я впервые вышел за пределы его участка. Он собирался идти за грибами. Узнав об этом, я очень заинтересовался процессом и решил пойти с ним. Сразу же, когда я покинул границу уже привычной обстановки, родилась масса вопросов. Первый и основной появился, как только мы прошлись вдоль шоссе. Хотя, скорее всего, даже дорогой назвать это было нельзя, она местами слегка угадывалась. Асфальт весь перекошенный сам по себе был сплошь и рядом покрыт ямами, не совместимыми с возможностью автомобильного передвижения. Можно было бы предположить, что ямы – результат массированной бомбежки, проводившейся, как я понимаю, регулярно, если бы не кривизна и неоднородность самой поверхности.
– Что случилось с этой дорогой? – удивленно спросил я.
– Не знаю, она всегда такой была, сколько я себя помню, – равнодушно ответил Кирилыч.
– А почему не переделать на нормальную?
– Никому это не нужно, вот и не переделывают.
– Ездить-то по ней как? – недоумевал я.
– Как-то ездят, там притормозят, там объедут. Я особо не вникал, у меня велосипед, мне проще, – и добавил, указывая пальцем на заросли: – Давай с краю посадки начнем искать грибы.
На востоке от деревни начинались поля, уходившие к горизонту, расчерченные вдоль и поперек лесополосами шириной метров в тридцать. Деревья посадок были уже старые, вперемешку с густо поросшим молодняком и кустарниками. Лесополосы были явно продуктом человеческого вмешательства, потому как разделяли фрагменты поля на ровные квадраты размером около километра. В этом всем мы и начали нелегкие поиски грибов – вернее, того, что в стране Кирилыча называют грибами. В моем понимании грибы – это шампиньоны, лежащие на витрине, беленькие и ровненькие. Еще, возможно, трюфели, хоть я их никогда не пробовал. В лесах у нас каждую осень растет множество съедобных грибов, с ровными округлыми шляпками на коротенькой ножке. И хоть мы их и не едим, имея под боком магазины, но всё же растущие у нас в лесах грибы выглядят так, как им и положено. Тут же грибом назывались бесформенные перепончатые штуковины серого цвета, причем одни из них были съедобные, а другие, с виду такие же, – нет. И ко всему прочему, нужно было хорошенько постараться, чтобы эту мерзость найти.
– Этот съедобный? – спрашивал я у Кирилыча про находку.
– Этот – да, – посмотрев, отвечал тот.
– А вот этот, что я нашел?
– Нет, этот есть нельзя, он ядовитый.
– Но разницы нет! Как ты их отличаешь? – спрашивал я с досадой, потому как чувствовал себя дураком.
– Они немного отличаются, просто нужно привыкнуть. Я иногда тоже сомневаюсь, тогда можно понюхать: те, что хорошие, пахнут по-другому. А самый верный способ проверить – вот такой. —
Кирилыч взял гриб, надкусил краешек, попробовал языком и выплюнул, добавив: – Несъедобные – горькие.
Так мы дальше и пошли. Я каждый гриб нюхал и деловито пробовал на язык. И действительно, те, что пахли приятной свежестью осеннего леса, были с насыщенным грибным вкусом, намного превосходящим известный мне вкус шампиньона. А те, что с запахом болотной сырости, неприятно горчили.
Мы сделали крюк через два квадратика лесопосадочных полос, называемых здешним населением «посадка», и с корзинами грибов, очень довольные, возвращались назад.
– Что растет на этих полях летом? – спросил я.
– Сейчас ничего хорошего, гробят сейчас поля, – с какой-то печалью сказал Кирилыч, а потом добавил: – А раньше всё росло: пшеница, картофель, капуста, лук, подсолнечники, кавун, помидоры. Всего и не перечислишь.
– Почему сейчас не выращивают и что означает «ничего хорошего»? – удивленно спросил я.
– Не выращивают, потому что прежний прядок развалился, а новый не наступил, вернее, наступил, но бестолковый. Потому и растят всякую дрянь для биотоплива, гробят землю. Неясно даже, что лучше: заливать химикатами и растить монокультуру или пустить землю под бурьян до прихода любящего её хозяина… – Он задумался, а потом с досадой добавил: – Но дать людям возможность работать и кормить свою семью – тоже выход.
– А почему выращивают то, что губит почву, в чем логика? Земля истощается, истощится, а будущее как?
– Думать о том, что будет дальше, невыгодно. Нормальные растения нужно возить, хранить, сбывать, это дело хлопотное и требующее слаженной работы всех вместе. А вырастив рапс, его по месту перерабатывают в биотопливо, востребованное в вашем мире, и реализуют за валюту. У людей есть зарплаты, у торгашей – прибыли, все довольны.
– Кирилыч, но есть же наука, как правильно ухаживать за землей, этот ресурс восстанавливается. Те, кто берут в аренду землю, обязаны подтвердить, что ее показатели по завершении использования не поменялись.
– Да, ты совершенно прав, но только не в мире, где нажива на первом месте. Были поля с десятком разных культур, а теперь десятки полей с одной. И нет у нас того, кто думает о защите прав самой земли. Вот так вот, Филя!
Я был подавлен услышанным. Другими словами, моя мама, борющаяся за экологию, пишущая всякие петиции в защиту тюленят и бенгальских тигров, и вообще за мир во всем мире – после заливает в бак своей машины не вредящее окружающей среде биотопливо, добытое из возобновляемых, на первый взгляд, ресурсов. И оно, это биотопливо, никаким образом не вредит нам там. И мы знать и думать не хотим, что отвезенная на машине петиция в защиту бенгальского тигренка где-то съела ведро чернозема. Не нужно возить плодородную землю вагонами, как когда-то делала фашистская Германия, теперь можно её забрать у той же страны, даже не замарав руки, банальной алчностью тамошних бизнесменов и чиновников.
Получается, мы все живем за заборами своих стереотипов и ширм системы, и думать о том, что будет дальше, нашему виду свойственно только тогда, когда выгодно. Бенгальский тигренок – это да, он симпатичный. Спасая его, можно поднять свою самооценку, почувствовать свою значимость для этого мира и поучаствовать в разумном, добром и вечном. И так сто тысяч домохозяек написали по сто тысяч писем и, вложив в сто тысяч конвертов, повезли их на биотопливе в места сбора петиций, да ещё потратили по киловатту электроэнергии, придумывая, что написать. А оно, это электричество, пожалуй, тоже не из воздуха делается. И сидит теперь маленький милый тигренок, осознавая перед вселенной, что его жизнь получена взамен сотен больших деревьев и ста тысяч ведер черноземной почвы, сидит, и хочет тихонечко сдохнуть в своей Бенгалии. Мне было неприятно понимание такого нюанса, тем более я не был готов принять всё это в комплексе. Как и полагается нашему виду, я решил пока не касаться размышлений на этот счет, всячески отгоняя мысли о тигренке.
После поиска грибов мои походы за пределы забора Кирилыча стали обычным делом. Из-за пристрастия к огню запасов дров было недостаточно, и чтобы я мог жечь огонь, когда захочу, мне пришлось самому всё обеспечивать. Раз в день я брал тележку, ножовку и ехал в посадку за хворостом. Когда началась зима и выпал снег, колеса тележки сменились на две старые лыжи, и я продолжил добычу веток. Из дров старался брать те, что ярче горят и легче пилить, а Кирилыч надо мной подшучивал и говорил, будто я вожу один мусор, а нужно искать твердую породу деревьев. Тогда у нас даже вышел спор об эффективности – добыть и сжечь в печи десять килограмм легких или десять килограмм тяжелых дров.
Раздобыв где-то весы и термометр для воды, мы решили так: идем вместе, набираем сначала те дрова, которые, по моему мнению, будут самые подходящие, а потом повторную ходку делаем за дровами Кирилыча. Взвешиваем ровно по десять килограммов и один день нагреваем воду моими дровами, а другой день – теми, которые решил взять он. Результатом будут показания термометра: на сколько нагреются одинаковые объемы воды на плите. Понятное дело, что легкие дрова горят быстрее и ярче, но они выделят и больше тепла, только сделают это очень быстро. Может, для поддержания тепла в доме медленно тлеющее твердое полено и лучше, но вес-то один и тот же, значит, и калории, съеденные огнем, одинаковы. Я был уверен в победе, потому что очень хорошо знал физику ещё со школы. Мне нужно было взять над Кирилычем верх хоть в чем-то. Он же физику процесса вряд ли толком знал, да еще и подшучивал надо мной.
– Ну Филька, артюха с погорелого театра, придумает же тоже!
– Мне это говорит человек с таким забором. Мы посмотрим, вода всё покажет, – бурчал я в ответ.
– Если бы не мой забор, мы бы задницы морозили с лопатой, а так у нас свои апартаменты с крышей над головой, – весело отвечал он.
Не знаю, как такое возможно, но продул я со своей физикой, причем с разгромным счетом. Его дрова нагрели воду до кипения, ещё не успев прогореть, а мои довели тот же объем до пятидесяти двух градусов.
– Как это может быть?! Ведь физика, – возмущался я.
– Физика-шизика, говорят же ему, слушай старших, – хихикал он. – Ты что думаешь, я физику в школе не учил? Думать нужно меньше, соображать больше – и всё у тебя, Филька, будет путём. Он явно надо мной издевался, имея полное превосходство в знаниях. Ничего не оставалось, как смириться и узнать, где в моей теории был прокол.
– Тогда объясни!
– Да всё просто. Если бы ты даже взял одинаковые килограммы и поместил в идеальные условия, в моих дровах все равно жару было бы немного, но больше. В этом дереве, кроме самой деревяшки, не то смолы, не то сахар. Это раз. Кроме того, нужно понимать, как работает печь. Труба, вынесенная над крышей дома, создает незначительный, но перепад давлений, а температура огня создает поток теплого воздуха, его усиливающий. Весь жар, собранный в посадке, ты сам же и выдул в трубу, усилив большим огнем тягу и передав самой плите лишь малую часть.
– Вот же зараза! – в сердцах сказал я. – Твое бревно без пламени предало излучением. – Я уже понял свой прокол.
– То-то же, мозги включай потихоньку, и всё у тебя будет хорошо! – сказал он немного лукаво, но очень по-доброму.
* * *После случая с дровами я уже не спорил с ним и считал всё, его окружающее, правильней того, что было известно мне. Вечерами напролет я жег печь, восседая перед ней в обустроенном из всякого хлама кресле, смотрел на пламя тысячи свечей, видя в огнях то танец балерин, то попытку создания вселенной, и многое понимал в размышлениях. Днем шел за новой порцией топлива, а вечером снова её сжигал, и с каждым моим огненным циклом с меня сгорало что-то старое и открывалось что-то новое. Когда были деньки с хорошей погодой, Кирилыч ходил со мной помочь набрать больше топлива для моего увлечения. Я заметил, насколько он сильнее меня физически. Как может быть в таком маленьком ссохшемся полустаричке столько силы? По сути, плохо питаясь, крепко выпивая, как только я выдавал ему очередную порцию денег, будучи на голову ниже меня, он перепиливал твердое дерево в два раза быстрей. И делал это, что самое обидное, почти не напрягаясь.
Вспомнился тренажерный зал моего института, где завсегдатаи этого заведения после протеинового коктейля создавали из себя искрометных красавцев. Причем закономерность была явная: чем ближе они были по уровню к мальчику-дзен, тем удачней у них получалось нарастить бесполезную форму шкафа. Пару сотен лет назад им бы очень обрадовались на острове Кука. Их мягонькие габаритные тела не нужно было бы даже мариновать. Мы как-то с Замиром имели неосторожность пойти в поход в компании с одним из таких, краем глаза любующимся на себя в зеркале. Мыльный пузырь сдулся через полдня пешего перехода и волочился амебой сзади самой слабой девочки. В таком режиме он мучился сам и тормозил остальных ещё полтора дня. На третий день, к его огромной радости, группа послабей откололась, а мы с Замиром ещё четверо суток проходили по горам с тридцатикилограммовыми рюкзаками на плечах. И теперь я, ходивший по горам крепкий молодой парень, вижу себя и Кирилыча, и понимаю, что я – как тот кот, пришедший к маминой тарелочке с кормом, а он – Чиф. Одна радость была в том, что если уж сравнивать всех, то периодически надрывающие свои мышцы культуристы тогда будут аккуратно надутыми левкоями или сфинксами.
Как только я освоил язык, сразу же начал о многом расспрашивать Кирилыча. Это было полезно с двух сторон: я тренировался в произношении и узнавал о нем что-то новое. Оказалось, наше жилище – не заброшенный дом, в котором он поселился, а его вполне законные владения, как и часть поля за задней стороной двора. Полем он не занимается, а отдал его в аренду соседям. Те за использование для домашних нужд давали ему пшеницу, свеклу и прочую растительность, которую, в основном, съедало его хозяйство. Ульями он тоже не занимается, а за их сохранность получает пару баночек меда. И о самом Кирилыче я тоже много узнал. Он был вовсе не аристократ, и про пенсне и бабочку тогда всего лишь пошутил. Я узнал, что он родился неподалеку отсюда, а его родители переехали сюда на незаселенные территории в поисках лучшей жизни. Меня заинтересовала тема о незаселенных территориях, но выяснить у него, как и почему пустовали такие богатые земли, не получилось, он этого не знал. Я же не мог позволить себе пробелы в знаниях, а потому решил разузнать об этом, как только представится возможность.
Также я узнал, что у него есть две взрослые дочки, была жена, но они в разводе. Младшая из дочерей время от времени его навещала. Он говорил о себе много, и всё сказанное могло бы вложиться в отдельный рассказ, но основная суть была приблизительно такой. Его жизнь постоянно не складывалась из-за его прямолинейности, активной позиции и желания сделать всё «по-правильному». То он говорил глупым начальникам, что о них думает, то он пытался что-то переделывать «на-лучше», но нестандартно. В его жизни всё продолжалось закономерно плохо, несмотря на блестящий ум, пока он не скатился до простого кочегара. Это, как я понял из рассказов, человек, кидавший каменный уголь в котел, дающий отопление жилому дому или домам. А когда из-за конфликта его уволили и из кочегаров, то произошел разрыв и с женой.
Не стоит вдаваться в его житейские подробности. Только на одном примере хотелось бы объяснить, как можно быть уволенным с работы уровня копирайтера. Допустим, начинается отопительный сезон, и жители дома узнают, что их батарея централизованного отопления, которая никогда не была теплее пятидесяти градусов, становится очень горячей время от времени. Задают вопрос человеку, заведующему теплом, почему их батарея выдает иногда девяносто, при всех ранее высказанных заверениях, что больше пятидесяти – никак. Начинается разбор полетов, и выясняется, что на той работе появился Кирилыч и начал делать её так, как и положено. Во всё довольное окружение вносится сумбур, счастливому неведению жильцов пришел конец, все котельщики, мирно отдыхающие большую часть своего рабочего дня, должны начать работать, уголь, который они не жгли, а продавали налево, нужно будет сжечь, а их заведующий не получит свою часть маленькой угольной аферы. И при этом при всём переубедить Кирилыча отдохнуть и начать получать удовольствие – нельзя. Потому как это неправильно.
Именно таким образом система, работающая на схожих принципах, и выдавила его на задворки цивилизации, где он честно исполняет свою работу сторожа. И не будь он честным и трудолюбивым человеком, то крепко спал бы тогда в своей сторожевой будке, а я бы мирно замерз в углу коровника с паспортом Филиппа Гаврановича в кармане. Сложности честного отношения к своей работе и тут его периодически преследовали в виде пьяных разъяренных мужиков, которым он перешел дорогу, охраняя коллективное добро. Ему с трудом удалось удрать от них пару раз через окно своего дома, после чего он старается там не ночевать до окончания изготовления подземного хода, по которому он смог бы улизнуть через сарай в случае опасности. И действительно, с той темной части подвала, где хранилась картошка, морковка и прочее, было прорыто метров шесть небольшого подземного хода в сторону вскрытого в зале пола. С моей точки зрения, это выглядело как-то глупо и неестественно. Но, вспоминая непонимание слов Карла, что на машине будет дольше, и как до меня дошла суть сказанного, я решил не торопить события, увидев дорогу при походе за грибами.
К слову, грибы были просто отменные и не шли ни в какое сравнение с теми шампиньонами, которые я ел до того момента. Это же можно было сказать о вкусе всей тамошней еды. Она была значительно насыщенней и ароматней нашей. Мои родители с детства старались отдавать предпочтение натурально выращенным продуктам. Полуфабрикаты и фастфуд не приветствовались, вода пилась из стеклянных бутылок альпийского ледника, и всё в таком же духе. Но еда здесь, особенно если она была приготовлена на огне дров, а не на электроплите, была намного вкусней. Я не видел кофе с момента ухода из вагона-ресторана, но недостатка в весьма достойных напитках здесь не было. Оказывается, заваренные веточки вишни имеют насыщенно-вишневый цвет и потрясающий вкус, а ветки малины – золотистый с медовым отливом цвет и тоже вполне хороши. И это обычные палки, небрежно нарезанные зимой! Для того чтобы сделать напиток, достаточно было выйти за порог дома и, наломав веточек, заварить их в кипятке на пару часов. Чайные теины были в травке иван-чай, сам я её не видел, только комканные и определенным образом ферментированные шарики, засушенные и сложенные в банке. По словам Кирилыча, травы тут валом, и, по его непроверенным данным, здешние территории были экспортером этой травы, пока Англия в девятнадцатом веке не подмяла рынок с чаем под себя10. В сочетании со всякими дополнительными травками, такими как мята, чабрец и прочие из великого разнообразия, можно было получить очень разнообразные на вкус горячие напитки.
То же касалось и холодных напитков. Одна из бочек, которые я поначалу считал чем-то прокисшим, была с напитком, именуемым общей классификацией «квас». Говоря другими словами, у них всё, что каким-то образом принудительно и контролировано прокисло без сильного алкогольного брожения, называется квасом. То, якобы прокисшее, что стояло в подвале, было соком березы, добытым в период весеннего сокодвижения, с добавлением туда небольшого количества обжаренного жита. Это какая-то разновидность злаковых, ячмень или рожь. Я так и не разобрался, в общем, что-то похожее на пшеницу. Да и процесс прокисания того напитка в прохладном темном помещении толком не изучен и, скорее всего, сродни тому, что проходит в винах при их сбраживании. К лету напиток созревает и в прохладных условиях при отсутствии контакта с воздухом может храниться до следующего березового винтажа. Сложные кислоты и какие-то неизученные антибиотики не пускают в напиток ни плесень, ни что другое. Как-то раз, забыв часть такого кваса в тепле, я с удивлением обнаружил, что он только приобретает пожухлые мышиные тона не раньше чем через неделю, и всё. Вскрытое сухое вино киснет за сутки, а тут неделя!
Если уже зацепили тему тех непонятных бочек, то сказанное ранее касалось и их. В одной была заквашенная с морковкой капуста, в другой – квашеные яблоки, в третьей – арбузы. Всё окружение было наполнено мудростью предшествующих поколений, простотой и дешевизной. Всем тем, от чего нас так бережно отучают, стараются не допустить к нам эти знания и потерять их навсегда. Чтоб сделать нас как можно больше зависимыми от системы, нами же и придуманной.
По моим наблюдениям за ведением хозяйства, большая часть усилий была направлена на продукты животного происхождения, причем существенными были затраты на них в зимний период. К этому времени поголовье скотного двора резко уменьшилось, и я жадно наблюдал за каждым процессом умерщвления. Увидеть глазами, откуда добывается мясо, было необходимо. Это следовало знать, и не потому, что я настраивался быть вегетарианцем, или наоборот, из жажды крови. Все убитые нами птицы и животные были очень вкусные, и я продолжу быть отъявленным мясоедом. Но знать об ответственности и о цене полученных калорий и радостных рецепторов – было бы правильным. В будущем я не желал бы видеть смерть тех, кого ем. Но увиденное научило меня брать только необходимое, с уважением к отнятой жизни.
Хотелось бы еще рассказать про механизм товарно-денежных отношений хозяйства, вернее, они были больше товарно-товарные. Излишками обменивались соседи, на кусок мяса от убитого козленка через некоторое время вернули кусок от поросенка, что-то солилось, что-то вялилось или тушилось. Деньги, которые я исправно давал Кирилычу и от которых он отнекивался, больше тратились на выпивку или на чудны́е блюда вроде сырой еле соленой морской рыбы с жутким рыбьим запахом. Она поедалась Кирилычем с умилением на лице. И я его не осуждаю. У каждой народности есть свои традиции, одни едят лягушек и икру улиток, другие – жареных кузнечиков и личинок, кто-то пьет кофе из зерен, прошедших через пищеварительный тракт мусанга. У каждой культуры свои заморочки в еде. Причем того, что это кажется жутким, мы не замечаем в силу с детства укоренившихся традиций. Однажды Кирилыч мне сказал:
– Раз ты, Филя, все равно даешь мне деньги за жилье и пищу, мы гусей и петуха зарубим и съедим, чтобы не кормить всю зиму. А весной я куплю гусят и молодого петушка по новой. Как тебе такая идея?
– Не имею ничего против. Но как же куриные яйца, если не будет петуха? Жалко будет их лишиться.
– А что петух до куриных яиц?! – удивленно спросил он. – Куры несутся и без петухов, из них цыплят только не смогут высидеть и немного хуже несутся. Но зимой они и так плохо несут яйца, а в закрытом курятнике высматривать шуляков он не нужен.
Получается, в контексте упомянутых странностей в кулинарных предпочтениях разных культур куриные яйца, продукт, так популярный во всем мире – не что иное, как куриная яйцеклетка. А со знанием того факта, что для получения яйца петух и не нужен вовсе, яйцо становится просто продуктом менструального цикла курицы. И мы после этого, с вершины всей своей цивилизованности, пренебрежительно фыркаем на австралийского аборигена, радостно запекающего в листке жирнющую белую личинку, дозу чистого протеина, по сути.
* * *Так прошла моя зима. Всего хватало вперемешку: обыденной суеты – что поесть и как помыть, и восторга невероятных открытий во мне самом и в окружающих меня мелочах. Из того, о чем можно было бы ещё вспомнить, хотелось сказать о выросших за зиму трех зубах мудрости. И четвертый был на подходе. Я по этому поводу даже льстил сам себе – мол, всё потому что я становлюсь мудрей. Хоть такие зубы растут и у лиц с умственным коэффициентом в восемьдесят, но стоило себя мысленно порадовать. Изменения во мне действительно были поразительными.
Я иногда помогал в работе Кирилычу и подменял его на ферме. Прознав, что к нему приехал погостить какой-то родственник, молодой крепкий парень, злые преследователи оставили его на время в покое, и он спокойно занимался своим подземным ходом. Как выяснилось, окошки ферм нужны были не для того, чтобы коровы смотрели в них на природу, а для возможности выбрасывать через них все, что из коров вываливалось или вытекало. Никакой механизации внутри самой фермы не было: деревянные загоны, деревянные кормушки, куда вручную сыпался корм, и катастрофическая грязь. Причем, по всей видимости, эта грязь давно въелась во все элементы конструкций и стала частью декора. Эдакая чудная лепнина, скорее всего, привела бы в восторг моего вымышленного эстета-кошатника Альберта. Такая грязь, что направь Геракл даже самую большую реку через сооружение11, удалить этот шедевр можно было бы только с самим зданием фермы. Кроме того, здание освещалось очень тусклыми лампочками, что придавало окружению зловещий вид, и в этом всем уныло стояли коровы, покорно ожидая весны.
Все, что было выброшено за окна фермы, там и оставалось навсегда. Покатые склоны многолетнего перегноя уже были почти вровень с окнами. По ним даже кое-где можно было перебраться на крышу фермы. Я мог бы спросить у Кирилыча, почему тонны богатейшего удобрения лежат по бокам невостребованные, но ответ был очевиден: «А кому это нужно». Над этим всем висело непостижимо глупое облако лени и безразличия, вызывая желание без надобности поменьше смотреть в сторону фермы.

