
Полная версия
ГОРА РЕКА. Летопись необязательных времён
Той явно был зол. Хохот прекратился и перешёл в гул. И это был уже явный призыв к драке.
По своему физическому сложению ни Той, ни Хлюпа не обладали бойцовским видом. При этом лидерские качества Тоя, исходившие из его уверенности во всём, что он говорил и делал, были хорошо известны в школе; многие также видели, что иногда эта уверенность граничила и даже переходила в дерзость. Рассчитывать на то, что Той отступит было невозможно и в этом смысле зрелище было гарантировано. Толпе оставалось лишь понудить к драке Хлюпу, который имея статус «клоуна-шестёрки» не имел желания к бо́льшему самоутверждению и, явно сожалея о том, что закусился с Тоем, пытался затесаться в стоявшую позади него толпу и тем самым миновать конфликт. Толчея же наоборот сомкнулась, выплеснув в передние ряды наиболее агрессивных и авторитетных пацанов, имитировавших пинки Хлюпе под зад и провоцировавших его на драку, выкрикивая весьма обидные для него определения. Завершил же приготовление к зрелищу Ермила (Вова Еремеев). Одноклассник Тоя, он считался одним из самых физически сильных парней в школе и мог успешно противостоять даже десятиклассникам. При этом он не был отчаянным хулиганом и никогда не шкулял деньги, а среди шпаны пользовался уважением…
Наиболее отмороженные шкуляльщики вымогали мелочь, собирая на бутылку, не только на улице и во дворах, но и в коридорах своей школы во время перемен. Это отребье не пользовалось авторитетом даже у “умеренной шпаны”, но их опасались все без исключения и старались не связываться. В школе Тоя шайка отмороженных шкуляльщиков состояла из четырёх человек. Трое из них были младшими братьями посидевших за разбой ублюдков, могилы[7] которых находились в прибазарных бараках. Хороводил шайкой Назмик – брат настоящего вора в законе, которого Тою пришлось однажды увидеть во всей красе: белой крахмальной майке, с расписанными от пальцев до плеч руками и огромными воровскими звёздами на плечах. Гребень – это была кличка вора – сидел на лавке перед бараком и, попивая водочку, о чём-то толковал с молодым парнем. Парень был в дорогом прикиде[8], кепка у него была натянута на голову до самых глаз и ушей. Лицо парня было весьма примечательно: нижняя очень полная губа выпирала сильно вперёд, горбатый, ниспадавший от бровей огромный нос сильно принижал в размерах и так крохотные крысиные глазки. При этом на лице парня была скроена никогда не исчезающая блатная ухмылка. В сравнении с жёстко вырубленной мордой Гребня, скулы которого непрерывно наяривали мускулами, и, казалось, вообще не зависели от других частей его лица, а были как бы сами по себе, лицо молодого парня ассоциировалось в воображении Тоя с образом трусливого крохобора, который играя “в пристенок”, пытается незаметно пододвинуть свою копейку указательным пальцем, чтобы средним пальцем достать монету другого играющего, и тем самым хлыздово выиграть её. Назмик сидел на лавке вместе с ними и, перемалывая во рту вар, периодически сблёвывал накопившуюся слюну. Эта картинка почему-то вдруг стремительно пронеслась в воображении Тоя, когда Ермила, возникнув из толпы, крепко прихватил за плечи повздоривших пацанов.
– В первую перемену – в туалете, – сказал он и, растолкав Тоя и Хлюпу в разные стороны, завершил неопределённость исхода ссоры назначением драки.
Толпа отреагировала удовлетворённым гулом. Всё стало ясно, справедливо и единственно правильно.
Отзвенел сигнал к началу занятий, перейдя в конце своего звучания в низкотоновое дребезжание.
Первым уроком значилась физика. Училка по этому предмету была совсем ещё молоденькая, вот только закончившая институт и появилась в школе всего два месяца назад. Она была невысокого роста, худенькая телесами, с куньим личиком и особо неверным произношением числительного пятьдесят. Училка, как казалось Тою, умышленно и для выпендрёжа произносила: «Питсят». В школу она ходила в обтягивающей чёрной юбке – длиной ровно до средины коленок и толстой вязки светло-коричневом свитере с высоким воротом, упирающимся в подбородок и даже мешающем ему спокойно жить. Поэтому она периодически запускала ладонь между воротом и шеей и, отъелозив туда-сюда, поднимала подбородок вверх, а ворот свитера одёргивала вниз. Тоя слегка возбуждали её сиськи, торчащие в разные стороны и плотненько обтянутые свитером. Они были очень пропорциональны всему остальному, причём оканчивались практически остриём. Правда, это было всё, что привлекало Тоя в училке и то – лишь из любопытства узнать, а как это будет выглядеть внатуре и наощупь, если всё это взять и заголить. Училке, наверное, тоже был симпатичен этот неуступчивый зеленоглазый школьник, который мог без закашивания взгляда сначала длительно уставиться ей прямо в зрачки и потом медленно опустить взгляд на её грудь, вынуждая молодую преподавательницу тут же на кого-нибудь прикрикнуть – якобы за невнимательность на уроке.
Урок физики на этот раз свёлся для Тоя к ожиданию драки и анализу происхождения белого пятна на оконном стекле. Физичка периодически и всегда безуспешно пыталась вернуть его в понимание эффекта интерференции света, но отчаявшись, подошла к парте Тоя и, чуть наклонив голову, отколоколила:
– Той, вы хоть что-нибудь из сказанного мной поняли?.. Или хотя бы слышали?
Тою такое внимание показалось чересчур назойливым и уж точно несвоевременным, и даже раздражающим. Недодумав про пятно, что само по себе было для него неприемлемо, он резко встал, хлопнул отворотом парты, демонстрируя тем своё недовольство, повернул голову в сторону училки, выкатил глаза и, затверждая каждое слово, отдекламировал:
– Вопросы по теме задают на следующем уроке, а не теперь.
Физичка вся как-то скуксилась, звонко отстукала каблуками до доски, резко развернулась и, выбросив вытянутую руку, указывая ею на дверь, выкипела:
– Той, выйдите вон!
Класс, до этого момента онемевший, вдруг как по команде всеобъемлюще заёрзал, заскрипел чем попало, сопровождая это нарастающим гулом. Кто-то усилил эффект ужё и гоготом в “запаренные” ладошки.
– Захватишь шмотки, – как мог громко, наказал Той своему соседу по парте; тот кивнул, подцокнул языком и, замутнив глаза, зыркнул на физичку.
Класс утих, наслаждаясь знаменитой, неспешной и вразвалочку походкой Тоя. А он, гипнотизируя взглядом плывущий под ногами пол, причалил к двери, остановился, постоял, приглядываясь к своим ботинкам, огладил волосы на затылке… ещё раз огладил и потом ещё раз… наконец, плавно, но широко отворил дверь, вышел из класса, очень медленно развернулся, подправил чёлку, внимательно поглядел на физичку и медленно-беззвучно прикрыл за собой дверь.
Училка рефлекснула поправкой ворота и подергиванием подбородка. Следовало как-то и что-то продолжить, но находчивость оставила и преподавательницу и класс. Всю эту неловкость спас Ермила, вкативший хлёсткую затрещину Гонзе, сидевшему на предстоящей парте. За что схлопотал Гонза – было не столь уж и важно. Да он впрочем, и не отреагировал на этот подзатыльник – видимо, впаяно было ему по делу. Но важным явилось то, что наступила понятность дальнейшего, а училка тут же нашла себе дело и отцокала каблучками до парты конфликта.
– Ермишев, вы, что себе позволяете? – взяла физичка ситуацию под контроль.
– Сами разберёмся, – буркнул Ермила и уставился на свои широченные кисти рук, сложенные друг на друга. И после этого действа Ермилы всему классу, кроме училки, стало ясно, что дальнейшего диалога между ними не будет.
– Ермишев, вы не слышите? Отвечайте, что у вас тут происходит?.. Вы будете отвечать?.. Встаньте, когда с вами учитель говорит!
Ермила заскрипел, зашуршал, заёрзал всем, что могло издавать какой-либо шум, согбенно поднялся, оттоптался с ноги на ногу и молча, уставился в темечко Гонзы. Но у училки, видимо, возникла маниакальная самоцель – выяснить хоть что-нибудь. Она с неподдельным упорством зачем-то продолжила попытки разговорить Ермилу.
Это развеселило и внесло интригу. Все понимали предстоящий исход и, разделившись на группы, стали подсказывать различные варианты действий для учительницы.
– Да, двояк ему вкатить… за поведéнку, – раззубатив рот, съехидничал Анастас, при этом хи́тро кося на “истукан” Ермилы.
– Родителей, родителей в школу – прямо на педсовет… не, лучше прямо к Акимичу, – клокотал Чирба, – в смысле – к директору, – поправился он, поймав недоумённый взгляд физички.
– Исключать из школы и прямо сразу… нет, прямо счас и вот тут! – выпрыснула из-под парты Наташка.
– Короче, Ермилу – в герои. За правду!.. Пожмите ему руку, товарищ учительница! Он защищал честь класса, школы, всех… вашу… честь, – правдоподобно и пафасно продекларировал Христик.
Девчонки прыснули, парни гоготнули, физичка отъелозила ворот свитера и, почуяв неладное, вернулась в реальность:
– Всё! Угомонитесь! Ермишев…
– Давайте дневник, Ермишев, – вторгся вялым голосом и закончил фразу училки Фасоль.
Сдерживаться тут было нелепо, да и невозможно и класс “ухнул!” и, видимо, на всю школу. Каблучки нарочито гулко откувалдили к доске, их ярость всё более наливаясь по мере хода, перекинулась на глаза училки и там закрепилась, а потом медленно, но неуклонно закоростила собой всё лицо.
– Не будем прощать эти наглые выходки, – писк вечно тормозного Вовы был теперь уже запоздалым и никак не писался с новым состоянием умов всех присутствующих. А могли ли они у кого-либо в этот момент разумно работать – это было большим вопросом.
Противостояние свершилось и забаррикадировало разумения в головах, причём каждому свои.
– Солев, подайте дневник.
Этот ход училки был ожидаем, но столь же, по мнению класса, и неудачен, если выбирать из всех предполагавшихся, потому как сопроводился безысходным и обречённо-тихим всеобщим: «Ррээхх!». Фасоль достал из “заплечника”[9] дневник и, предвкушая, что ему вечером предстоят поучения от родителей – кстати, некстати преподавателей института – потащил свою “хорошистскую паспортину” для написания пасквиля или просто размашистой цифры радикально-красного цвета напротив графы «поведение».
– Жертва несправедливости, – сопроводил Чирба, проплывшее мимо его парты, согбенно-обмяшее тело Фасоля.
И Фасоля действительно было жалко всему классу, потому как была известна его неспособность к тому, что называется “морально-волевыми поступками”. Большой и мягкий увалень без своего мнения, нет вернее со своим, но только с мнением внутри самого себя и не всегда даже для себя, а скорее для других – вот именно таким его все и знали. И эта выходка Фасоля, а со стороны Фасоля это была именно выходка, так вот эта выходка была весьма неожиданна для класса и могла быть объяснена лишь его сиюминутным порывом, вызванным совсем несвойственным Фасолю младо-задиристым проявлением. Хотя тут, наверное, ещё и подмешалось желание Фасоля не отстать и проявиться. Кстати, Той давненько уже примечал припухлость глаз Фасоля, когда тот поглядывал на Нинку Изотову. «Эх, ему бы “стержня” на этом проходе от парты до стола училки» – подумалось бы стороннему наблюдателю. Но, было – как было, и вяло-безвольная рука Фасоля вручила дневник в суетно-нервную руку физички.
Ермила тем временем, перестав уже быть причиной веселья, отошёл от исполнения роли “молча-мрачно-стоящего” и стабилизировался в положении “сплю сидя”. Впрочем, о нём в этот момент, скорее всего, вспоминал только Гонза, пытавшийся угадать: будет ли после урока что-либо дополнительно к затрещине или обойдётся лишь ею.
Что-то, предначертанное в дневнике Фасоля, подытожил прозвучавший звонок, сделавший уже никому не нужным продолжение всеобщего ехидства со злотворящими импровизациями. Тем более что звонок всегда был запуском процесса перехода от шопотно-записочного обсуждения текущих дел к громкому перекрёстному кричанию. Это, казалось бы, приводило к какофонии и хаосу, но именно они и становились желанной атмосферой в классе. И не столько даже новенькая, а и любая другая училка или учитель оказывались уже вне процесса и, сказав больше глазами, чем голосом: «Урок окончен», покидали класс…
Парни, осведомлённые о предстоящей драке вместе с укоренившимися курильщиками, не растрачивая попусту время, метнулись в сортир первого этажа. «Старшие», поняв предстоящее, снисходительно покинули “курилку”, напутствовав негромким распоряжением: «Без поножовщины!».
Той, имевший “освобождение” от части урока, уже сидел на подоконнике, забычивая глазами свои ботинки.
“Зрители” уплотнились по периметру, образовав посредине недостаточно просторный для драки пятачок. Стоящие же в первом ряду вообще рисковали получить что-либо размашистое, которое непременно вылетает из “молотиловки” при переходе боя в стадию “махаловки”.
Той спрыгнул с подоконника и вышагнул в центр шипящего нетерпением круга. “Ряска” подзуживающих тел тут же затянула всё свободное пространство между ним и батареей под окном. Круг сомкнулся и выдавил из себя Хлюпу, чуть не врезавшегося в Тоя, и они оба оказались теснимыми со всех сторон нетерпеливо-требовательной толпой. Они были не в состоянии ни дубасить друг друга и даже не могли, прихватившись за грудки, молотнуть друг друга лбами. Был только один вариант – врезать коленом в пах. Именно это и попытался исполнить Хлюпа, но именно этого поджидал от него и Той, а потому он вовремя развернулся и перекрыл пах своим коленом.
– Стоп, стоп! Раздайся. Сдвинься, бл, кому говорю! – Ермила своими здоровенными лапами размазывал толпу вдоль стен сортира.
Не сдвинулись только компактно стоявшие “отмороженные”. Впрочем, Ермила по ним и не настаивал. У них был свой – понятный всем статус.
– До кровянки, – уведомил Ермила, сформировав достаточное для драки пространство.
– До пола, – возразил Назмик и сцыкнул воздух сквозь щелятые зубы.
Толпа опасалась определяться с правилами и выжидала.
– Как пойдёт! – авторитетно поставил точку Агай. Он не принадлежал ни к какой хулиганской группировке. Он был всегда сам по себе. Его авторитет зиждился на огромной физической силе, которую он периодически демонстрировал “на физре”. Излюбленным номером всего класса было, когда Агай приседал у шведской стенки, на плечи ему вставал грузный Анастас, далее на плечи Атанасу взбирался Чирба, завершал всю композицию на плечах у Чирбы Гонза. И вот Агай, попружинив в при́седе, вставал в рост, разворачивался в сторону охавших девчонок и стряхивал с себя “пирамиду”. Гонза при этом предусмотрительно заарканивался за шведскую стенку, чтобы не подвергать себя полёту с неприемлемой для него высоты. В общем Агай был не столько авторитетным, сколько сильным и с его мнением приходилось считаться всем, даже “отмороженным”…
Более медлить было нечего, да уже и позорно. Драка же началась как-то нелепо-сумбурно. Что Той, что Хлюпа – оба, стоя на месте, принялись молотить друг друга руками сверху вниз и слева направо. Вредоносность этого действа была весьма несущественна и лишь отдельные плотные “шмяки” слегка заводили толпу.
Компашка Назмика активно поддерживала Хлюпу и призывала его «работать ногами и бить по мудям». Сочувствующие Тою были менее активны и оживлялись только по результатам редко долетавших до лица Хлюпы ударов Тоя, но ограничивались лишь опасливыми поощрениями типа: «Вот так, бля!». В целом – шла бессистемная “молотиловка” с обеих сторон.
У Тоя уже слегка кровило в уголке рта, у Хлюпы подкапывало из носа. Исход драки для всех был примерно ясным и столь же неинтересно-удовлетворительным. Забить противника в пол было явно не суждено ни одному, ни другому.
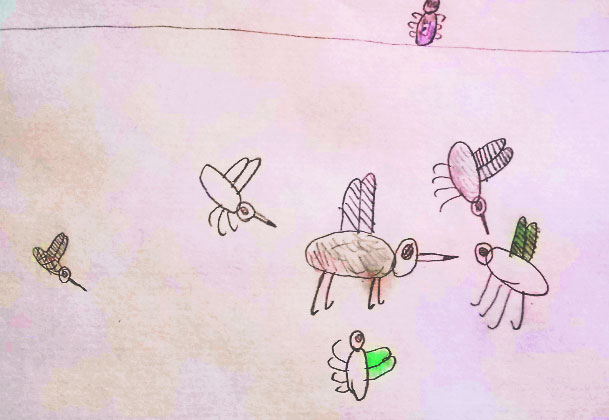
Тоя уже сковывала обида от почти несуществующей поддержки и понимания недостатка своих физических возможностей для свершения перелома в драке и одержания убедительной победы. Хлюпа же страдал от необходимости постоянно утирать рукавом всё более кровивший нос и от наставлений Назмика, которые были скорее оскорблениями. Вскоре всё и вовсе перешло в разоринтированную “махаловку” по рукам, груди и плечам друг друга – драку беззрелищную и бессмысленную.
Звонок к уроку прикорешил остатки пыла драчунов, а возглас Ермилы: «Всё, хорош!» – оттолкнул их друг от друга.
– Хлюпик – трупик, – констатировал Назмик и, махнув рукой, повёл за собой на выход ухмыляющихся и цокающих языками подрастающих бандитов.
Хлюпа сморкнулся кровью себе под ноги, топотнул по-блатному ногами, предварительно выгорбив спину и, засунув руки в карманы, жёстко и неопределённо матюгнулся. Потом он выярил рожу с отвисшей нижней губой, каблучно развернулся и, вдруг обмякнув, побрёл за Назмиком.
Той созерцал всё это действие молча и весьма угрюмо. Он взращивал в себе сначала досаду на самого себя, потом, вскипятив её до степени самоунижения, коротко зыркнул на своих пацанов из-под свалившихся на глаза бровей, отвернулся к окну и принялся имитировать оправку своей одежды.
– Нормально ты ему вляпал… – начал распаляться Анастас, но сразу осёкся, увидев, как неприятно дёрнулось плечо Тоя.
– Ладно Той, пошли уже, щас ещё Эмка начнёт гнобить за опоздание, – отбубнил Фасоль (Эмкой парни кликали училку по немецкому языку).
– Не, лучше ваще уже не ходить, – внёс предложение Тюль. – Пошли, пока не застукали, пересидим на “стадике”… в теплушке. Потом чёго-нибудь наврём… Ну, к примеру, что у Фасоля резко случился понос.
– И вы всё это черпали вёдрами, – не оборачиваясь к парням, нервно выпалил Той. – Идите в класс. Бегом я сказал! Уя… отсюда! – Той развернулся, он смотрел мимо всех и не просто зло, а по-волчьи: закостенело-пронзительно. – Пошли вон! – добавил он злости.
– Ну и чорт с тобой! – Тюль досадно сплюнул и двинулся к выходу.
Парни, помявшись и немного помешкав, возможно ожидая перемены в поведении Тоя, но, не выявив даже признаков таковой, теперь уже даже чересчур поспешно выбрались из “курилки”…
Той отёр рукавом жёсткого школярного пиджака глаза, слегка обводнившиеся обидой, сплюнул прямо на пол сгусток крови, зло затоптал его ботинками и, скверно выматерившись, пошёл на выход. У самых дверей он натолкнулся на Акимича – директора школы – так его за глаза называли буквально все: от двоечников и второгодников до отличников и идейно-фальшивых активистов.
– Почему не на уроке? – Акимич дерзнул прихватить Тоя рукой за плечо, но, не рассчитав резкого отскока пацана в сторону, сам качнулся вперёд, поймав жилистой ладонью лишь ничего не подозревавший прокуренный воздух. – А ну стой! Подойди сюда, – Акимич снова попытался цапнуть Тоя за плечо.
– Некогда, итак опаздываю, – умышленно и максимально грубо залепил Той и, выскочив из “курилки”, хлобызнул дверью об косяк, да так, что этот долбяк надёжно перекрыл попытку Акимича завязать дискуссию.
Той же ничуть не мешкая, был уже на втором этаже. Отстучав по коридору башмаками, он вкопытился у нужной ему двери, огладил причёску, внимательно осмотрел и что-то оправил в форме, взялся за ручку и, резко открыв дверь, буквально возник возле стола училки немецкого. Эмка от неожиданности сглотнула очередной плюсквамперфект и он, застряв где-то в гортани, совершенно лишил Эмку возможности что-либо говорить, но зато необыкновенно выпучил ей глаза. Класс, как обычно, слегка гудевший, тоже присёкся и приступил к анализу явления.
В общем, Тою подфартило оглядеть всё сборище в полной тишине. Из его компании в классе не было никого, даже Хомеля, хотя тот скорее был «периодически примыкавшим» и чаще вёл “дикую жизнь”, общаясь исключительно с боксёрскими перчатками. Учился Хомель, в отличие от остальной компании Тоя, плохо и весьма трудно, впрочем, немногим хуже Анастаса.
«Всё-таки не пошли… Нормально!» – решил про себя Той, не успев строгостью взора прикрыть вылезшую на его лицо улыбку-удовольствие.
– Чё за чудо, Эм Мудистна, – порвал тишину Гонза и умышленно за счёт гнусавости переиначил отчество немки (паспорт величал её, как Модестовна). – Кому-то чё можно, а кому-то ни чё… не надо!
Он, конечно, не преминул кольнуть “немку” за её постоянные упрёки к нему, свершаемые Эммой из урока в урок со стабильным звучанием: «Вам Газновский, видимо, вообще ничего не надо!». Но следует отдать должное – эти упрёки были, в общем-то, обоснованными, потому как единственным познанием Гонзы в немецком языке и одновременно шедевром, признаваемым всеми без исключения, была неустанно озвучиваемая им фраза: «Ихь (по-немецки “я” – озвучивалось с сильным выдохом) стегаю (произносилось безапелляционно и жизнеутверждающе) кобылациён (это слово восклицалось победоносно с исторжением наружу глазных яблок)». Этот симбиоз дремучести познания и безграничной дерзости Гонза изрёк на одном из уроков, когда немка попросила его сформулировать хотя бы одну простую фразу по-немецки. Шокированная учительница, под захлёбный хохот класса и сама-то едва сдерживая смех, смогла лишь резюмировать:
– Вам, Газновский, от моих уроков ничего не прибывает… (далее по тексту упрёка немки в адрес Гонзы на каждом уроке)…
На Гонзу шикнули с разных сторон и класс, молча, воззрел на Эмму, пытаясь предугадать её действия. Немка же, демонстрируя беспомощность, всматривалась в Тоя и ни к чему не склонялась. «Ничего себе её выпучило. Вот это глазищи. Хотя, нет – ничего особенного» – мгновенно обдумал всё Той и обглядел училку от причёски до туфель.
– Ермила, мои парни не приходили, или выгнали уже?
– Не, Той, не были.
– Вы, может быть, объясните, что здесь происходит? – проявилась вдруг училка.
– Да всё нормально, зашёл вот проверить… И уже ухожу. Всё – ушёл!
Той развернулся и направился к двери, но тут – путь ему преградил Акимич, буквально вонзившийся извне в дверной проём.
– Во как! А мы вас как раз ждали. Я, собственно, и иду пригласить вас. Ведь, правда, Эмма Модестовна? – Той посторонился и, склонившись, плавным движением руки пригласил Акимича пройти поглубже в класс.
Директор не въехал в происходящее, но ещё более изумившись отвисшим губам заколоженной неожиданным развитием событий немки, а также из привычки иметь перед собой пустое от всех прочих пространство, машинально прошёл вперёд, предоставив Тою свободу дальнейших действий. Составленная же Тоем мизансцена из заключительного акта “Ревизора” вполне его устроила. А “обалдевшая массовка” из учеников класса тоже вполне себе удалась. И Той лишь на секунду задумался о том, стоит ли в завершение… взять, да и вляпать в “произведение” какую-нибудь отсебятину… Но верх взяла обидная укоризна за неудачную драку, прочитанная Тоем в глазах Ермилы.
– Ну, что вы так засмущались, Эмма Модестовна? Это наш директор – Ашурков Кирилл Миронович.
– Пришли проинспектировать процесс образования? – обратился Той к совершенно охреневшему директору. – Располагайтесь за моей партой – вон там, – Той указал рукой в сторону одного из свободных мест. – Чирба, сдвинься уже к окну! Директор долго ждать не будет.
Прозвучавший в полной тишине плавно-учтивый монолог Тоя завершился столь же благородным выходом его из класса и претворением двери. И этой гробовой тишины, а, следовательно, и внутреннего комфорта, хватило Тою, чтобы миновать коридор и выбраться на улицу. «Предстоит» – заключил он, прикинув один из вариантов последствий произошедших событий, но решил не вдаваться в подробности и переключился на другое. «Вроде они хотели идти на “стадик” в теплушку» – припомнил он и направил туда ставшие вдруг унылыми свои стопы.
Сразу за углом школы, как уже повелось, ему преградил путь не в меру огромный тополь. «Что-то и с ним происходит нето» – определил Той, внимательно вглядываясь в дерево. Он всегда ощущал этого долгожителя другим: дерзко-самоуверенным, а не тем, что предстало сейчас перед Тоем – это было какое-то умиротворённое спокойствие. «Что не так? В чём подмена?» – Тоя явно зацепила необходимость познания произошедшей с тополем перемены и он, заточив взгляд сужением век, заискрил им от вершины до корней… «Вот! Вот оно!» – чуть не воскликнул Той, уперевшись взглядом в снег, укрывавший низ ствола аж на самый метр от земли. «Конечно, вот где утратилась его “хватка”! Вот – чем он другой!». Той прикрыл глаза и погрузил себя в воспоминание: в лето, шелестящее тёмно-зелёной листвой, упоительно-свободное от уроков в школе. И этот тополь стал, в сей момент, спасителем для Тоя, изгнавшим из его подсознания нагнетавшуюся где-то внутри опаску за неизбежный разбор с отцом всего случившегося сегодня. Той смотрел на этого исполина, возвышавшегося над обителью, воспитывавшей раболепие перед ложными для него идеалами, и отчётливо осознавал, что не всё вокруг представляет собой “серую одинаковость”, а есть и отличия, свободные от удобной покорности и эти отличия самостоятельно распоряжаются своей жизнью. «Да! Я хочу быть, как он!». Той отступил на несколько шагов от этого гиганта, чтобы всмотреться в него всего, целиком и этот образ навсегда остался в его сознании, как уважительное превосходство и ненасильственное покровительство всему слабому… Той прикрыл глаза и снова стал крутить картину лета… Ствол тополя с множеством отходящих от него ветвей мужественно располагал на себе рытвины-шрамы, чередовавшиеся с огромными вздутиями-шишками, возникшими в результате преодолений природных напастей и злобных действий бездушных людей. Но эти боли нисколько не умаляли его силу, а лишь подчёркивали её. Земля, пытаясь освободиться от тополя, расслабила себя и выкорчевала над собой его коряво заплетённые толстые мускулистые корни. В этой борьбе с тополем она избрала себе в помощники ветер, вынесший часть её вон из-под корней и тем заголивший их крючковато-уверенную силу. Притворное же расслабление земли только добавило желания тополю скрепить ее и он, густо закудрявив отростки-когти, так сжал и подгрёб под себя землю, что она совершенно отказалась от дальнейших попыток отторжения и поддержала монолит дружбы с тополем. Так они совместно и затвердили свою красивую силу, периодически приглашая ветер, чтобы передать людям смысл своего бытия через шероховатый шум листвы, скрип ствола и похлопывание веток друг по другу…


