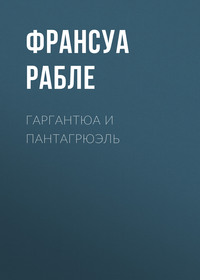полная версия
полная версияГаргантюа и Пантагрюэль
– Все они, – сказал сторож, – птицы перелетные и прилетают к нам из другого мира. Часть – из большой удивительной страны, именуемой «Хлеба-нету», а часть – из другой, – что к западу, – именуемой «Слишком-много-их». Из этих двух областей ежегодно клерго перелетают к нам стаями, покидая отцов, матерей, всех друзей и родственников. Вот какой у них порядок: иной раз в каком-нибудь благородном доме этой последней страны появляется слишком много детей, будь то мужского или женского пола, и если бы всех их оделить наследством (чего хочет разум, приказывает природа и велит бог), то дом распался бы; по этой-то причине в таких случаях родители освобождаются от них, посылая на этот остров, даже если имеют обеспеченные доходы с острова Боссара.

– Это, – сказал Панург, – остров Бушар[292] у Шинона.
– Я говорю – Боссар[293], – отвечал сторож. – Обычно ведь они горбатые, кривые, хромые, однорукие, подагрики, калеки, жалкие существа, бесполезно обременяющие землю.
– Это, – сказал Пантагрюэль, – обычай, совершенно противоположный соблюдавшимся в древности правилам посвящения девушек в весталки; как свидетельствует Лабеон Антистий, правилами этими было запрещено посвящать в это звание девушек с каким бы то ни было пороком в душе, изъяном в органах чувств или хоть с единым пятнышком на теле, как бы ни было оно скрыто и ничтожно.
– Я изумляюсь, – продолжал сторож, – что тамошние матери носят их по девяти месяцев во чреве: ведь у себя в доме они не могут их вынести и вытерпеть и девяти, а чаще всего даже семи лет; они накидывают сверх одежды только одну рубашку, а на макушке головы вырезают не знаю сколько именно волос, произнося при этом какие-то заклинательные и умилостивительные слова (как у египтян жрецы Изиды создавались благодаря каким-то льняным одеждам и бритью), и таким образом, видимо, открыто, явно, благодаря пифагорейской метемпсихозе[294], без всяких ран и повреждений, делают их вот такими птицами, какими вы их видите сейчас перед собой. Во всяком случае, мои милые друзья я не знаю, что бы это могло быть, и отчего происходит, что самки, будь то клержессы, монажессы или абежессы, поют не те милые, изящные строфы, которые было в обычае петь в честь Ормузда, по установлению Зороастра, но те проклятые и суровые, какие применялись для демона Аримана[295]. И постоянно проклинают своих родственников и друзей, обративших их в птиц, – молодые и старые одинаково.
«Больше всего их приходит к нам из страны «Хлеба-нету», которая чрезвычайно обширна. Асафисы[296], обитатели этой страны, когда им угрожает опасность мало приятной голодовки оттого, что им нечем питаться, и оттого, что они не умеют и не хотят ничего делать, – ни работать в каком-нибудь честном искусстве или ремесле, ни служить верою и правдою порядочным людям; и те, кто не мог насладиться любовью, кто не достиг намеченной цели и дошел до отчаяния; а также и те, кто злодейски совершил какое-нибудь преступление, и кого ищут, чтобы предать постыдной казни, – все они прилетают сюда: тут их жизнь обеспечена, и они внезапно становятся жирными, как сурки, – те, что раньше были тощи, как иголки; здесь они в полной, совершенной безопасности и неприкосновенности и на полной свободе».
– Но, – спросил Пантагрюэль, – раз сюда прилетев, возвращаются ли птицы когда-нибудь в тот мир, где они были высижены?
– Некоторые – да, – отвечал сторож, – прежде очень мало, и то с сожалением и неохотно. После же некоторых затмений их отлетела сразу большая куча, благодаря воздействию небесных созвездий. Это нас нисколько не печалит, ибо и оставшихся более чем достаточно. Все они, перед тем как улетать, сбросили свое оперение в крапиву и репейник.
Мы, действительно, нашли там несколько оперений.
ГЛАВА V. Как прожорливые птицы немы на Острове Звучащем
Не успел он окончить этих слов, как к нам слетелось двадцать пять или тридцать птиц – цвета и оперения, каких мы еще не видали на острове. Их перья ежечасно меняли цвет – как кожа хамелеона или как цветок трилистника и тевкриона. Все они имели под левым крылом знак, как будто кружок с двумя диаметрами или как бы перпендикулярно падающую к прямой линии другую прямую. Он у всех был почти что одной формы, но не у всех одного цвета: у одних он был белый, у других – зеленый, у иных – красный, фиолетовый и голубой.
– Кто это такие? – спросил Панург. – И как вы их называете?
– Они, – отвечал сторож, – метисы, ублюдки. Мы их называем обжорами, лакомками, – в вашем мире для них много богатых лакомств.
– Прошу вас, – сказал я, – заставьте их немного попеть, чтобы мы услышали их голос.
– Они не поют, – ответил он, – никогда, но зато они вдвойне питаются.
– Где же, – спросил я, – самки?
– У них вовсе нет таких, – отвечал он.
– Почему же они все покрыты коростой и изъедены венерической болезнью?
– Она, – сказал сторож, – свойственна этому роду птиц, благодаря флоту, который они иногда посещают.
Он сказал нам больше того:
– Поводом к их прибытию сюда, в ваше соседство, служило желание увидеть, нет ли между вами одного великолепного вида петухов – страшных хищных птиц, не идущих на приманку и не признающих перчатки ловчего; они говорят, что такие в вашем мире существуют, и из них одни носят на ногах подвязки, прекрасные и драгоценные, с надписью красивыми буквами: «Кто дурно об этом подумает, осужден на оплевание»[297]. Другие поверх своего оперения носят знаки торжества над дьяволом-клеветником[298], а есть и такие, что носят баранью шкуру[299].
– Господин сторож, – сказал Панург, – может быть, это и верно, но мы их совсем не знаем.
– Ну, – сказал сторож, – довольно говорить – пойдем пить.
– А есть? – спросил Панург.
– Есть, – сказал сторож, – значит, хорошо выпить. Нет ничего дороже и драгоценнее времени: используем же его на добрые дела.
Сначала он решил повести нас искупаться в банях карденго, прекрасных и доставляющих высокое наслаждение. По выходе из бани он хотел, чтобы алипты[300] нас умастили драгоценными благовониями, но Пантагрюэль сказал ему, что и без этого он выпьет слишком достаточно. Поэтому сторож ввел нас в большую и усладительную трапезную и сказал нам:
– Я знаю, что отшельник Брагибюс заставил вас поститься четыре дня. Здесь вы будете, наоборот, четыре дня не переставая пить и есть.
– А будем ли мы в это время спать? – спросил Панург.
– Полная свобода, – отвечал сторож, – ибо кто спит – тот пьет.
Боже правый! Как мы пировали… О, великий, превосходный, порядочный человек!..
ГЛАВА VI. Как питались птицы Острова Звучащего
Пантагрюэль опечалился в лице: казалось, он не доволен четырехдневным времяпрепровождением, которое нам было назначено. Сторож заметил это и сказал:
– Государь, вы знаете, что семь дней до и семь дней после тумана никогда не бывает на море бури. Это происходит оттого, что стихии благосклонны к ласточкам, – птицам, посвященным Фетиде, – которые в это время высиживают на берегу своих птенцов. Здесь море мстит за свое долгое спокойствие и четыре дня не перестает ужасно бушевать, когда сюда прибывают какие-нибудь путешественники. Мы полагаем, что причина та, чтобы в течение этого времени, пока необходимость вынуждает их пребывать здесь, они могли хорошо угоститься на доходы от колокольного звона. Однако не считайте, что время тут будет праздно потеряно. Сверхъестественная сила удержит вас здесь, если вы не хотите бороться с Юноной, Нептуном, Дорисом, Эолом и всеми Вейовами: поторопитесь только хорошенько угоститься.
После первых закусок брат Жан спросил у сторожа:
– На этом острове у вас только клетки да птицы. Они не занимаются земледелием, не обрабатывают земли. Все их занятие – прыгать, щебетать и петь. Из каких краев доходит к вам этот рог изобилия и такое множество благ земных и лакомых кусков?
– Отовсюду с того света, – отвечал сторож, – за исключением лишь нескольких областей воздушного царства, которые несколько лет тому назад взволновали Камаринскую топь.
– Пест!.. – сказал брат Жан. – Они раскаются – тили-бом, они раскаются – бим-бом!.. Выпьем, друзья!
– А из какой страны вы сами? – спросил сторож.
– Из Турени, – отвечал Панург.
– В самом деле, – сказал сторож, – вы, значит, не дурной высижены сорокой, раз вы из благословенной Турени. Из Турени ежегодно к нам прибывает так много всякого добра, что местные жители, как-то проезжая здесь, сказали нам, что герцогу Туренскому всех его доходов не хватает на то, чтобы поесть досыта, – из-за чрезмерной щедрости, Которую оказывали его предшественники этим святейшим птицам, чтобы здесь угощать нас досыта фазанами, куропатками, рябчиками, индийскими пулярдками, жирными лудунскими каплунами, дичью всех сортов и всех сортов живностью. Выпьем, друзья! Посмотрите, на этот нашест с птицами: как все они жирны и выхолены благодаря доходам, что нам идут оттуда; потому они так хорошо и поют за них! Вы никогда не видали соловьев, которые лучше бы пели, чем они, когда они видят эти два золоченых жезла.
– Это, – сказал брат Жан, – праздник жезлов.
– Или когда я им звоню в эти большие колокола, что, видите, висят вокруг их клеток. Выпьем, друзья! Сегодня прекрасно выпить, впрочем – и всякий день это хорошо! Выпьем! Я пью от полноты сердца за вас. Добро пожаловать!
«Не бойтесь, что вина и еды не хватит: даже если бы небо стало медным, а земля железной, – и тогда у нас недостатка в припасах не было бы, будь это на семь, а то и на восемь лет дольше, чем продолжался голод в Египте. Выпьем же вместе в добром согласии и любви!»
– Дьявол! – воскликнул Панург. – Хорошо вам на этом свете живется!
– А на том свете, – отвечал сторож, – еще много лучше нам будет. Елисейские Поля от нас никак не уйдут. Выпьем, други! Пью за вас всех.
– То был дух, – сказал я, – совершенный и божественный, побудивший ваших первых ситицинов изобрести такое средство, благодаря которому у вас имеется все, к чему род человеческий стремится по своей природе, и что мало кому из людей, а собственно говоря – никому, не предоставляется. Это – рай и в этой жизни и в будущей! О счастливые люди! О полубоги! Да будет угодно небу, чтобы и мне было так же!
ГЛАВА VII. Как Панург рассказывает церковному сторожу притчу о жеребце и осле
Когда мы хорошо выпили и закусили, сторож отвел нас в комнату, хорошо убранную, с коврами и портьерами, всю золоченую. Туда он велел для нас принести много миробаланов[301], мятных стеблей, вареного зеленого имбиря, вдоволь глинтвейна и чудесного вина. И приглашал нас, пользуясь этими противоядиями, как питьем из реки Леты, предать забвению и небрежению тяжелые испытания, перенесенные нами на море. На наши корабли, которые вошли в гавань, он велел доставить в изобилии съестных припасов. Так мы отдыхали эту ночь, но я не мог спать из-за непрерывного трезвона колоколов. В полночь церковный сторож разбудил нас, чтобы выпить. Сам он выпил первый, сказав:
– Вы, жители того света, говорите, что невежество – мать всех зол, и вы говорите правду; но, тем не менее, вы не изгоняете его из своих умов и живете в нем, с ним и через него. Вот почему изо дня в день вас удручает столько зол; всегда вы жалуетесь, всегда плачете и никогда не удовлетворяетесь жизнью; теперь я это вижу. Ибо невежество держит вас сейчас на одрах ваших прикованными к ним, как был прикован искусством Вулкана бог войны; и вы не понимаете, что долг ваш – в том, чтобы беречь свой сон и отнюдь не беречь блага этого преславного острова. Вы должны бы были уже трижды поесть; берите пример с меня: чтобы поедать припасы Острова Звучащего, надо подниматься очень рано – когда их пни умножаются: когда их берегут – они уменьшаются. Косите луг вовремя, и трава вырастет на нем еще гуще и лучшего качества; а не будете его косить, через несколько времени он весь зарастет мохом. Выпьем, друзья, выпьем все вместе! Самые тощие из наших птиц поют теперь нам. Выпьем за них, пожалуйста. Выпьем! Милости прошу! От этого вы только лучше отхаркнете. Выпьем раз, другой, третий, девять раз выпьем, – non cibus, sed charitas[302].
Чуть занялся день, он опять разбудил нас – есть суп из овощей. После мы только и делали, что ели, и еда продолжалась весь день, и мы не знали, обед ли это или ужин, закуска или завтрак. Только для прогулки мы прошлись несколько раз по острову – посмотреть и послушать веселое пение этих благословенных птиц.
Вечером Панург сказал церковному сторожу:
– Милостивый государь, не будет вам неприятно, если я вам расскажу веселую историю, случившуюся в стране Шастельродуа двадцать три луны тому назад? Конюх одного дворянина как-то в апреле проваживал утром его больших лошадей по полю. Он повстречал там веселую пастушку, сторожившую в тени кусточка своих овечек, а с ними осла и несколько коз.
«Заговорив с ней, он убедил ее сесть сзади него на лошадь – посетить его конюшню, а там разделить с ним его деревенское угощение. Пока они беседовали друг с другом, лошадь обратилась к ослу и сказала ему на ухо (ибо животные весь тот год разговаривали в разных местах):
«– Бедный, жалкий ослик, я жалею тебя и чувствую к тебе сострадание. День-денской ты трудишься, – я уж это вижу по тому, как протерт у тебя ремешок под хвостом. Это хорошо, потому что бог создал тебя на службу роду человеческому. Ты – порядочный ослик. Но то, что ты, как я вижу, плохо вычищен, выскоблен, покрыт и накормлен, – это мне кажется немного деспотическим и за пределами справедливого. Ты весь взъерошен, заморен, истощен, ешь только тростник, грубые шипы и жесткий чертополох. Вот почему, ослик, я приглашаю тебя пойти со мной твоей рысцой и посмотреть, как ухаживают за нами и как кормят нас, которых природа произвела для войны.
«– Ну, что же, – отвечал осел, – я пойду очень охотно, господин конь.
«– Для тебя я, – сказал тот, – господин жеребец, – знай, осел!
«– Извините, – отвечал осел, – извините, господин жеребец, мы так неотесаны в языке, так плохо обучены, мы – деревенщина и мужики. Кстати, я вам охотно буду повиноваться, последую за вами издали из боязни побоев (у меня вся кожа истыкана), – раз уж вам угодно было оказать мне такую честь.
«Когда пастушка села на лошадь, осел последовал за последней, в твердом намерении хорошенько поесть, дойдя до квартиры. Конюх заметил его и приказал конюшенным мальчикам встретить его вилами и угостить палками. Осел, слыша эту речь, поручил себя богу Нептуну и начал весьма поспешно удирать с поля битвы, думая про себя и умозаключая: «Он говорит правильно: не по моему положению ходить по дворам знатных вельмож, – природа меня произвела на свет лишь для помощи бедным людям. Эзоп достаточно наставил меня одною своей притчей. Это было заносчиво с моей стороны; иного средства нет, как удирать отсюда – и, скажу, скорее, чем спаржа сварится…»
«И осел – бежать: Рысью, скоком и в галоп!..
«Пастушка, видя, как осел удаляется, сказала конюху, что это ее осел, и попросила, чтобы с ним хорошо обращались; иначе она уйдет, не войдя к нему. Тогда конюх приказал лучше не давать овса лошадям целую неделю, чем не накормить осла до-отвалу. Гораздо хуже было с тем, чтобы зазвать его обратно. Слуги напрасно ласково звали его:
«– Тпр!.. Тпрр!.. Ослик, тпрр, тпрр, ослик! Эй!
«– Не пойду, – сказал осел, – мне стыдно.
«Чем ласковее его звали, тем упрямее он брыкался. И до сих пор они были бы на том же месте, если бы пастушка не научила их потрясти высоко в воздухе решето с овсом и позвать его. Так и сделали. И осел вдруг повернулся и сказал:
«– Овес? Ладно, идет! Но только не вилы, говорю я.
«Таким образом он сдался им, мелодично напевая… Вы ведь знаете, как приятно слушать голос и музыку этих аркадийских животных!
«Как только он пришел, его поставили в конюшню рядом с большим конем; он был вычищен, выскоблен, ему положили свежей подстилки до самого живота и полные ясли сена, полную кормушку овса… Когда конюшенные мальчики просевали овес, он стал двигать ушами, как бы объясняя им, что он съел бы овес в лучшем виде и не просеянный, и что такой чести он недостоин.
«Когда оба хорошо поели, конь спросил осла:
«– Ну вот, бедняжка осел, как ты себя чувствуешь, как тебе нравится такой уход? А ты еще не хотел идти! Что ты об этом скажешь?
«– Клянусь фигой, – отвечал осел, – которую ел один из наших предков, отчего умер от смеха Филемон, – вот где утеха, господин жеребец! Впрочем, что я? Это ведь только пол-угощения. Балуетесь ли вы с ослицами когда-нибудь, вы, господа кони?
«– О каких ослицах говоришь ты мне, осел? – спросил конь. – У тебя заушница. Не за осла ли ты меня принимаешь?
«– Ха-ха-ха! – отвечал осел. – Я немного груб, чтобы научиться конскому придворному языку. Я спрашиваю: жеребятничаете ли вы когда с кобылицами, вы, господа жеребцы?
«– Говори тише, осел! – сказала лошадь. – Если конюхи услышат, они так густо истычут тебя вилами, что у тебя пропадет всякая охота думать об ослицах. Мы даже подумать об этом боимся. Зато в остальном обеспечены как короли.
– Клянусь своей подпругою, – сказал осел, – не надо мне в таком случае ни твоей подстилки, ни сена твоего, ни овса. Да здравствует репейник в поле, потому что там можно вдоволь любиться. Меньше есть и всегда любить – вот мой девиз. Это для нас и сено и корм. О господин жеребец, мой друг! Если бы ты видел нас на ярмарке, когда собирается наш деревенский капитул! Как мы там балуемся вволю, пока наши хозяйки торгуют своим луком и цыплятами!
«На этом они расстались.
«Я сказал».
Панург замолчал и более не произнес ни слова. Пантагрюэль стал убеждать его закончить речь. Но сторож возразил:
– Для хорошего слушателя довольно и одного слова; я очень хорошо понимаю, что вы хотите оказать и на что намекаете этой притчей про села и лошадь; но вы бесстыдник. И знайте, что здесь для вас нет ничего, и не говорите об этом больше.
– Да, если бы я, – сказал Панург, – не увидел недавно одной абежессы с белыми перышками, на которой с большим удовольствием я бы поездил, чем ее в поводу повел. И если другие здесь птицы неважные, так она мне показалась птичкой хоть куда. Я хочу сказать – такой хорошенькой да славненькой, стоящей того, чтобы согрешить разок-другой. Впрочем – господи прости! – я ничего дурного не думаю. То дурное, о чем я думаю, может внезапно случиться со мной.
ГЛАВА VIII. Как нам с великими трудностями был показан папего
Третий день продолжался в праздновании и в таких же пирах, как и два предыдущих. В этот день Пантагрюэль выразил настойчивое желание увидать папего; однако сторож ответил, что он не так-то легко допускал себя видеть.
– Что же, – сказал Пантагрюэль, – у него Плутонов шлем на голове, на когтях кольцо Гигеи, или на груди хамелеон, что он делается невидимым для мира?
– Нет, – отвечал сторож, – но к нему затруднен доступ самою природою. Я во всяком случае распоряжусь, чтобы вы его могли увидеть, когда это будет возможно.
После этих слов он оставил нас на месте доедать обед. Вернувшись спустя четверть часа, он сказал нам, что сейчас папего можно видеть. И повел нас – украдкой и втихомолку – прямо к клетке, в которой тот сидел в компании двух маленьких карденго и шести больших жирных эвего. Панург с любопытством разглядывал его наружность, движения, манеру себя держать. А потом крикнул громким голосом:
– Что за животное, будь ему неладно! Кажется, он глуп!
– Говорите тише, – сказал сторож, – ради бога! У него есть уши, как мудро заметил Михаил де-Матискон[303].
– А если он глуп?
– Если он услышит, что вы злословите, – вы погибли, добрые люди! Видите там, в его клетке, водоем? Оттуда сейчас же выйдут гром и молния, гроза, буря и черти; и вы в один миг будете погружены на сто футов под землю.
– Лучше было бы, – сказал брат Жан, пить и пировать!
Панург оставался в упорном созерцании папего и его компании, когда заметил под его клеткой маленькую совушку. Тогда он закричал:
– Клянусь божьей благодатью, нас тут хорошо обкурили и плохо снарядили. В этом месте хватит за глаза курева да обдуривания. Взгляните-ка на эту совушку: мы тут богом убиты.
– Говорите тише, ради бога! – сказал сторож. – Это вовсе не совушка: это – самец, это – благородный сыч.
– Но вот что, – сказал Пантагрюэль, – заставьте-ка спеть для нас немного этого папего, чтобы мы услышали его гармонию.
– Он поет, – отвечал сторож, – только в свои дни, а ест только в свои часы.
– Я не так делаю, – сказал Панург, – все часы – мои. Поэтому пойдем выпьем хорошенько.
– Вы, – сказал сторож, – правильно сейчас говорите, и, говоря так, ы никогда не будете еретиком. Идем, я того же мнения.
Возвращаясь к выпивке, мы заметили старого эвего с зеленой мовой, на корточках, в компании приказного и трех подьячих, – веселые гички!
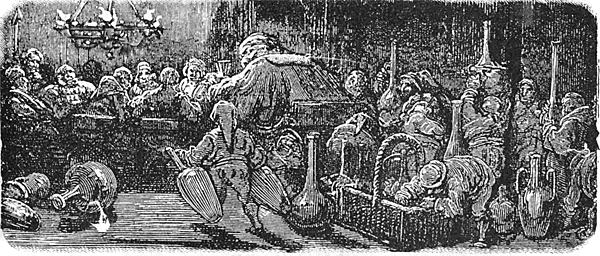
Он храпел под зеленью. Рядом с ним находилась хорошенькая ежесса; она весело распевала, и от ее пения мы получили такое большое удовольствие, что нам захотелось иметь все наши органы превращенными в уши, чтобы ничего не потерять из ее пения и, ничем не отвлекаясь, ее слушать. Панург сказал:
– Эта прекрасная абежесса уже из сил выбивается, чтобы петь, этот толстый мужлан эвего храпит в это время. Я заставлю его попеть, дьявол побери!
И он позвонил в колокол, который висел над клеткой эвего; но он ни звонил, эвего храпел еще пуще и все-таки не пел.
– Ради бога, – сказал Панург, – у-у, старый дурак! Я заставлю его запеть по-другому!
И он взял толстый камень и хотел его ударить.
Но сторож воскликнул:
– Бей, милый человек, бей, рази, убивай, умерщвляй всех королей и князей на свете, – изменой, ядом, каким хочешь другим способом; они всех ангелов с небес, – за все получишь прощение от папего; не тронь этих священных птиц, если тебе дорога жизнь, как твои собственные, так и твоих родных и друзей, живых и умерших! Даже те, которые после произойдут на свет, и те будут несчастливы. Посмотри хорошенько на этот водоем.
– Стало быть, лучше, – сказал Панург, – выпивать и пировать вдоволь.
– Он хорошо говорит, господин сторож, – сказал брат Жан при виде этих дьявольских птиц мы только и делаем, что кощунствуем, опустошая же ваши бутылки и кувшины, мы только славим бога. Поэтому пойдем выпьем как следует. О прекрасные слова!
На третий день, после выпивки (как вы сами понимаете), сторож с нами распрощался. Мы ему подарили прекрасный нож, который он принял с большим удовольствием, чем Артаксеркс[304] стакан холодной воды, предложенный ему крестьянином. Он учтиво поблагодарил нас, послал к нам на суда всяких свежих запасов, пожелал нам доброго пути и возвращения, достижения личного спасения и цели нашего предприятия и заставил нас обещать и поклясться юпитером-камнем, что наш обратный путь опять пройдет через его земли.
ГЛАВА IX. Как мы пристали к Острову Железных Изделий
Следующий остров, посещенный путниками, был Островом Железных Изделий. Вместо травы там росли пики, стрелы, аллебарды и т. п. А на деревьях над ними висели кинжалы, дротики, ножи, а также щипцы, клещи, серпы и другие железные изделия. Когда трава дорастала до дерева, последнее надевало на нее заготовленное деревом украшение – железный наконечник. Такой наконечник не всегда соответствовал подрастающей траве. Иной раз пика втыкалась в метлу, – и ей приходилось лазить и чистить трубы. Аллебарда получала лезвие косы и годилась для косца.
На этом острове с путниками ничего не случилось. Комментаторы Раблэ объясняют эту главу как аллегорическое изображение брака.
ГЛАВА X. Как Пантагрюэль прибыл на остров Кассаду
На следующем острове была такая тощая земля, что кости (т. е. скалы) протыкали ее кожу: песчаная, бесплодная, нездоровая и неприятная земля.
«Кассада» – испорченное итальянское «каччиата» – вид игры в трик-трак. Этот остров был островом мошенничеств, плутней всякого рода: там стоял замок чертей Азарта, которые носили названия различных предметов и выражений из игр. Вокруг скал этого острова произошло больше крушений, чем между Харибдой и Сциллой и в любой другой морской пучине. Тут же хранился и святой Грааль, «божественная и мало кому известная вещь».
Панург настоял, чтобы местные синдики показали им эту святыню. После пышнейших церемоний «нам показали морду жареного кролика».
ГЛАВА ХІ. Как мы проплыли мимо застенка, где обитает Грипмнно, эрцгерцог Пушистых Котов
Через несколько дней, не раз подвергаясь опасности кораблекрушения, мы проплыли мимо Острова Осуждения, – другой совершенно пустынный остров; также мы прошли Остров-Застенок, на который Пантагрюэль не захотел сойти – и очень хорошо сделал.