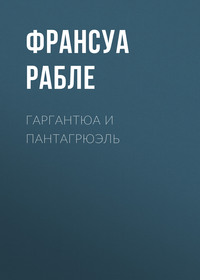полная версия
полная версияГаргантюа и Пантагрюэль
В заключительной главе первой части «Пантагрюэля» Раблэ говорит, что он решает на время прекратить на этом месте начатую им страшную историю Пантагрюэля. На следующей Франкфуртской ярмарке обещается продолжение истории, – как то: рассказ о женитьбе Панурга и о рогах, наставленных ему в первый же месяц после свадьбы; рассказ о нахождении Пантагрюэлем философского камня; плавание великана по Атлантическому океану; победа его над каннибалами (людоедами); женитьба его на дочери индийского царя; сражение его с чертями; поджог пяти адских камер и захват в мешок большой черной камеры ада; путешествие на луну, с целью разузнать, верно ли, что ущерб ее происходит от того, что три четверти ее прячут себе в голову женщины. И еще обещается тысяча других правдоподобных и веселых рассказов.
Раблэ называет их текстами французского евангелия. Считает, что писать и читать такие рассказы гораздо лучше, чем, наподобие ханжей и лицемеров или распущенных монахов, переряжаться в святош для того, чтобы обманывать людей.
На их красных мордах и толстых животах написано крупными буквами, что они притворяются богомольными, а на самом деле почитают только бога чревоугодия да пьянства.
А хорошие пантагрюэлисты, то есть люди, живущие радостной, мирной и здоровой жизнью, никогда не должны доверять обманщикам.
На этом кончается первая часть «Пантагрюэля».
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ О ПАНТАГРЮЭЛЕ
ТРЕТЬЯ КНИГА ГЕРОИЧЕСКИХ ДЕЯНИЙ И СКАЗАНИЙ ДОБРОГО ПАНТАГРЮЭЛЯ
СОЧИНЕНИЕ МЭТРА ФРАНСУА РАБЛЭ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ
ВЫШЕСКАЗАННЫЙ АВТОР УМОЛЯЕТ БЛАГОСКЛОННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПОБЕРЕЧЬ СВОЙ СМЕХ
ДО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ КНИГИ
1552 г.
Книга предваряется двумя стихотворениями. Одно посвящено «духу наваррской королевы», – Франсуа Раблэ предлагает покойной покинуть свою божественную обитель и спуститься на землю для того, чтобы «посмотреть третью часть веселых деяний доброго Пантагрюэля».
Второе стихотворение – Жана Фавра, в котором он рекомендует эту книгу читателю.
Затем идет
ПРОЛОГ АВТОРА
Вначале рассказывается история про осаду Филиппом, царем македонским, Коринфа. Жители последнего, предупрежденные шпионами о нашествии неприятеля, всемерно заботились об укреплении города и ни минуты не теряли даром. Один Диоген был невозмутим до поры до времени. Но вдруг и он словно вышел из себя и заразился воинственностью сограждан. Он препоясал свой плащ, оделся сборщиком яблок и передал свои книги на хранение товарищу. А затем покатил свою знаменитую бочку на высокий холм, поблизости от стен города.
Там он с большой яростью стал поворачивать бочку во все стороны, опрокидывать ее, толкать, пихать, трясти, колотить, сбрасывать вниз, снова вкатывать наверх и т. д., совсем как Сизиф со своим камнем.
При виде этой возни, один из друзей спросил Диогена, чем вызвано такое варварское обращение его с бочкой. Философ отвечал, что так как государство не использовало его ни для какого труда, то он трудится над бочкой, дабы не оставаться единственным праздным человеком среди столь сильно занятых сограждан.
Себя Раблэ отнюдь не считает негодным к работе в то время, как все заняты посильною защитою родины. Но служить отечеству оружием он не может; однакоже его работа над Диогеновской бочкой не представляется писателю бесполезной, неважной. Он пишет. Подобно Эннию, он «пишет за питьем, пьет за писанием». И Эсхил, по Плутарху, творя выпивал и выпивая творил; и Гомер никогда не писал натощак, и Катон писал всегда только после выпивки. В своем лице Раблэ обещает воинам певца их подвигов.
Пантагрюэлизм, благодаря которому люди принимают все в хорошую сторону, – избавит автора этих похвал доблестным воинам от неудовольствия с их стороны в случае какой-либо неловкости в его изложении.
Раблэ приглашает читателей выпить. Пусть все мастера выпивки, все жаждущие пьют из его бочки полными стаканами, если хотят. А не хотят – не надо. Платы он никакой не берет. Пусть пьют не стесняясь.
И пусть не боятся, что вина не хватит, как это случилось на браке Кане Галилейской. Бочка его неисчерпаема. В ней бьет живой источник. Она настоящий рог изобилия и веселья.
– Только хорошенько заметьте, – продолжает Раблэ, – каких я приглашал людей: лишь первоклассных пьяниц и знатоков вина. Всякие паразиты и любители туманов пускай идут мимо; им тут нечем поживиться.
Разные спорщики и придиры пусть не разговаривают с автором. Также трусы и негодяи, как бы они ни были надуты, чванны, как бы они ни мучились жаждой и ни страдали от ненасытного аппетита.

Раблэ кончает пролог сильнейшей бранью:
– Долой, собаки! Прочь с дороги! К дьяволу! Ты, каналья, что застишь мне солнце!
«Как, вы явились сюда, чтобы украсть мое вино и мочиться в мою бочку!
«Назад, святоши! Вон, лицемеры!
«Прочь отсюда вы, пустосвяты, ко всем чертям!
«Как! Вы еще здесь!
«Я отказываюсь от своей доли в Папимании, если буду с вами иметь дело!»
ГЛАВА I. Как Пантагрюэль основал в Дипсодии колонию утопийцев
Окончательно покорив Дипсодию, Пантагрюэль переселил в нее колонию из утопийцев, числом 9 876 543 210 человек, не считая женщин и детей, мастеров всех ремесел и профессоров всех свободных наук, чтобы освежить, населить и украсить страну, мало обитаемую и в большей своей части пустынную.
Он переселил их не только из-за чрезвычайного многолюдия Утопии, в которой расплодились мужчины и женщины, как саранча. Вы понимаете сами, и нет нужды распространяться подробнее, что у утопийцев и утопиянок были такие плодоносные органы, так ладно устроенные, что через каждые девять месяцев от каждого брака у них рождалось по меньшей мере по семи ребят как мужского, так и женского пола – наподобие народа иудейского в Египте, если не бредит Лира.
А также не столько из-за плодородия почвы, здорового климата и изобилия угодий в Дипсодии, сколько из-за того, чтобы удержать зареванную страну в долге и повиновении, переселив в нее своих старых и верных подданных, которые не знали на своей памяти и не признавали и не служили другому господину, кроме него, и которые, со дня рождения и вхождения в этот мир, вместе с молоком кормилиц всосали сладость и доброту его правления, и в них были вскормлены и воспитаны. Поэтому была верная надежда на то, что они скорее расстанутся с жизнью телесной, чем откажутся от покорности, которой они обязаны своему государю, – где бы они ни были рассеяны и куда бы ни были переселены. И таковы будут не только они сами и дети, преемственно Родившиеся от них, – но в такой же верности и повиновении они будут поддерживать и вновь присоединенные к его империи народности.
Так, действительно, и случилось, и Пантагрюэль в своем решении отнюдь не обманулся. Если утопийцы до переселения были преданнейшими его верноподданными, то дипсоды, после общения с ними в течение нескольких только дней, стали такими еще более, в силу неизвестно какого, естественного для всех людей, пыла при начинании всякого дела, приходящегося по душе. Единственно, на что жаловались они, призывая в свидетели небеса, это – что раньше до них не доходило никаких известий о славном Пантагрюэле.
Замечайте же вы, бражники, что лучший способ для того, чтобы подчинить и удержать в повиновении завоеванную страну, вовсе не в том (как ошибочно думали некоторые тиранические умы, к своему же ущербу и бесчестию), чтобы грабить, насиловать, разорять и мучить население и править при помощи железных прутьев, – короче говоря – глотать и пожирать народ, на манер того царя, которого Гомер называет неправым Демовором, что значит «народоглот».
Не буду приводить вам по этому поводу примеров из древней истории, а только напомню о том, чему свидетелями были ваши отцы, да и вы сами, если не были слишком молоды.
Как новорожденного младенца, народ надо питать молоком, убаюкивать и развлекать. Как вновь посаженное деревцо, его нужно подпирать, беречь и защищать от всяких повреждений, обид и несчастий. Как человека, спасенного от тяжелой и продолжительной болезни и выздоравливающего, следует лелеять народ и беречь и помогать восстановлению его сил, чтобы он пришел к убеждению, что на свете нет другого короля или принца, которого он хотел бы меньше иметь своим врагом, а больше желал бы иметь своим другом.
Так Озирис, великий царь египтян, покорил всю землю не столько силою оружия, сколько помощью угнетенным, учением, как следует здраво и хорошо жить, разумными законами, милостями и благодеяниями. За это ему было дано прозвание: «великий царь Эвергет», то есть «благодетель», о чем сам Юпитер дал повеление некоей Памиле.
Действительно, Гезиод в своей «Иерархии» помещает добрых демонов (называйте их, если хотите, ангелами), как посредников и передатчиков между богами и людьми: выше людей, ниже богов. И так как через их руки получаем мы сокровища и дары неба, и так как они по отношению к нам всегда благодетельны и оберегают нас от всякого зла, – то он, Гезиод, говорит, что они несут царскую службу: ибо всегда творить благо и никогда не творить зла есть деяние исключительно царское.
Таким был повелитель вселенной Александр Македонский. Так владел всем материком Геркулес, помогая людям против чудовищ, спасая их от угнетения, насилий и тиранств, управляя ими милостиво, справедливо и правосудно, издавая законы, соответствующие особенностям различных областей, добавляя то, чего недоставало, и сокращай то, что было излишним, великодушно прощая прошлое, предавая вечному забвению обиды, как было, например, с амнистией афинян, когда, благодаря доблести и ловкости Тразибула, была искоренена тирания; затем в Риме, как изложено Цицероном, и при императоре Аврелии.
Таковы любовные напитки и волшебные чары, при помощи которых можно мирно и спокойно удержать в руках то, что покорено с большим трудом. И счастливо царствовать может завоеватель, будь он король, или князь, или философ, только если заставит храбрость уступить свое место справедливости. Храбрость его проявилась, когда он побеждал и завоевывал. Справедливость проявится в том, что он сумеет издать законы, в согласии с волею и склонностями народа: обнародует законы, установит вероисповедания, даст права каждому, как благородный поэт Марон говорит про Октавиана Августа:
Он победитель был, и он в своих законах считался с волею народов покоренных.
Вот почему Гомер в своей «Илиаде» называет добрых и великих царей «красою народов». Таковы были соображения Нумы Помпилия, второго царя римлян, справедливого политика и философа, когда он, устанавливая праздник в честь бога Терма, названный «Терминалиями», – повелел, чтобы в этот праздник не приносилось в жертву то, что было убито, этим как бы уча нас, что в пределах своего государства, а равно и соседних с ним, следует хранить мир, дружбу и благоволение и править, не пачкая рук кровью или грабежом. А кто поступает иначе, тот не только потеряет приобретенное, но навлечет на себя стыд и позор и осуждение: и все будут считать, что он приобрел это нечестным путем, вследствие того, что его завоевание уплыло из рук. Дурным путем приобретенное бесславно теряется. И пусть он сам всю жизнь покойно наслаждается своею добычею: если даже наследники его потеряют приобретенное им, – позор все-таки падет на покойного, и память его будет предаваться проклятию, как завоевателя несправедливого. Вы сами говорите пословицу: «Дурно приобретенное третий наследник не получит».
И вы, записные подагрики, заметьте, что таким способом Пантагрюэль из одного ангела сделал двух: случай, противоположный тому, что вышло из замысла Карла Великого, который из одного дьявола сделал двух, когда переселил саксонцев во Фландрию, а фламандцев в Саксонию. Не будучи в состоянии удерживать в таком повиновении саксонцев, присоединенных им к империи, чтобы они не возмущались при каждом случае, когда он отвлекался событиями в Испании или в какой-нибудь другой отдаленной стране, – он переселил саксонцев в верную ему страну – во Фландрию, а ганноверцев и фламандцев, природных своих подданных, переселил в Саксонию, не сомневаясь в их верности и после переселения в чужие страны.
А случилось так, что саксонцы на новом месте продолжали упорствовать в своих мятежах и неповиновении, а фламандцы, поселившись в Саксонии, впитали в себя характер и свойства саксонцев.
ГЛАВА II. Как Панургу был пожалован замок Сальмигонден в Дипсодии, и как он поедал там свой хлеб на корню
Данным правительству всей Дипсодии указом Пантагрюэль назначил Панургу во владение замок Сальмигонден, дававший 6 789 106 789 реалов[172] ежегодного верного дохода, не считая неопределенной прибыли от жуков и улиток, которая, в зависимости от хорошего или плохого года, колебалась между 2 435 768 и 2 435 769 длинношерстых баранов[173]. Иногда же доход повышался до 1 234 554 321 серафов[174], – когда добыча улиток и жуков была обильна. Однако это не каждый год.

И так хорошо и разумно управлял своим замком новый его владелец, что меньше чем в две недели он промотал и верный и неверный доход со своих владений вперед за три года. Собственно, не промотал, как вы могли бы подумать, на основание монастырей, созидание храмов, постройку учебных заведений и больниц, или бросанием сала собакам. Нет, он растратил свой капитал на тысячу маленьких угощений и веселых пиров, открытых для первого встречного: для весельчаков, молоденьких девочек и галльских милочек. Леса срубались, толстейшие деревья сжигались, чтобы продавать золу; деньги брались вперед, все покупалось дорого, а продавалось дешево, – словом, хлеб поедался на корню.
Пантагрюэль, извещенный об этом, нисколько не рассердился, не раздражился и не огорчился.
Я уже вам говорил – и повторяю еще раз, – что это был лучший из всех малых и великих человечков, когда-либо носивших шпагу. Он все принимал с хорошей стороны и всякий поступок истолковывал к лучшему. Он никогда не терзался, никогда не приходил в негодование. Не был бы он божественным светильником разума, если бы когда-нибудь огорчился или возволновался. Ибо все блага, которые покрывает небо и которые содержит земля, во всех измерениях – в высоту, в глубину, в длину и ширину, – не стоят того, чтобы волновать наши чувства и смущать наш разум.
Он только отозвал Панурга в сторону и мягко указал ему, что если он так хочет жить и не будет бережливее, то будет невозможно – или, по меньшей мере, очень трудно – сделать его когда-нибудь богатым.
– Богатым? Так ли я понял вашу мысль? Вы взяли на себя заботу сделать меня богатым на этом свете? Думайте о том, чтобы прожить весело, клянусь богом и добрыми людьми. А другой заботы и другого попечения в святое-святых небесного вашего мозга проникать не должно. Ясность его никогда да не затемняется тучками мелочных забот и раздражений. Пока вы будете жить весело, радостно и бодро, и я буду богат с избытком. Все кричат: хозяйство!.. хозяйство!.. Но кричит об этом тот, кто ничего в хозяйстве не понимает. У меня надо спросить совета. А относительно меня сейчас вы узнаете, что то, что мне ставят в порок, было только подражанием Парижскому университету и парламенту – местам, в которых находится истинный источник и живая идея пантеологии[175] и всякой справедливости. И еретик тот, кто в этом сомневается и нетвердо в это верит. Так вот они в один день съедают своего епископа, или доход с епископата (что одно и то же) за целый год, а иной раз и за два, – именно в тот самый день, в который епископ вступает в должность. Он не может уклониться от этого, если не желает быть немедленно побитым камнями.
«Такой образ действий в духе четырех главных добродетелей:
«Благоразумия, потому что деньги берутся вперед. Ибо неизвестно, кто умрет, кто проживет. Кто знает, будет ли мир существовать еще три года? И даже если бы мир просуществовал и долее, то найдется ли столь безумный человек, который посмел бы обещать себе прожить три года?
Богами правит ли свободный человек?И знает ли, когда скончает он свой век?[176]«Затем справедливости в отношении мены – я покупаю дорого (т.-е. в кредит), продаю дешево (т.-е. на чистые деньги). Что говорит Катон, в своем учении о хозяйстве, по этому поводу? Отцу семейства, – говорит он, – надо быть постоянным продавцом. Благодаря этому, невозможно ему в конце концов не разбогатеть, если только он, так сказать, не закроет лавочки.
«Справедливости в отношении распределения. Я даю возможность подкормиться хорошим (заметьте, хорошим!) и любезным товарищам, которых судьба, как Улисса, закинула на скалу голода без всяких средств к пропитанию; также милым (заметьте, милым!) и молоденьким француженкам (заметьте, молоденьким!), потому что, согласно мнению Гиппократа, молодежь трудно переносит голод, особенно если она живая, бойкая, стремительная, подвижная, ветреная молодежь.
А такие француженки с охотой и радостью доставляют удовольствие порядочным людям; они платонички и цицеронианки до того, что считают, что рождены на свет не только для себя самих, но что они составляют часть своего отечества, часть своих друзей.
«Акт третьей добродетели – силы – проявляется в том, что я срубаю толстые деревья, как второй Милон, и уничтожаю темные леса, убежища волков, вепрей и лисиц, убежища разбойников и убийц, мастерские фальшивомонетчиков, пристанища еретиков; выравниваю почву – и леса превращаются в открытые пустоши с прекрасным кустарником.
«Последняя добродетель – воздержания – проявляется в том, что я съедаю свой хлеб на корню, как отшельник, питающийся салатом и корешками; я освобождаю себя от чувственных стремлений и таким образом сберегаю пищу для калек и убогих. Ведь таким путем я не трачусь на косцов, которым нужны денежки; на арендаторов, которые любят выпить вина, и без воды; на жнецов, которым подай пирога; на молотильщиков, которые, ссылаясь на авторитет Вергилия, обрывают в садах весь чеснок, лук и шарлотку; на мельников, порядочных мошенников, как известно; на булочников, что не лучше их. Что же, все это разве маленькие сбережения? Я уже не считаю убытков от полевых мышей, усушки хлеба в амбарах, съеденного крысами, долгоносиками и т. д.
«Из стеблей хлеба у вас выходит прекрасный зеленый соус, не отягощающий желудка и легко переваривающийся, от которого проясняется ваш мозг, жизненные силы возбуждаются, зрение становится лучше, возбуждается аппетит, укрепляется пульс, и языку щекотно, цвет лица свежеет, мускулы крепнут, кровь течет ровнее, диафрагма менее давит, печень освежается, селезенка расширяется, почкам становится легче, все члены тела делаются более гибкими, позвонки укрепляются, мочеточные проходы опустошаются, тоже и семенные. Желудок ваш хорошо варит, прекрасно очищается, изобилует ветрами; кровь выходит без затруднения: вы кашляете, плюете, вас рвет, вам зевается, сморкается, дышится, вдыхается, выдыхается и передыхается легко. Вы храпите, потеете, и еще тысячу других преимуществ представляет для вас пища такого рода»[177].
– Я прекрасно понимаю, – сказал Пантагрюэль, – вы хотите сказать, что люди небольшого ума даже и не сумеют много истратить за короткий срок. Вы не первый, придерживающийся подобной ереси. Нерон был ее приверженцем, и он превыше всех людей ставил своего дядю Кая Калигулу, который в несколько дней, обладая удивительной изобретательностью, сумел растратить все наследственное имущество, оставленное ему Тиверием. Но вместо того, чтобы соблюдать установленные римлянами законы против роскоши, которыми строжайше запрещалось каждому гражданину тратить в год сумму, превышающую его годовой доход, – вместо этого вы совершили «протервию». Так называлась у римлян жертва, подобная пасхальному жертвенному агнцу у евреев, когда полагалось съедать все съедобное, а остатки бросать в огонь, ничего не оставляя на завтра. Я могу про вас справедливо сказать то же, что Катон про некоего Альбидия, который проел и промотал все, чем владел, и когда у него остался только один дом, он поджег его, чтобы сказать: «Consummatum est»[178], так же, как впоследствии сказал святой Фома Аквинский, когда съел целую миногу.
ГЛАВА III. Как Панург восхвалял и должников и заимодавцев
– Но, – спросил Пантагрюэль, – когда же у вас больше не будет долгов?
– Это дело откладывается ad calendas graecas[179], до того времени, когда весь свет будет доволен, и вы будете наследником после себя самого. Боже упаси выйти из долгов! Тогда я не найду никого, кто бы дал мне взаймы хоть один денье. Кто с вечера не положит дрожжей, у того утром тесто не поднимется. Если вы постоянно у кого-нибудь в долгу, – ваш кредитор неустанно будет молить господа о ниспослании вам хорошей, долгой и счастливой жизни; из боязни потерять свой долг, он всегда и во всяком обществе будет говорить о вас только хорошее и подыскивать вам новых кредиторов, чтобы вы могли через них сделать оборот и чтобы вы, так сказать, чужой землей засыпали его ямы.
«Когда, в былое время, в Галлии, по закону друидов, на похоронах хозяев сжигались живьем все их рабы и слуги, – разве последние не боялись, что их хозяева и господа умрут? Ибо им самим нужно было умирать вместе с ними. И разве не молились они непрестанно Меркурию и Дису, отцу золота, о сохранении их господ в добром здравии? Не старались ли изо всех сил беречь своих хозяев и им служить? Ведь до их смерти могли жить и они.
«Так вот, поверьте, и ваши кредиторы будут горячо молить бога о продлении вам жизни и будут бояться вашей смерти, поскольку они любят рукава больше самой руки, а деньги больше жизни.
«Пример – ландерусские ростовщики, которые чуть не повесились, узнав, что хлеб и вино падают в цене и что вновь наступает хорошая погода».
Так как Пантагрюэль ничего не отвечал, Панург продолжал говорить:
– И то сказать, как подумать хорошенько, вы меня ставите в неловкое положение, попрекая долгами да кредиторами. Клянусь, именно только в этом отношении я считаю себя святым, почтенным и грозным человеком: вопреки мнению философов (которые утверждают, что из ничего не сделать ничего), я, ничего не имея, никакой первичной материи, стал творцом и создателем. Я создал! Что создал? Столько добрых и прекрасных кредиторов.
«Кредиторы (буду настаивать на этом вплоть до костра исключительно) суть прекрасные и добрые создания. Кто не дает в долг, тот – уродливая и злая тварь, адское порождение великого мерзавца дьявола.
«И я сделал. Что сделал? Долги. О редкая, антикварная вещь! Я сделал долгов больше, чем число слогов, получающееся в результате сочетаний всех гласных со всеми согласными, – число, высчитанное некогда благородным Ксенократом. Если вы по количеству кредиторов будете оценивать достоинство должников, вы не сделаете ошибки в практической арифметике.
«Думаете ли вы, как мне приятно видеть каждое утро вокруг себя моих заимодавцев, столь смиренных, услужливых, рассыпающихся в реверансах? А когда я замечаю, что стоит мне взглянуть на одного из них поласковее, или угостить получше, чем других, – плут уже воображает, что его получка будет первой, что его срок наступит раньше других, – вижу, что моя улыбка считается чистыми деньгами. Тогда мне представляется, что я играю роль божества в сомюрской мистерии, окруженного ангелами и херувимами. Это мои клиенты, мои паразиты, мои поздравители, мои постоянные хвалители. И я в самом деле думаю, что из долгов построена описанная Гезиодом Гора Геройской Доблести, на которой мне принадлежит диплом первой степени, к которому все человечество, по-видимому, влечется и стремится, но которого, из-за трудностей пути, достигают лишь немногие, как это видно из того, что весь свет охвачен пылким желанием и острым аппетитом делать долги и новых кредиторов. Однако не всякий бывает должником, кто им хочет быть; и может делать кредиторов не всякий, кто хочет.

«И вы хотите меня лишить этого высшего благополучия? Вы меня спрашиваете, когда я выйду из долгов?
«Гораздо хуже – призываю в свидетели святого Баболена – если бы я всю свою жизнь не считал долгов связующим звеном между землей и небом, единственной поддержкой рода человеческого, без которой люди скоро бы погибли: долги – та самая великая мировая душа, которая, по утверждению академиков, живит все. Что это именно так, – представьте себе ясно в уме идею и форму некоего мира (возьмите, если вам угодно, хоть тридцатый мир, воображаемый философом Митродором), в котором не было бы ни должников, ни заимодавцев. Мир без долгов! В таком мире не может быть никакого правильного течения светил небесных. Все будет в полном беспорядке. Юпитер, не считая себя должником Сатурна, лишит его орбиты и, внеся путаницу во все умы, перепутает все отношения между богами, небесами, демонами, гениями, героями, дьяволами, землями, морями и стихиями. Сатурн соединится с Марсом, и они приведут весь этот мир в сотрясение. Меркурий не пожелает служить другим и не будет больше их Камиллом, как его называют на этрусском языке: ведь он не будет их должником. Не будет почитаема Венера, так как она не будет ничего одолжать.