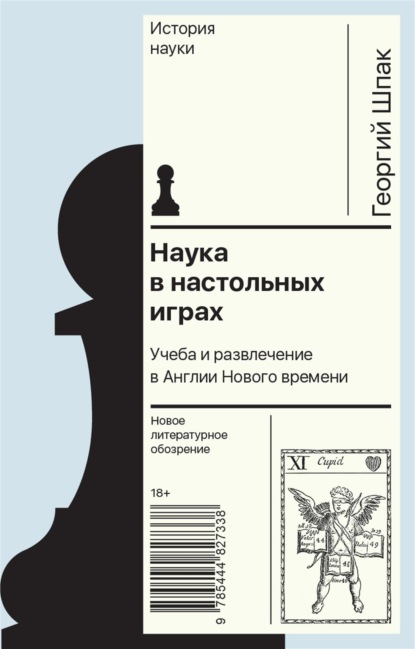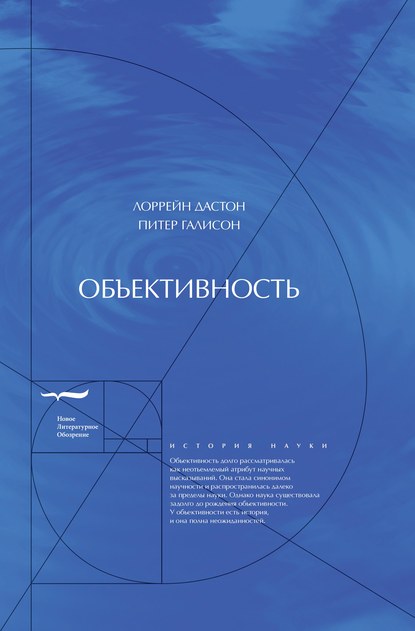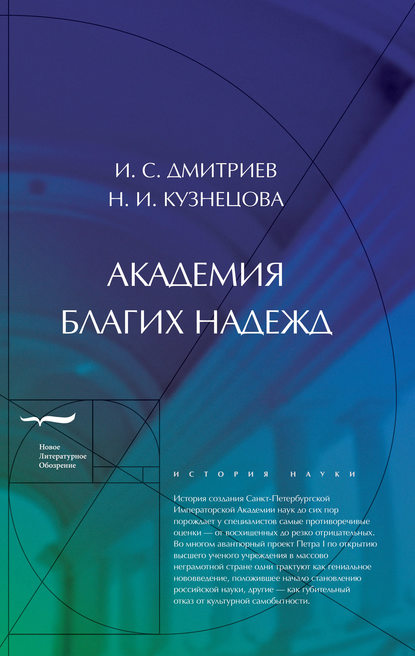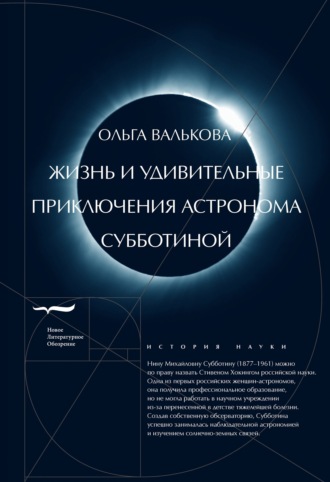
Полная версия
Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной
1900-е гг. стали одним из самых интенсивных периодов жизни Нины Михайловны. Страстная увлеченность окружающим миром, ощущение сопричастности и сопереживания всему происходящему вообще были в ее характере. Круг ее интересов был чрезвычайно широк: ее увлекала наука, интересовала политика, не оставляла безучастной общественная и художественная жизнь. Среди ее писем этого периода можно встретить, например, такое (Н. А. Морозову от 24 мая 1906 г.): «Сейчас вернулась из Думы. Какое она на Вас произвела впечатление? Знаете, я в первый раз почувствовала уважение к власти, м[ожет] б[ыть] потому что она наша – выбранная, которой мы добровольно подчиняемся? А до сих пор при встрече с какой-либо “властью” мне только неизменно хотелось всякий раз сделать ей какую-нибудь гадость!.. Ах, как будет хорошо, когда у нас окончательно установится настоящая выбранная от всего народа власть! А пока я своим деревенским друзьям буду рассказывать про Думу»436.

Рис. 15. Н. М. Субботина (крайняя справа), читает газету (Домашний архив И. Куклиной-Митиной)
В голодном 1906 г. Нина Михайловна разрывалась между желанием продолжать учебу и чувством долга, требовавшим от нее включиться в работу по оказанию помощи голодающим. В том же письме от 24 мая 1906 г. она писала Н. А. Морозову: «… меня теперь мучительно тянет сразу в две стороны – одна – это работать у моего профессора в Москве <…> – а другое – это бросить работу и ехать в Тульскую деревню – кормить ребят. И я не знаю, что мне выбрать, потому что там уже есть одна барышня и кроме того меня туда боятся отпустить! Как бы то ни было – завтра я окончательно уезжаю в Москву и там решу это…»437. Сохранился черновик ответного письма Н. А. Морозова (к сожалению, написанный простым карандашом, он очень плохо поддается расшифровке), в котором Морозов, как нам кажется, пытался мягко отговорить Нину Михайловну от этой затеи. «Меня не удивляет, дорогая Нина Михайловна, Ваша идея бросить на время науку, город, поехать в Тульскую губернию, как Вы выразились “кормить ребят”, – писал Н. А. Морозов. – Это естественный великий порыв, [характеризующий] всякую [живую] душу! Если б у Вас не было в виду [работать для более]438 более великого дела, то я это совершенно [вполне] одобрил бы и не сказал бы, что филантропическое дело…439»440.
Однако это очень мягкое увещевание осталось непонятым и даже наоборот, было принято Н. М. Субботиной за поддержку участия в филантропической деятельности. В ответном письме Н. А. Морозову, написанном уже в середине лета, 8 июля 1906 г., из Москвы, Нина Михайловна писала: «Дорогой Николай Александрович! Спасибо! Я, знаете, боялась, что Вы осудите меня за мои колебания, потому что я прочитала ту Вашу повесть – “Заря Жизни”441 и поняла – как Вы это решили для себя. Я ужасно обрадовалась Вашему письму и пониманию меня. Откуда Вы знаете так хорошо мои мысли?»442 Из продолжения этого письма хорошо видно, что по крайней мере часть весны и лета 1906 г. Н. М. Субботина провела в деревне Тульской губернии, работая в общественной столовой; она также объясняла, почему решилась на такой шаг: «Сейчас ко всему этому примешался еще элемент жалости и тянет от науки к народу. Тянет так же сильно и неотвязно, как некогда тянуло и Вас и уж совершенно не принимает во внимание доводы рассудка. Нет, я хочу и непосредственно приносить счастье людям и служить им своей наукой! Наши столовые уже закрыты, т[ак] к[ак] новый хлеб поспел, но сколько еще других несчастных местностей, о которых надо подумать! Не знаю – смогу ли я что-нибудь сделать для них, и для науки. Когда я жила в Тульской деревне – я была счастлива тем, что могла помочь им; а когда я занималась наукой – у меня горит душа, и я не в силах бросить ее! А знать надо так много и жизнь коротка!» И немного далее продолжала: «Недавно я получила статью американца See443 (Astr. Nachr. 24) “Upon the rigidity of the heavenly bodies”444 и поразилась ее выводами. До какой смелости в определениях доходит этот ученый, вычисляя среднюю твердость небесных тел! Но от этих тройных интегралов мне стало страшно и взяло сомнение – дойду ли я когда-нибудь до возможности вполне понять и выполнить что-нибудь подобное? – Но я хочу, хотя от этого нет практической пользы человечеству… Но такие выводы окрыляют его!»445 В другом письме Н. А. Морозову, от 18 ноября 1906 г., рассказывая о завершении очередной работы, Нина Михайловна восклицала: «Работа моя заканчивается, но впереди раскрывается необъятная перспектива и мне почти страшно! Наука так велика, а человек такой маленький»446. Впоследствии Субботина не забыла этот эпизод своей биографии и вспоминала о нем с некоторой ностальгией. «А потом работа на селе от Вольно-экономического об[щест]ва…» – писала она в воспоминаниях447.
Вообще, неуемная энергия Нины Михайловны и ее неспособность долго находиться на одном месте, по-видимому, доставляли немало беспокойства членам ее семьи, переживавшим за свою чересчур шуструю и одновременно не совсем мобильную родственницу. Но очень часто попытки удержать Н. М. Субботину дома, в лоне семьи и, соответственно, в безопасности, заканчивались либо тем, что половина семейства отправлялась с ней (как это было с поездкой в Бургос на солнечное затмение), либо ничем: Нина Михайловна не боялась поступать так, как считала нужным. Например, в январе 1905 г. после расстрела мирной демонстрации и последовавших общественных беспорядков, имевших место в С.‐Петербурге, Сергей Михайлович Субботин (брат Нины Михайловны) писал Борису Алексеевичу Федченко: «Какие ужасные времена переживаем. Последняя попытка мирного разрешения насущных нужд так кончилась. Царь хотя бы вспомнил Эдуарда Английского, который не погнушался выйти к рабочей толпе и выслушать их требования. <…> впоследствии народ в долгу не останется. Ты, верно, слыхал, что убиты 2 ст[удента] Горного института Лури и Шпилев, оба они были в самых хороших отношениях с братьями. <…> Все ли спокойно было у Вас на Песочной448? Был ли ты у папы с Олегом449 и слыхал как они сидели в осаде, а в нижнем этаже толпа била стекла? Папа присылал каждый день по нескольку телеграмм, чтобы Нину не пускали в Москву, а мы чтобы все жили до Масленицы в Собольках, но Нина все-таки удрала 11-го в Москву и вернулась только сегодня 14-го, к своим именинам. <…> В Москве все так перетрусили 12-го под Петербургским впечатлением, что сидели по домам и улицы были пустынны и все было очень тихо. Был ли ты в Москве на земском собрании?»450

Рис. 16. Н. М. Субботина на крыльце дома в Собольках перед отъездом (вторая справа). 1900-е гг. (Домашний архив И. Куклиной-Митиной)
Кажется, что Нина Михайловна торопилась успеть везде. Помимо учебы, астрономических наблюдений, различных работ и пр., она посещала заседания Русского астрономического общества451, активно участвовала в жизни Физического отделения Русского физико-химического общества452, не пропускала доклады в Русском географическом обществе453 и в Физическом институте454. Никакое новое начинание не проходило мимо ее внимания. Например, 30 ноября 1907 г. она писала Н. А. Морозову: «Получили ли Вы просьбу участвовать в новом Астр[ономическом] журнале и согласились ли? Я согласилась, хотя еще ничего не задумала написать»455.
Она поддерживала переписку с астрономами, чьи научные интересы совпадали с ее собственными. «На днях я получила письмо из Ташкента, – сообщала она Н. А. Морозову 31 октября 1906 г., – Сикора456 пишет, что еще ровно ничего не выяснилось о затмении – кто и куда поедет!457 Значит мы знаем больше его! Я ему кое-что уже написала о франц[узской] и немецкой экспедиции. Ах, как будет хорошо, если удастся и нам попасть туда! По очень многим причинам я не смею мечтать об этом, но если… ах, как будет хорошо!!!»458 – и др. Неудивительно, что Субботина чувствовала себя несколько ошеломленной. «Мысль у меня бросается сразу на 1000 вещей, хочется писать роман, хочется работать красками, – и все это совершенно не годится для серьезной математической работы… Что Вы делаете, когда мысли бегут за 1000 верст?» – писала она Н. А. Морозову 29 августа 1907 г. И продолжала далее: «Хочется написать большую повесть и назвать ее “Скользящие тени” и вывести там тех людей – настоящих людей, которых Бог послал мне повстречать на пути. И хочется проследить их взаимоотношения, хочется подметить то характерное, что есть во всех этих людях науки, искусства, литературы, и жизни наконец, но чувствуешь, что так еще мало разобралась во всем, так мало видела, что надо еще много жить и много думать, чтобы изображения всех этих “ombres volantes”459 нашего времени вышли жизненны и правдивы…». И тут же вдруг замечала: «А еще я сейчас много философствую и меня ужасно интересует Лев Толстой, очень хочется поговорить с ним самим о многом – я с ним во многом не согласна, но он меня тянет к себе. Слетать к нему в Ясную Поляну? Что Вы о нем думаете? Нравится он Вам? Поедемте вместе?»460
Как заметила М. Н. Неуймина: «…она не замыкалась в кругу узких специальных знаний. Ее интересовали решительно все отрасли науки; она увлекалась археологией, историей, зачитывалась художественной литературой. Ее богатая натура четко откликалась на все события современности»461. Субботина была так полна жизненных сил, что не могла ограничить свои интересы чем-то одним. «…при иных условиях может быть из меня вышел бы художник, я чувствую это!» – писала она, например, М. А. Островской-Шателен 28 декабря 1907 г.462 И продолжала в следующем письме, написанном буквально через несколько дней, 8 января 1908 г.: «…переживаю удивительно хорошее настроение, какое-то обострение всех душевных сил и нервных волоконцев, откликающихся на все вокруг происходящее! В особенности в области искусства, театра и литературы и сама все это воспринимаешь, собираешь, и хочется воплотить в одно стройное целое! Ах, если бы у меня хоть маленький талантик был, и хоть на что-нибудь! А то душа чувствует свежее веянье даже от чужого таланта, а сама не проявляется! Может быть потом проявится и надо ей для того какой-нибудь бессознательный толчок? У меня так много веры в жизнь и так много радости в душе! Я не знаю еще что это такое, удивительно хорошее, – это не увлеченье, хотя увлеченья всегда окрыляют меня, но если бы я сейчас увлекалась – я была бы очень огорчена, что возможный герой увлеченья упал с неба прямо в грязную лужу – но я не чувствую, что я слетела туда уже – мне наоборот так хочется лететь все выше и выше, и с таким страстным любопытством привлекать все остальные человеческие души! В которых светится что-то: близкое по звездам и далекое по обыденности!»463 И продолжала после небольшого отступления: «Пусть даже это и сказка оборвется хоть завтра, но оно так прекрасно, что я буду долго помнить его (ведь для астронома времени не существует!) Минута и нет. Захотелось поделиться и мне с Вами! Ну – целую Вас крепко и желаю Вам всего, всего хорошего! Так хорошо быть свободной и чувствовать ликованье души! Ведь это как “танцы Заратустры”… Хоть на минутку, – но хорошо!»464
Но как бы ни любила Нина Михайловна искусство, как бы ни увлекалась им, ее интерес к науке всегда побеждал. «Мне так хотелось найти правду в искусстве, хоть маленький отблеск ее, но наука мне больше дает ее!» – делилась она с М. А. Островской-Шателен465.
Что касается качества полученного Субботиной профессионального образования, то его, наверно, можно охарактеризовать одной фразой: «Стремясь к серьезному теоретическому образованию в астрономии Н[ина] М[ихайловна] много лет пользовалась указаниями и руководством проф[ессора] П. К. Штернберга, а также С. Н. Блажко и С. А. Казакова по курсу вычисления эллиптических орбит, [продолженном] в Ленинграде в 1901–1904 г. с разрешения Д. И. Менделеева на обсерватории Гл[авной] Палаты мер и Весов (ныне ВИМС); в 1905–1910 г. на обсерв[атории] ВЖК, а затем с разрешения акад[емика] Баклунда в Пулкове, пользуясь указаниями проф[ессоров] Костинского, Покровского, Тихова, Иванова, Яшнова466 и др[угих] астрономов»467.
Имени Нины Михайловны Субботиной нет в списках выпускниц, окончивших ВЖК468. Тем не менее авторы-составители библиографического указателя «Высшие женские (Бестужевские) курсы» включили в список бестужевок имя Субботиной Нины Михайловны (1877–1961), которая, по их сведениям, «Окончила физ[ико]-мат[ематический] фак[ультет]. Астроном. Член Русского физико-химического и Русского астрономического о[бществ], член-кор[респондент] О[бщества]ва любителей мироведения»469. Авторы указателя отмечали, что публикуемый ими список бестужевок является неполным: «При отборе имен принимались во внимание особые заслуги бестужевок в области науки, их революционная деятельность, участие в общественно-политической жизни. Составители учитывали также наличие ученых степеней и званий, стаж работы (не менее 50 лет), звания “заслуженного” и “отличника”…»470. Они, однако, не указывали источники своей информации. Возможно, имени Нины Михайловны нет в оригинальных списках выпускниц ВЖК потому, что она была вольнослушательницей. Однако в одной из своих автобиографий сама Нина Михайловна писала, что окончила высшее учебное заведение в 1909 г.471 В отзыве о научных работах Н. М. Субботиной, написанном академиком Г. А. Шайном472 с ходатайством о присуждении Нине Михайловне степени кандидата наук без защиты диссертации, видимо, где-то около 1943 г., указывалось: «В 1910 году Совет профессоров Бестужевских курсов оставил ее на один год при курсах для усовершенствования по теоретической астрономии»473. Это свидетельство, к сожалению, также не нашло документальных подтверждений. В деле «Об оставлении при курсах окончивших курсы для подготовки к научной и преподавательской деятельности 1896–1915», хранящемся в архиве С.‐Петербургских Высших женских курсов в Центральном государственном историческом архиве С.‐Петербурга, имя Н. М. Субботиной не упоминается474. Конечно, содержащиеся в нем данные могут быть неполными. Сама Нина Михайловна писала, что документы об окончании ею курсов существовали и бережно хранились, но были утрачены во время войны. «Мое свидетельство от Бестуж[евских] курсов об учении на ф[изико]-м[атематическом] [отделении] с 1905 по 1910, с представлением в факультет печатной брошюры о [комете] Галлея, погибло со всем имуществом и др[угими] документами», – сообщала она Г. А. Тихову 29 ноября 1943 г.475
Отсутствие документов, однако, не означало отсутствие памяти. В коротеньких воспоминаниях, составленных по просьбе бывших курсисток примерно около 1960 г., Нина Михайловна написала: «С благодарностью вспоминаю переезд семьи в Петербург и поступление на Бестужевские курсы. Низкий поклон курсам за все, что они посеяли, и за то, что их окружало – встают в памяти образы народовольцев с Морозовым и Верой Фигнер, революционное студенчество и растущий рабочий класс»476.
Сотрудничество Н. М. Субботиной с С.‐Петербургскими Высшими женскими курсами продолжалось и после 1910 г. Так, например, раздел «Хроника» «Известий Русского общества любителей мироведения» в рубрике, посвященной деятельности астрономического кружка при Высших женских курсах, отмечал в январе 1914 г.: «Членами кружка проводится обработка летних наблюдений Персеид. Работа эта производится совместно с Н. М. Субботиной. Под ее же руководством производились наблюдения падающих звезд в созвездии Большой Медведицы от 12–21 ноября 1913 г., которые тоже будут обрабатываться кружком»477. Совместные наблюдения проводились не только в 1913, но и в 1912 г. 31 июля 1912 г. Нина Михайловна писала Н. А. Морозову: «…Я сейчас с мамой и сестрой в Собольках (Можайск), пишите мне туда! Как только вернулась из Евпатории – установила телескоп и принялась за работу на обсерватории. Здесь на даче живет еще один астроном – из Московского кружка и он очень увлекается наблюдениями, – и продолжала: – С 25.VII мы принялись за Персеиды – выписали карты Московской Астр[ономической] обсерватории, подобрали еще наблюдателей – курсисток-математичек – и стали дежурить с картой, хронометром и фонарем. К сожалению, несколько ночей было облачных, а в остальных за 2 часа набиралось от 6 до 10 штук метеоров – что это сделалось с этим интересным потоком?! Я помню, в 1901–[190]4 г. за 5 ночей набиралось до 400 штук падающих звезд, а теперь почти ничего!!»478
В отзыве о научных трудах Субботиной, предназначавшемся для Высшей аттестационной комиссии, академик Г. А. Шайн пишет, что она «По поручению совета Бестужевских Курсов в течение 2-х семестров вела практические занятия по подготовке студентов к затмению 1914 г.»479
Так что сотрудничество Нины Михайловны с Бестужевскими Высшими женскими курсами, начавшееся в 1905 г., продолжалось до 1914 г. включительно, и, наверно, самой яркой страницей в истории этого сотрудничества стала организация совместного наблюдения солнечного затмения 1914 г. Однако до второго «большого» затмения в жизни Нины Михайловны была еще одна работа, принесшая ей, не имевшей никаких дипломов (Высшие женские курсы в тот момент государственных дипломов еще не выдавали) и ученых званий, официальное признание научного сообщества. Речь идет о знаменитой монографии Н. М. Субботиной «История кометы Галлея», первой российской книге по истории астрономии, написанной женщиной и выигравшей автору премию Русского астрономического общества.
Глава 5
КОМЕТА ГАЛЛЕЯ
Работа над монографией «История кометы Галлея»
Уже в 1907 г. Н. М. Субботина увлечена большим новым проектом, который в письмах называет «Созвездия». Вместе с художником Н. З. Пановым480 она готовила альбом, в котором должны были быть собраны рисунки созвездий, сопровождаемые сведениями об их возникновении, их названиях и толкованиях в разные времена и у разных народов.
К сожалению, в ноябре 1907 г. тяжело заболел М. Г. Субботин. Родные боялись за его жизнь. Нина Михайловна не могла думать о чем-то кроме этого. «Ваше письмо я получила в тяжелое время! – объясняла Субботина М. А. Островской-Шателен свою невнимательность к их переписке. – Был болен папа воспалением легкого и припадками сердечной слабости; было такое время, что доктора советовали не надеяться и делали впрыскивания кофеина и камфоры каждые 2 часа. 5 ночей здесь дежурил доктор, и папа дышал только с помощью кислорода. Такой невыносимый нравственный гнет был на душе, что Вы поймете отчего я не писала!»481 Ситуация воспринималась особенно тяжело еще и потому, что оказалась совершенно неожиданной. «Папа болен с 17 ноября – он сперва схватил только инфлуенцу и мы не подозревали как серьезно его положение – но когда он позволил позвать доктора, потому что у него сделалось удушье, то доктор моментально послал за кислородом, за камфорой, сидел у него 2 часа и потом сказал, что каждую минуту ждал конца от паралича сердца! А никто, даже сам папа этого не подозревал! И вот так-то нам пришлось прожить эти 1 ½ месяца – не понимая в чем дело и всецело полагаясь на знание врача, чтобы во время предупредить и задержать развитие припадка! Видите, милая Марья Александровна, нельзя было писать в такое время!» – объясняла Нина Михайловна подруге482.

Рис. 17. Михаил Глебович Субботин с детьми. 1904 г. (Домашний архив И. Куклиной-Митиной)
Рассказывая о своем душевном состоянии в эти тяжелые дни, она писала: «Я право с ума сходила от волнения и если бы не маленькое отвлечение благодаря рисованью, которым я последнее время занимаюсь, то совсем бы и <…>483». И продолжала: «Сегодня первый день, как я вынула свои книги и думаю опять начать заниматься! В сущности говоря – я ничего не сделала кроме 2–3 рисунков “Созвездий” и покончила эту работу, но они мне все-таки дали кое-что и я немного отвлекалась на них…»484.
Таким образом, работа над «Созвездиями» помогла Субботиной пережить душевную травму. После того как кризис со здоровьем Михаила Глебовича миновал, она продолжила продвижение своего проекта. Сохранилось письмо Нины Михайловны, адресованное товарищу ее отца Владимиру Гавриловичу Глазову, тому самому министру просвещения, который помог ей поступить на ВЖК, от 17 января 1908 г., написанное накоротке из-за того, что Субботина не застала адресата дома, в котором она немного более подробно рассказывает об этом. «Дорогой Владимир Гаврилович! Приехала в Москву, направилась с визитом к Вам и очень огорчилась, что я не нашла Вас здесь. Мне давно хотелось написать Вам и спросить Вашего указания как археолога для одной задуманной мною работы, – писала Н. М. Субботина и объясняла далее: – Я очень мечтаю изобразить художественно созвездия Зодиака и у меня много рисунков и набросков для них, но я не знаю мифов созвездий485, которые нужны для психологии изображений. Я уже отыскивала их в Академии наук и Публичной библиотеке, но не нашла, и мне посоветовали обратиться за указанием книг к археологам. Вы же единственный знакомый археолог и я уже очень давно хочу видеть Вас и побеседовать на эту тему. 24-го января я уже уезжаю обратно в Петербург, – продолжала Нина Михайловна и просила: – м[ожет] б[ыть] Вы будете так добры укажете мне к кому можно обратиться за указаниями в Петерб[урге]?» И далее рассказывала немного более подробно: «Я отыскиваю греческие мифы, а также Вавилонские и вообще – мифы Востока, я выбрала смешанный египетский и греческий стиль для своих картин и мы работаем вдвоем с одним художником, причем вся научная часть на мне»486.
Таким образом, Нина Михайловна впервые обращается к истории астрономии Древнего мира, начинает изучать мифологию, сохранившиеся художественные памятники и письменные источники. Знакомится с составом коллекций различных музеев, в том числе Британского музея, Эрмитажа и др. В письме от 18 ноября 1907 г. она спрашивает Н. А. Морозова: «Где Вы читали о созвездиях и об их мифах? Пожалуйста, напишите! Мне непременно надо проникнуть в глубину их содержания, чтобы выяснить психологию фигур Созвездий»487. Нину Михайловну увлекает время, когда астрономия «еще не отделялась от искусства и не была окружена такой громадой цифр, как теперь»488. Она пишет Н. А. Морозову: «А мне надо выяснить ее (астрономии. — О. В.) философию, цифры для меня всегда, всегда только орудие; их одних мало мне! Мы не затрагивали с Вами этих вопросов, а они мучают и волнуют меня, я так мало понимаю астрономию и так мало смыслю в искусстве!»489 И продолжает: «…я очень углубилась в эту задачу и она увлекательна тем, что переносит в седую древность, к самому зарождению науки <…>. А пока мы с художником рисуем и рвем, составляем и отвергаем; вся астрономическая часть лежит на мне, вся художественная – в смысле грамотности вычисления и художественной интерпретации – на Панове – я теперь только подмастерье! <…> Я бегаю в Эрмитаж за египетскими глазами, в Акад[емию] худ[ожеств] за “примитивами” и пойду за медалями в Академию наук! Страшно интересно!!»490
Эта работа, однако, была отложена и не доведена до конца. Через несколько лет, 12 сентября 1912 г., Нина Михайловна писала о причинах Н. А. Морозову: «…теперь не знаю – когда будет выполнена эта работа – план ее был широк, а многое помешало его осуществлению. Было задумано ознакомление с греческими, египетскими, ассирийскими и еврейскими астрономическими, астрологическими и религиозными источниками и соответствующими идеями – а ведь все тогда облекалось в мифологическую форму. Ну – я доходила уже до изучения соответств[ующих] языков и т[ак] д[алее], но остановилась перед ужасной сложностью задачи: ведь тут целой жизни мало – проследить общую идею и выявить ее проявления у различных народов. А сколько тут интересного и захватывающего! Как жаль, может, что я только кустарь, кустарь и кустарь во всем! – А меня так тянет к людям! Мне даже звезд мало, пот[ому] что там нет людей!!»491
С тех пор интерес Н. М. Субботиной к истории астрономии не ослабевал, но в тот момент он несколько поменял свое направление: приближалось очередное свидание Земли с кометой Галлея, и редкая гостья захватила воображение и внимание Субботиной. Судя по ее письмам к Н. А. Морозову, уже в 1908 г. она активно работала над книгой о комете Галлея, хотя сама комета привлекла внимание Нины Михайловны еще раньше. Как мы упоминали выше, примерно с 1905 г. Нина Михайловна выполняла обязанности вычислительницы в большом проекте, предпринятом Русским астрономическим обществом по предвычислению появления кометы Галлея, ожидавшейся в 1910 г. Работа эта не всегда давалась легко, но неизменно увлекала Н. М. Субботину: «Что касается до моих вычислений, то они приводят меня в отчаяние – где-то явная ошибка и орбита не получается, т[ак] к[ак] контроли не <…>492, а работа такая интересная и так хочется хорошо ее кончить, чтобы потом вычислять орб[иту] двойной звезды…»493. Уже тогда при каждой случайной возможности она посещала Пулково, иногда даже на один день, чтобы «…не пропускать лекции и никого не стеснять в Пулково…»; очень хотела «познакомиться и с дамским персоналом Пулкова», хотя Нина Михайловна боялась «навязывать им себя!»494 Тем не менее это знакомство, конечно, состоялось.