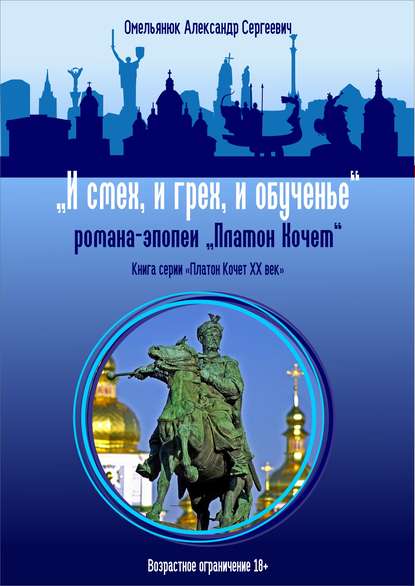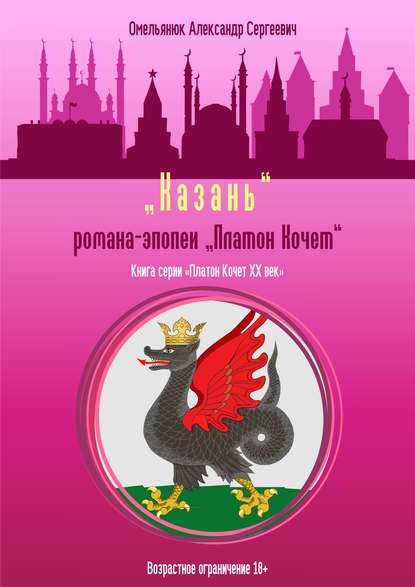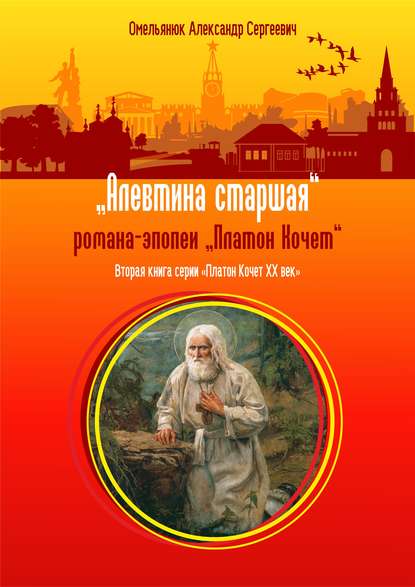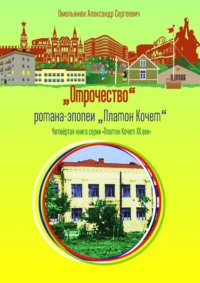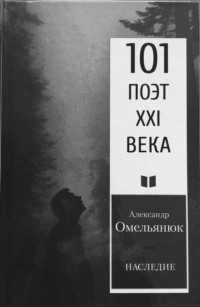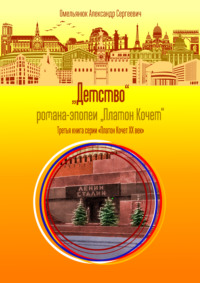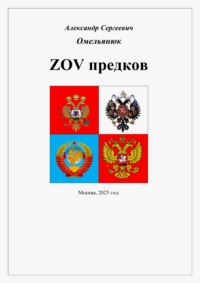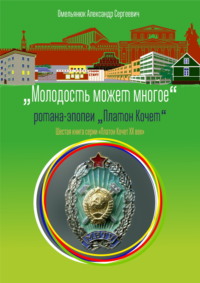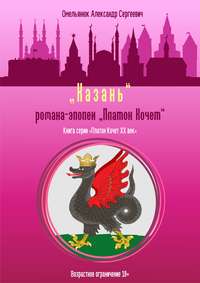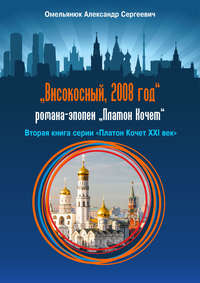Полная версия
Пётр второй
– «Так, не! Не танная (дешёвая) яна, усё нармальна!» – возразил тому Василий Климович.
– «Глядзи, стары, не пратрацься (не продешеви), з сынам-той старэйшым (старшим)! А то будзе (будет) твой сын бяздны (бедный), а дом сгние!» – снова послышался тот же голос продолжившего соседа.
Первые, самые нижние брёвна (падруба), положенные ими непосредственно на выровненный участок земли, были самые толстые.
Они могли выдерживать тяжесть всего дома, выполняя функции ленточного фундамента.
– «Пётр, падруба бо ад зямли будзе сыреть. Давай прахарчуем (пропитаем) падмурак (фундамент) старым ильняным (льняным) алеем (маслом). У мяне ёсць! Прыняси яго з склепа (погреба)!» – попросил сына Василий Климович.
– «Тата, а можа нам падмурак з калод зрабиць?» – предложил Пётр.
– «Ня стулы ю нас таки товстых (толстых) бярвення (брёвен) не! Ды и перепиливать их намучышся!».
– «Можа тады вяликия камяни пад падрубу падкладзем?».
– «А дзе ты их возьмеш, як падымеш и прывязеш?» – почти стихом ответил отец.
– «Бацька, пачакай (погоди)! У нас ж на двары пад дровницей давно прызапашаныя (припасены) товстыя (толстые) цурбаки, прасякнутыя (пропитанные) дзёгцем (дёгтем) и абпаленыя (обожжённые) на вогнишчы (костре). Давай их и возьмем!».
– «Цьфу ты, дурная башка, зусим (совсем) вылецела з галавы. Вядома (конечно) давай! Для гэтага (этого) ж я их давно и падрыхтавав (приготовил)! Так давно, што я зусим пра их и забывся (позабыл)!».
После этого обсуждения мужчины взялись за дело.
Под будущие углы хаты и через некоторые промежутки между ними были чуть вкопаны давно обожжённые в горящем дёгте чурбаки, которые отцу и сыну пришлось выкатывать из-под довольно высокой поленницы, временно завалив её во дворе.
А уж на эти чурбаки и была положена падруба.
– «Ну, усё (всё)! Пакуль (пока) хопиць (хватит)! Цяпер трэба падстава (основание) пад апечча (опечье) печы (печи) зрабиць (сделать), и печника запрашаць (приглашать)».
А пока они приступили к подготовке места – рытью неглубокой прямоугольной ямы у стыка внутренней стены дома.
В образовавшуюся яму они поочерёдно засыпали сырую глину, вбивая в неё камни средней величины.
А промежутки между ними заполняли мелкими камнями и осколками от больших камней.
Затем всё это они закрыли ещё одним слоем сырой глины, и снова в него вдавили камни и камушки.
А пока основание подсыхало, строители снова занялись стенами.
Тем временем младшие братья отца подвозили на подводах обожженный кирпич для кладки печи.
А когда основание высохло, отец с сыном поставили на нём кирпичный фундамент (опечье) под будущую русскую печь.
– «Пеця, а бо (ведь) падлога (пол) цяпер у цябе не земляны будзе – давядзецца (придётся) дравляны (деревянный) рабиць (делать)!» – сделал отец не совсем радостный для него, но радостный для сына вывод.
– «Ну и добра! Пакладзем (Положим) яго на лаги, а тыя (те) да (к) сцен (стенам) прымайстравали (приделаем)» – прикинул Пётр.
– «Дзявбци (долбить) шмат (много) давядзецца (придётся)!» – не обрадовал того отец.
Пока приглашённый знакомый печник по старым, изрядно измятым и потёртым чертежам, слой за слоем клал обожжённые кирпичи, скрепляя их раствором, отец с сыном продолжили заниматься домом.
И постепенно, день за днём, венец за венцом стали расти стены новой хаты, и почти вместе со стенами росла и кладка печи.
Хату, как везде в Белоруссии, строили торцом на улицу.
Дверь своего пятистенного дома Кочеты прорубили по длинной его стороне, выходящей во двор, и с учётом высоты будущего пола.
Торцы брёвен они скрепляли в простой замок.
– «Тата, а чаму ты змацоюваеш (скрепляешь) барвёны (брёвна) в просты замак (замок)?» – спросил Пётр.
– «А так мацней (крепче) будзе. Ниякай юраган дом не развалиць! И зубр таксама! (тоже)» – задумчиво ответил отец, продолжая подтёсывать топором пазы в брёвнах.
Торцевые и среднюю, с дверным проёмом, стены хаты Кочеты сделали с закотом. То есть, когда по мере приближения от последнего полного венца к будущему коньку двускатной крыши, брёвна постепенно укорачивались, создавая форму ступенчатого треугольника.
Но свою крышу они решили сделать с подсенью. То есть с нависанием общей крыши и над будущими сенями вдоль длинной стены дома, выходящей во внутренний двор.
– «Тата, у нас сцены (стены), як Египецкия пирамиды!» – просто ошарашил отца Пётр.
– «А што гэта (это), адкуль (откуда) ты ведаеш?» – удивился отец.
– «А мне дзядзька Парфений распавядав (рассказывал) и малюнки (картинки) паказвав (показывал)!».
На получившиеся в стенах выступы они потом положили жерди-латы, ставшие основой крыши, которую покрыли еловым гонтом (щепой).
Сам Пётр, с малолетства обученный отцом этому ремеслу, вырезал конёк на крышу – сдвоенные головы коней.
Глядя на аккуратную работу сына, Василий Климович мечтательно произнёс:
– «Пеця, я вось (вот) думаю: пабудуеш (построишь) ты дом, ажэнишся на маладуха, и нарадзицца у вас два сыны. И будуць яны табе памочниками, як гэтыя (эти) два каня на каньку твайго дома!».
– «Дай-то бог бацька!».
Потом они в лицевой стене и в боковых стенах, выходящих наружу усадьбы, прорубили отверстия для небольших застеклённых окон, которые позже сам Пётр украсил резными переплётами и наличниками.
Тем временем печник закончил кладку печи.
Поэтому строители переключились на пол. Отец принёс большие долота, долгое время лежавшие без дела в чулане его хаты. И Пётр ими и топором начал выдалбливать в нижних брёвнах пазы для крепления лаг.
С этим делом он возился довольно долго, потому Василий Климович пока занялся своим хозяйством.
Потом Пётр долго строгал высушенные половые доски, а Василий Климович вставлял окна.
Наконец занялись деревянным полом, коих в их деревне ещё почти ни у кого не было.
После него в низкий дверной проём с высоким порогом, для сохранения в доме тепла, повесили одностворчатую, деревянную с железным засовом дверь.
Затем Кочеты принялись за потолок, для чего на верхний венец поперёк хаты сначала положили балки (отёсанные с четырёх сторон брёвна).
На них настелили обтёсанные доски, сверху обмазав их глиной и засыпав мхом, присыпав его ещё и песком.
Мхом проконопатили щели между брёвнами венцов снаружи и внутри.
Закончив внутри дома, Кочеты приступили к завалинке, которая обычно ограждала жилой дом от холода и сырости.
Она представляла собой песчаную насыпь высотой до сорока сантиметров, засыпанную вдоль стен вокруг дома, и укреплённую лежащими на ребре досками, которые в свою очередь удерживались вбитыми в землю кольями.
Но теперь такая конструкция не годилась.
– «Тата, нам цяпер (теперь) нельга (нельзя) рабиць (делать) звычайную (обычную) прызбу (завалинку). Пол павинен (должен) ветраць (проветриваться) знизу. Давай зробим прызбу (завалинку) з адных дошак (досок) и выраж (вырежем) унизе маленькия акенцы для вентыляцыи» – предложил отцу Пётр.
– «Не, тады (тогда) дом будзе знизу прамярзаць. Давай лепш (лучше) рабиць (делать) як звычайна (обычно), але (но) в пясок уставим маленькия драюляныя (деревянные) палукашка (короба), як акенцы (окошки) для ветрання пад падлогай (полом). Ды и у нижних бярвёнах з чатырох, дзе трэба, акенцы палонку (прорубим). Владкуеш там склеп для бульбы (картошки) и караняплодав!» – не со всем из предложенного сыном, согласился опытный отец, высказав своё окончательное решение.
Так они и поступили. Хата Петра Васильевича Кочета получилась не только большой и вместительной, но и во многом новаторской.
Многие односельчане потом ходили к ним и смотрели, как построен дом, перенимая их опыт.
В основном закончив с домом, семья Кочетов приступила к надворным постройкам, которые сооружались из более дешёвого леса – ольхи и осины.
Но в хозяйственных постройках пол решили сделать по-старому – глинобитный.
Место будущих построек они разровняли, засыпали сырой глиной, долго молотками выравнивая грунт. Потом засыпали эти места песком и затрамбовали колодой, а окончательно довели их бельевым вальком.
Крыши хозяйственных построек они устлали толстыми слоями (более десяти сантиметров) крупной ржаной обмолоченной соломы, прижатыми к крыше длинными рейками, которые в свою очередь были связанны между собой и привязаны к стропилам. Это позволяло защитить слои соломы от ветра.
Позже Петру Васильевичу приходилось неоднократно чинить эти крыши, затыкая соломой образовавшиеся от ветра и дождя проплешины, и вспоминая предупреждение отца ещё в начале строительства:
– «Пеця, але (но) табе зараз прыйдзецца (придётся) часам (иногда) рамантаваць даху (крышу)!».
А завершили Кочеты строительство дома для Петра возведением вдоль длинной его стены с входной дверью со двора – сеней, которые, прежде всего, служили для утепления жилья и хранения хозяйственного инвентаря.
Из хаты через сени, в которых были выделены сенечки, камора и вещевая кладовая, можно было не только выйти во двор, но и пройти в клеть-кладовку, в которой хранилось зерно, продукты и одежда.
А в самих сенях с двумя небольшими застеклёнными оконцами стояли бондарные и плетёные ёмкости, ступа, и жернова. На стенах в два яруса висели полки с посудой и инструментом, корыта, сбруи, а на деревянных жердях сушились мешки. Здесь же для летнего использования стояла кровать и стол со скамьями.
Клеть делалась из тонких брёвен с закотом для крыши, с полом, но без окон.
Закрома для зерна делили на секции, в которых отдельно хранили рожь, овёс и ячмень.
Там же на жердях развешивали тулупы, кожухи и овчину.
Тут же стояли большие дощатые или плетёные ящики (кубелы) для картофеля и овощей, бочонки с салом и квасом, сундуки (скрыни) с тканями и одеждой, а позже и топчан, на котором потом летом иногда спали сыновья.
А под потолком подвешивались колбасы и куски копчёного мяса (кумпяки).
По окончанию строительства новая хата Кочетов была освещена специально приехавшим к родственникам отцом Сергием, и начался торжественный и официальный переход Петра в свой новый дом.
По традиции на ночь в новый дом запустили петуха.
– «Глядзице (смотрите), а то рыжы (рыжий) певень (петух)! Прям чырвоны кочет!» – кричали одни соседи.
– «Пеця глядзи, а то дзеци таксама (тоже) рудыми народзяцца!» – от души смеялись другие.
Наконец, Пётр по традиции взял в отчем доме горшок с ещё тлеющими углями, и внёс его в новую хату, поставив сразу в печь.
– «Ну, вось (вот), сынок! Ты и прынёс у свой новы дом часцинку хатняга (домашнего) агменю (очага) з-за чаго (из отчего) дома. Цяпер ажанися и будзь шчасливы!» – напутствовали его родители.
Тут же в новую хату вошли и гости.
Сразу стало видно, что родители и вся родня Петра постарались на славу – произвели уборку, припасли и расставили всё необходимое для жизни.
Слева от входа в глаза сразу бросалась чистая новая печь, на углу которой стояли две каменные плошки для сжигания останков корчей (пней) и освещения хаты.
По диагонали от неё в кухонном углу (бабином куте) уже стояла кадушка с водой и деревянным ковшом, и висели полки с посудой.
А справа на лавке, под которой была заготовлена бадья, стояли наполненные водой деревянные вёдра, круглое корыто и ведро для дойки.
В другом углу хаты, у смежной с горницей стены, стояла канапа – широкое, длинное, деревянное поднимающееся сидение с подлокотниками и спинкой, стоящее на четырёх массивных ножках, собственноручно Петром Васильевичем украшенное резьбой. Под его сидением был сундук (шлебан) с вещами.
Около печи над входом в горницу размещались полати, под потолком – горизонтальные жерди (ашостаки) для сушки белья и полотенец, а по другую стену с окнами – стол с лавками.
Через хату гости прошли в большую чистую комнату – горницу, где посреди неё стоял накрытый скатертью большой стол, на который женщины уже поставили кувшин с холодным квасом и закусками.
В горнице своей чистотой и красотой бросался в глаза красный угол (чырнов кут или покуть), к которому вдоль стен сходились, прибитые к полу и стенам, большие лавки, на одной из которых уже стояла дежа с хлебом.
В этом углу, служившим домашним алтарём, уже висела икона, обрамлённая красными вышитыми рушниками, а под ней на полочке хранились атрибуты различных будущих обрядов.
Новоселье в новой хате справляли долго.
Родни и соседей было много.
С сумерками уже зажгли лучники и по стенам хаты побежали тени от гостей, веселившихся перед предстоящими новыми трудовыми буднями.
И всё это Пётр вспоминал с окончанием очередного лета.
А поздней осенью они уже вместе с Ксенией вспоминали историю их бракосочетания.
После окончания строительства дома и прилегающих к нему хозяйственных построек главной целью целеустремлённого Пётра Кочета тогда стала женитьба.
Согласно новому закону о воинской службе и благодаря старшему брату Парфению, избежав призыва в армию, он по молодости уже дважды женился, но всякий раз неудачно.
Его первая жена Прасковья хоть и была молодой и красивой, но оказалась бесплодной, к тому же ленивой и сварливой. Она и закончила плохо, ранней весной провалившись в прорубь ближайшей реки Локницы, пытаясь доказать всем, что и она одна умеет ранней весной ловить рыбу.
У Петра только и остался в памяти её взъерошенный образ с топором и сачком в руках, и последняя фраза, брошенная ею на пороге:
– «А я зараз пайду и дакажу табе и тваим бацькам (родителям), што я и у сакавік (в марте) сама без мужавай дапамоги (помощи) змагу з-пад лёду дастаць рыбу!».
Второй брак Петра, с засидевшейся «у дзеуках» Лидией, также закончился трагически. Та, так и не разродившись, умерла при родах их первенца. В сердцах расстроившийся Пётр тогда даже сжёг заранее сделанную им люльку для младенца, объяснив это родителям:
– «Не трэба было мне бегчы наперадзе саней. Вось бы Жонка и дзиця жывыя были б!».
И теперь он искал себе невесту молодую, красивую, и, главное, работящую и хозяйственную.
И летом 1900 года на ярмарке в Пасынках, на которой Пётр был с отцом, им приглянулась молоденькая девушка, тоже приехавшая туда со своим отцом.
Мужчина и девушка разговорились и сразу понравились друг другу.
Пообщавшись, сговорились и их отцы.
Только мать Петра – Глафира Андреевна поначалу дома ворчала:
– «А ты, стары, ци што забывся прыказку: Не выбирай сабе жонку на рынку, а выбирай сабе жонку на…».
Но муж прервал её:
– «Ды (да) добра (ладно) табе, не юпершыню (не впервой), вось (вот) пабачыш яе в справе (в деле) и даведаешся (и узнаешь)!».
– «Так яны амаль (почти) незнаёмыя (незнакомы) адзин з адным (друг с другом)! Нават (Даже) на моладзевых (молодёжных) вечарынках не сустракалися (не встречались), мала бачыли адзин аднаго и не размавляли (не разговаривали)!» – всё ещё не унималась мать.
Ведь у этой пары не было традиционного для белорусской деревни длительного знакомства парня и девушки.
Но всё равно, в дом невесты в деревню Кривая заслали сватов. В их роли выступили словоохотливый женатый дядя и крёстный отец жениха – Трофим Климович Кочет со своей женой.
И вскоре родители молодых сговорились о сроках свадьбы и о приданом.
А поздней осенью, после окончания полевых работ, сыграли свадьбу.
Сначала молодые, как водится, венчались.
А поскольку в их деревнях не было своих церквей, то молодожёны естественно выбрали церковь их познакомившего села Пасынки.
И этот выбор был одобрен обеими парами родителей.
Даже саму службу венчания в этой православной церкви Рождения Святого Иоанна Крестителя отслужил дядя жениха – настоятель Сергей Климович, который буквально за несколько дней до этого получил свой сан от епархиального архиерея и настоятеля православной церкви, в которой до этого служил Сергей Климович, Георгия Победоносца – покровителя воинов, земледельцев и скотоводов – в городе Бельск-Подляски, основанном ещё Ярославом Мудрым.
Да и их венчание было назначено на 26 ноября – осенний день Святого Георгия.

Церковное венчание хоть и было обязательным, но в свадебном обряде крестьян Западного Полесья играло не главную роль, и было совершено за несколько дней до свадьбы Петра и Ксении.
Их брак был закреплён каравайным свадебным обрядом, который происходил с печением и разделом хлебного каравая, с угощением и благословением молодых.
А до этого обряда, как всегда, сначала был девичник, потом выезд жениха с друзьями за невестой, свадебные столы в домах невесты и жениха, и другие, включая расплетание косы невестой.
Все обряды свадьбы Петра и Ксении, впрочем, как и везде в Полесье, сопровождались пением многочисленных свадебных песен и были большим и ярким торжеством (вяселле) для всей деревни Пилипки.
И это запомнилось молодым супругам на всю жизнь.
А в качестве приданого родители Ксении собрали, кроме её одежды, ещё и подстилки, полотенца, скатерти и заранее сшитые самой невестой мужские сорочки. И всё это было собрано в расписанный красочным орнаментом сундук, который с сидевшим на нём шафером торжественно привезли в Пилипки в новый дом молодожёнов.
С тех пор прошло три с половиной года, и в вначале лета 1904 года, во вторник 7 июня, в семье Кочетов родился ещё один мальчик, которого на это раз назвали в честь отца – тоже Петром.
– «А в нас яшчэ (ещё) адзин кочеток нарадзився (народился)!» – делился радостный отец с многочисленными родственниками.
Дабы теперь не путать имена мужа и сына мать частенько называла младшего из них – Петром вторым. И это прозвище постепенно прижилось, просто прилипло к мальчику, занявшему люльку старшего брата.
– «Пётр други, падыдзи да Пятра першаму!» – через год в шутку иногда подзывал его отец.
И лишь наедине с младшим мать ласково называла его по-французски Пьером.
Шло время, сыны росли и крепли, а родители, каждый «на своём поле», работали, любили детей и друг друга.
Боря, уже в раннем детстве обладая сложным характером, всё же рос прилежным мальчиком. Он любил дом, лес и природу, с раннего возраста помогая строгому отцу по хозяйству и в благоустройстве земельного участка, обучаясь от него крестьянскому мастерству, постепенно становясь мастером на все руки.
Петя рос любознательным мальчиком. Ничто не проходило мимо его глаз, ничто не миновало анализа его пока детского ума. Он хотел всё знать, всё понимать и всё уметь. Поэтому ко всему внимательно приглядывался, иногда пробуя и ошибаясь.
Уже с самого раннего возраста у него проявилась склонность и тяга к систематизации и анализу.
Его интересовали и взаимоотношения между людьми, прежде всего между родителями, их отношения к нему и к старшему брату, взаимоотношения между другими людьми и их отношение к окружающему их миру – флоре и фауне.
Его также интересовало и поведение домашних животных, что, где и как растёт, почему и как меняется погода, как действуют и устроены различные механизмы.
Поэтому ещё в малом возрасте у него стало появляться своё мнение по разным вопросам, часто несовпадающее с мнением родителей и брата и других людей, даже старших по возрасту, постепенно формируя из мальчика нонконформиста.
Однако в бытовом поведении Петя часто проявлял чувство солидарности с другими, в том числе с озорниками сверстниками.
Но особенно он почитал своего старшего брата – всегда весёлого Бориса. Тот обладал неиссякаемым чувством юмора и часто смешил младшего, хохотавшего иной раз просто до упаду.
Правда Боря всегда старался навязать своё мнение окружающим, и прежде всего друзьям и Петру. Потому у него не вязалась дружба со сверстниками. И только младший брат внимал ему, или пока делал вид.
Петю не смущали иной раз даже до слёз обидные шутки Бориса. А вот друзья ему такого не прощали. За что тот мстил им потом ещё более язвительными высказываниями в их адрес.
Но, несмотря на это, друзья почему-то уважали упорного, волевого, независимого и решительного Бориса, и старались не спорить с ним.
Им видимо импонировали его моральная сила, целеустремлённая серьёзность и практичная изобретательность в делах.
Однако природная скрытность Бориса не позволяла ему раскрыться даже перед своими близкими – младшим братом и родителями, особенно перед всегда находившейся рядом матерью, которой он часто перечил, и перед отцом, которого побаивался из-за его строгости и сурового нрава.
В противоположность старшему брату, другим по отношению к матери был Пётр. Он уважал мать, которую очень любил и никогда с ней не спорил, хотя отца тоже побаивался.
Мать обратила внимание на тягу младшего сына к музыке, но обучить его пока не могла, хотя сама раньше умела играть на фортепьяно.
Но где его найдёшь в этой деревне.
Петю всегда тянуло к чему-то новому, интересному, ранее ещё ему неизвестному.
В отличие от Бориса, Пётр с удовольствием занимался с матерью французским языком. В их семье говорили как по-русски, так и по-белорусски. И очень редко по-французски: только мать и в основном с младшим сыном.
В такие моменты Пётр Васильевич шутил с ними:
– «Я вас не разумею!».
– Тата (папа), а ты таксама (тоже) вучы (учи) французскую мову!» – тогда советовал Пётр второй Петру первому.
И это не было нонсенсом для их деревни.
Некоторые старые жители ещё кое-что помнили от своих предков о нашествии наполеоновских войск, об их расквартировании и проделках в здешних сёлах, ещё помнили некоторые французские слова и словосочетания.
А старшие Кочеты ещё помнили историю незаконного рождения их общего отца – вовсе не ставшего кротким Клима – от знатной бабушки шляхтички и молодого французского офицера-кавалериста.
Они также хорошо запомнили историю происхождения своей странной фамилии – Кочет.
Их отец – совсем бедный восемнадцатилетний крестьянин Клим, воспитывавшийся в чужой крестьянской семье, – весной 1831 года был рекрутирован в армию восставших поляков, когда их национально-освободительное движение докатилось и до Беловежской Пущи.
Тогда крестьяне Западной Беларуси жили как бы между молотом и наковальней. Их угнетало и царское правительство и, находящаяся к ней в пока молчаливой оппозиции, своя местная шляхта.
Ещё до третьего раздела Речи Посполитой, при котором территория Беларуси оказалась под властью Российской Империи, бывший правитель этих земель Станислав Август Понятовский – будущий любовник Императрицы Екатерины II-ой – принял ряд конкретных мер по подъёму крестьянского сословия.
Но это привело к ссоре с литовско-белорусским дворянством, не желавшим идти по капиталистическому пути и терять свои доходы и привилегии.
Позже такая проблема досталась Екатерине II-ой, которая после включения этих земель в состав Российской Империи, сделала ставку на способную к договорам шляхту, нежели на тёмного и непредсказуемого белорусского мужика.
Она одарила шляхту новыми привилегиями, а крестьян – новыми повинностями.
Подымный (подомный) налог она заменила подушным и прибавила рекрутскую повинность.
При ней усилилась и барщина. Естественно крестьяне начали роптать.
Но, подавляемые центральной властью и местными панами, они пока ещё не могли самостоятельно организоваться на отпор им.
Во время войны с Наполеоном её внук – царь Александр I-ый – на себе почувствовал неблагодарность шляхты, часть которой повернула оружие против Российской Империи.
В этот период и крестьяне Полесья надеялись, что с приходом Наполеона будет отменено крепостное право, как было сделано им во Франции.
Но Наполеон побоялся «Le moujik», и получил в своём тылу рост стихийного партизанского движения.
После победы над Наполеоном бывшие крестьяне (солдаты и партизаны) Полесья, как и во всей царской России, надеялись, что после войны – за их заслуги перед Отечеством – царь отменит крепостное право.
Но Александр I-ый ограничился только принятием «Закона о вольных хлебопашцах», лишь временно заморозив ситуацию.
И вот теперь у крестьян Полесья – участников польского восстания – появился шанс борьбу против царского правительства повернуть и на борьбу против своих угнетателей – местных панов.
Ведь положение крестьян Западного Полесья оставалось трудным.
Пока количество крестьян, работавших на государство, было незначительным, местное дворянство стремилось усилить эксплуатацию своих крестьян, дабы выстоять в конкуренции с нарождающимся слоем капиталистов.
Потому в это время на территории Полесья и начались крестьянские волнения. Но крестьяне не очень-то и хотели воевать, в общем-то, за чуждые им национальные интересы своей местной шляхты, которой крестьяне были нужны лишь как пушечное мясо.