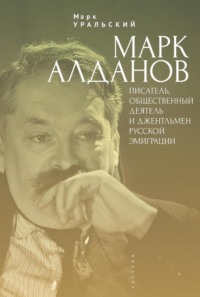Полная версия
Чехов и евреи по дневникам, переписке и воспоминаниям современников
Как безыдейный художник Чехов о себя с интеллигенцией его эпохи полностью не отождествлял и даже порой от нее дистанцировался, особенно в связи с нараставшей в интеллигентском сообществе с конца XIX в. тенденции к размежеванию по партийному признаку. Это явление носило, отметим, сугубо прогрессивный характер, т. к. отражало начало зарождения основной формы западноевропейской демократии на российской почве.
Партийность политическая заявит о себе к концу чеховской эпохи, но им уже было указано, что жертвами всякой партийности становятся человеческая свобода и подлинный талант. Отказ от подчинения личности узкой, бездарной и сухой партийности был его ответом на поразившее интеллигенцию его эпохи деление на «наших» и «не наших». При этом оборотной стороной партийной узости и идейной тирании ему виделись безыдейность и беспринципность. ‹…› Чехов, всегда счита<л>, что политика может интересовать большого писателя лишь постольку, поскольку нужно обороняться от нее. ‹…› <Однако со временем у > Чехова появляется новая формула идентификации: «все мы». Все мы – это интеллигенция, образованное общество, от которого Чехов себя не отделяет. Уже Иванов говорит: «Ведь нас мало, а работы много, много!» – это голос интеллигента чеховского поколения. С этим «все мы» связана не только идея общего долга, но и чеховская этико-социальная идея общности вины и ответственности за совершающееся [КАТАЕВ В.(I)].
Поэтому интеллигент – как характеристика той или иной конкретной личности, очень часто в письмах Чехова звучит в утверждающе положительной коннотации. Вот несколько примеров:
А.П. Чехов – О.Л. Книппер-Чеховой, 17 ноября 1901 г. (Ялта):
А<лексей> М<аксимович> <Горький> не изменился, все такой же порядочный, и интеллигентный, и добрый» [ЧПСП. Т. 10. С. 116].
А.П. Чехов – А. Б. Тараховскому, 28 февраля 1900 г. (Ялта):
Бухштаб[17] не так гнусен, как Вы полагаете; это один из интеллигентнейших людей в Одессе, а если он сам изрыгает хулу, то потому, что был доведен до бешенства господами писателями [ЧПСП. Т. 9. С. 61].
А.П. Чехов – А. С. Суворину, 11 сентября 1890 г. (Татарский пролив, пароход «Байкал»):
Сахалинский генерал Кононович, интеллигентный и порядочный человек [ЧПСП. Т. 4. С. 133].
А.П. Чехов – А.М. Пешкову (Горькому), 3 января 1899 г. (Ялта):
В своих рассказах Вы вполне художник, при том интеллигентный по-настоящему. Вам менее всего присуща именно грубость, Вы умны и чувствуете тонко и изящно.
С другой стороны, в произведениях Чехова можно встретить немало образов русских интеллигентов, написанных с большой долей критической иронии и даже сарказма [РОДИОН]. В этом отношении очень интересен портрет чеховского Иванова – типичного русского интеллигента, который Чехов живописует в письме А. С. Суворину от 30 декабря 1888 г. (Москва):
Иванов дворянин, интеллигентский человек, ничем не замечательный; натура легко возбуждающаяся, горячая, сильно склонная к увлечениям, честная и прямая, как большинство образованных дворян. Что он делал и как вел себя, что занимало и увлекало его, видно из следующих слов его ‹…›: «Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках……. не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены… Да хранит вас бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей…» Вот что у него в прошлом. ‹…› Прошлое у него прекрасное, как у большинства русских интеллигентных людей. Нет или почти нет того русского барина или университетского человека, который не хвастался бы своим прошлым. Настоящее всегда хуже прошлого. Почему? Потому что русская возбудимость имеет одно специфическое свойство: ее быстро сменяет утомляемость. Человек сгоряча, едва спрыгнув со школьной скамьи, берет ношу не по силам, берется сразу и за школы, и за мужика, и за рациональное хозяйство, и за «Вестник Европы»[18], говорит речи, пишет министру, воюет со злом, рукоплещет добру, любит не просто и не как-нибудь, а непременно или синих чулков, или психопаток, или жидовок, или даже проституток, которых спасает, и проч. и проч… Но едва дожил он до 30–35 лет, как начинает уж чувствовать утомление и скуку. ‹…› Иванов утомлен, не понимает себя, но жизни нет до этого никакого дела. Она предъявляет к нему свои законные требования, и он, хочешь не хочешь, должен решать вопросы [ЧПСП. Т. 3. С. 108].
Помимо морально-этических недостаткам героя пьесы «Иванов» – нервность, неустойчивость вкусов и предпочтений, максимализм желаний и скорая утомляемость, апатия, пассивность, неспособность достойно отвечать на запросы жизни [РОДИОН], у Чехова, в его эпистолярии, можно сыскать целый ряд резко негативных характеристик интеллигенции:
А.П. Чехов – А. С. Суворину, 27 декабря 1889 г. (Москва):
Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая не патриотична, уныла, бесцветна, которая пьянеет от одной рюмки и посещает пятидесятикопеечный бордель, которая брюзжит и охотно отрицает всё, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать; которая не женится и отказывается воспитывать детей и т. д. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях – и всё это в силу того, что жизнь не имеет смысла, что у женщин бели и что деньги – зло. Где вырождение и апатия, там половое извращение, холодный разврат, выкидыши, ранняя старость, брюзжащая молодость, там падение искусств, равнодушие к науке, там несправедливость во всей своей форме [ЧПСП. Т. 3. С. 308–309].
А.П. Чехов – И.И. Орлову, 22 февраля 1899 г. (Ялта):
Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям – интеллигенты они или мужики, – в них сила, хотя их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личности, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют, но работа их видна; что бы там ни было, наука все подвигается вперед и вперед, общественное самосознание нарастает, нравственные вопросы начинают приобретать беспокойный характер и т. д., и т. д. – и всё это делается помимо прокуроров, инженеров, гувернеров, помимо интеллигенции en masse <фр. – в большинстве своем> и несмотря ни на что [ЧПСП. Т. 8. С. 99–101].
Однако столь суровый приговор никак не отчуждает лично Антона Чехова, который не зря считается критическим реалистом, от «ордена русской интеллигенции». Более того, когда речь идет о конкретных примерах деятельности интеллигенции на благо общества Чехов с ней безоговорочно самоидентифицируется, что явствует, например, из его письма А.С. Суворину от 16 августа 1892 г. (Мелихово):
Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь ‹…›. В Нижнем врачи и вообще культурные люди делали чудеса. Я ужасался от восторга, читая про холеру. В доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах, какие совершаются теперь на наших глазах. Жаль, что Вы не врач и не можете разделить со мной удовольствия, т. е. достаточно прочувствовать и сознать и оценить всё, что делается [ЧПСП. Т. 5. С. 103–104].
Мыслитель, христианский персоналист Сергей Булгаков, младший современник Чехова, в публичной лекции «Чехов как мыслитель» (1904), вопреки мнению прижизненной критики, утверждал что Чехов, после Достоевского и Толстого, является писателем наибольшего философского значения. ‹…› В произведениях Чехова ярко отразилось ‹…› русское искание веры, тоска по высшем смысле жизни, мятущееся беспокойство русской души и ее больная совесть [СОБЕННИКОВ. С. 88].
Стремясь к духовной независимости, критически-непредубежденному взгляду на окружающую действительность, и в этом контексте декларируя свою «безыдейность», Чехов все время ускользает от попыток историков литературы вставить его в некий ряд, однозначно классифицировать и понять:
Высокая оценка Чехова как писателя сложилась достаточно прочно, – но нельзя сказать, что Чехов понят как целостное явление, еще шире – как феномен русской культурной жизни и как пример русской судьбы. Между тем в этом отношении он значим не менее, чем Пушкин или Толстой. Значительность, масштабность фигуры Чехова как-то не входят в сознание даже самых горячих его поклонников, Чехова как-то трудно назвать «гением». Его канонический образ – скромного, не лезущего на передний план человека – совершенно заслонил подлинное лицо Чехова. Но значительный художник не может быть «простым человеком» – «тихим» и «скромным»: новое содержание, им в жизнь вносимое, всегда – скажем так – революционно. Чехов – революционное явление, и не только как писатель (это не оспаривается), но и как новый тип русского человека, очередная ступень в движении русской жизни. [ПАРАМ. С. 258].
Что касается «отталкивания» от интеллигенции, этот синдром у Чехова, можно полагать, был еще и следствием родовой социальной травмы. В интеллигенты Антон Чехов попал не по рождению. Его домашнее окружение в детско-юношеские годы составляли люди сугубо меркантильного склада, далекие от проблем духовного порядка – представители небогатого купечества да мещане[19]. Как подтверждение этого, приведем строчки из письма самого А.П. Чехова от 29 августа 1888 года, адресованного А.С. Суворину:
Я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился и начал писать в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль.
В «эпоху великих реформ», на которую приходится первая половина жизни Чехова, евреи, один из самых крупных неславянских народов российской империи, массово вышли на русскую культурно-общественную сцену. Это уникальное – в культурном и общественно-политическом плане, явление, естественно, вызвало неоднозначную, в целом выражено враждебную реакцию в широких слоях русского народа. В возникшем «еврейском вопросе» российская интеллектуальная элита разделилась на два полярных лагеря – либеральный, в котором еврейское присутствие в русском обществе воспринималось вполне благожелательно, и консервативно-охранительское, видевшее в нем смертельную опасность для национальной самобытности русского народа. Ожесточенная полемика по «еврейскому вопросу», начавшаяся в 1860-х годах, в которую, так или иначе, были вовлечены все известные русские писатели, продолжалась вплоть до гибели имперского правления и установления Советской власти в России.
Антон Чехов воспитывался вне интеллигентного окружения, хотя и в достаточно культурной семье. Среди его разноплеменных знакомых встречались и евреи, представители городской и местечковой бедноты. В гимназии круг его общения кардинально изменился. Теперь в нем преобладали представители местной интеллигенции – учителя, священники, врачи. Выходцами из их среды являлись в большинстве своем и его сокласники, среди которых преобладали аккультурированные евреи, выходцы из обеспеченных таганрогских семей. Можно полагать, что неожиданное столкновение чужеродной ментальностью оказало огромное влияние на становление личности Чехова, его мировоззрение. К сожалению, тема «свой/чужой» в отечественном чеховедении как правило игнорируется, хотя без ее всестороннего раскрытия невозможно «вернуть Чехова в контекст его эпохи».
Два обстоятельства при этом выступают как ключевые:
во-первых, Чехов – первый из русских классиков, кто сызмальства общался и водил дружбу с евреями (второй и последний – его младший современник Максим Горький);
во-вторых, одной из чеховских бытописательских новаций является введение в русскую литературу реального образа российского еврея – главным образом, местечкового, из черты оседлости[20]. До Чехова еврей, если и появлялся на русской литературной сцене, то не в своем ярком жизненном многообразии, а как типаж, причем по большей части в карикатурно-уничижительном обличье.
О том, что еврейская нота в произведениях Чехова была культурологической новацией, свидетельствует рецепция ее современниками. Многими литературными критиками, в основном из выходцами из еврейской среды, она была воспринята в целом скептически и неодобрительно. В его адрес прозвучали обвинения «в том, что он наряду с другими классиками русской литературы, создал отрицательные или карикатурные образы евреев в своих произведениях»[MONDRY(I). Р. 42.]. В первую очередь здесь следует назвать критические статьи таких авторитетных в те годы публицистов, как Семена Фруг – «В корчме и будуаре» (1889 г.) и Владимир Жаботинский – «Русская ласка» (1909 г.).
6 февраля 1900 года Чехов писал литератору-одесситу М.Б. Полиновскому, попросившему дать отзыв о его книге «Еврейские типы» (Одесса, 1900 г.):
И зачем писать об евреях так, что это выходит «из еврейского быта», а не просто «из жизни»?»
И приводил в пример рассказ Наумова «В глухом местечке»:
Там тоже об евреях, но вы чувствуете, что это не «из еврейского быта», а из жизни вообще[ЧПССиП. Т. 9. С. 545].
Здесь явно сталкиваются два полярных ракурса видения:
для Чехова, как «очень русского человека» существует множество тем «из жизни вообще», по умолчанию – русской жизни, и среди них, в частности, есть и «об евреях»;
для русско-еврейского писателя Полиновского «из еврейского быта» вытекает вся тема «из жизни вообще».
Свести к некоему «контрапункту» эти два типа мировидения не представляется возможным, ибо они по сути своей антагонистичны. Чехову, по большому счету, «еврейская жизнь» была не интересна, тогда как русско-еврейские писатели именно такого рода интерес старались пробудить у русского читателя. По ходу еврейской эмансипации и ассимиляции они стремились изменить сложившееся в русском сознании стереотипное представление о евреях – «переписать еврея» [САФРАН], сделать его присутствие в литературе составной частью многогранной русской жизни.
На этом направлении были достигнуты серьезные успехи. Одессит Семен Юшкевич, погодок Чехова, и также как и он по образованию врач[21], стал весьма востребованным у российского читателя писателем.
Интересным и неоспоримым фактом является прямое влияние Чехова на «на молодую ивритскую прозу начала века» и современную ему идишевскую литературу [ГУР-ЛИЩ. С. 276]. В последнем случае это касается таких писателей, как Ицхак-Лейбуш Перец и особенно Шолом-Алейхема. Знаменитый израильский писатель Амос Оз рассказывал, что типичную чеховскую атмосферу он наблюдал в годы своего детства, прошедшем в очень провинциальном тогда Иерусалиме:
Атмосфера в Иерусалиме в годы Второй мировой войны была революционно-насыщенной, «было ощущение, что в будущем все будет иначе, чем в прошлом… Но позже я понял, что это была чеховская ситуация (слова соседей были зажигательными, а сами они оказывались маленькими людьми – лавочниками, сапожниками ‹…›, они выглядели, как Толстой и его герои, а на самом деле были похожи на героев Чехова). Чехов описал окружающих меня людей, у них были идеи, но не было способности реализовать их. Они были непрактичны ‹…›. Их беспокоили страдания в Африке и в Китае, но в их жизни дома проявлялась жестокость в отношениях с близкими… Герой Чехова – это добрый человек, который ничего доброго сделать не может, который на каждом шагу падает – но потому, что его глаза устремлены к звездам… ‹…› Уже смолоду я чувствовал в творчестве Чехова сосуществование знакомого (по жизни) с чужим. Я бы не писал так, как пишу, если бы не влияние на меня Чехова, его чтения, даже бессознательное, – в годы моего формирования. ‹…› Я вижу в Чехове ‹…› моего учителя в художественной стратегии: только рисовать действительность, но не убеждать читателя впрямую, как в идеологической брошюре. У меня резкая граница между публицистикой и художественным творчеством (другие русские писатели, в отличие от Чехова, оставались отчасти публицистами и в художественных текстах). Действие в моих рассказах всегда происходит дома, в разных комнатах дома. Но даже если вне дома, то действие камерное. Это тоже влияние Чехова. Повседневное значит у него нечто большее, чем оно означает само по себе. ‹…› Я был бы очень счастлив, если меня бы назвали хоть последним (т. е. самым недостойным) из учеников Чехова в ивритской литературе. Вся эта комбинация свойств близка моему сердцу» [ГУР-ЛИЩ. С. 279–280].
Чеховские новации в раскрытии еврейской тематики получили, хотя и с оговорками, признания и у первых советских литературных критиков – Б. Горева [ГОРЕВ], Д. Заславского [ЗАСЛ Д.]. Последний, например, писал:
Только Чехов сохранил свободу творчества и открыто рисовал евреев такими, каких видел. В ранних своих рассказах он подмечал преимущественно смешные черты. Выше мы говорили об этом. Впоследствии он с интересом присматривался к евреям. В очерках его нет ни предвзятой неприязни к евреям, ни сантиментальной или щепетильной предупредительности. Чехов в отношении своем к евреям прост и свободен. Картина жизни еврейской семьи на проезжей дороге в степи безыскусственна и правдива, зарисована с той же художественной объективностью и меткостью, как и степь, и обоз, и степные помещики. Моисей Моисеич в «Степи» есть подлинный еврей-торговец, комиссионер, каких много на юге России; его беседа с проезжающими, со священником художественно точна и убедительна. В рассказе есть знание еврейского быта, такого, каким он должен был представляться внимательному наблюдателю со стороны. Это не экзотический быт, а свой, еврейский быт, вошедший в русскую жизнь. Еврей Чехова это живой человек – не просто «шпион», «эксплоататор» и не образец добродетели по либеральным прописям. Чехова в особенности интересовала та часть еврейской интеллигенции, которая пришла в самое близкое соприкосновение с русским обществом и с русской культурой, которая даже отреклась формально от еврейства и все же осталась еврейской. Этот тип русифицированного еврея очень часто встречается у Чехова. Еврейская критика резко отзывалась о рассказе «Тина». Критиков шокировала анекдотическая фабула рассказа. Но Сусанна Моисеевна, представительница фирмы «наследников Ротштейн», одевающаяся по последней парижской моде и все же вульгарная, кокетничающая своим антисемитизмом, развязная до цинизма и жадная к деньгам, – она так же художественно верна, как любой из чеховских героев. Характерные черты еврейской интеллигенции определенного пошиба схвачены и переданы с удивительной проницательностью. «Кажется, я мало похожа на еврейку», – говорит о себе Сусанна Моисеевна, и в ней действительно мало внешних еврейских черт. «Я очень часто бываю в церкви! У всех один Б-г…» И все же она еврейка, подлинная еврейка из современной разбогатевшей еврейской семьи. Нелепо ставить в вину Чехову неприятное впечатление, какое производит эта типичная для своей среды еврейка. Но вот другая еврейка – тоже из богатой еврейской семьи. Она отказалась от семьи, от веры, от богатства. Ее звали Cappa Абрамсон, теперь она Анна Петровна, жена русского помещика Иванова. Муж говорит о ней: «Анюта замечательная, необыкновенная женщина… Ради меня она переменила веру, бросила отца и мать, ушла от богатства и, если бы я потребовал еще сотню жертв, она принесла бы их, не моргнув глазом». Казалось бы, ничего еврейского не осталось в этой еврейке, – и все же она еврейка, и это чувствует Иванов, чувствует сама Сарра, и это знает, в этом убежден Чехов. Есть нечто, что отделяет еврея от нееврея, хотя и нельзя точно определить, что это такое.
Точка зрения Давида Заславского для нас особенно интересна, т. к. к моменту написания этой своей работы он только-только перебежал из сугубо еврейского лагеря в интернациональный, точнее – к русским большевикам. Статья Д. Заславского в СССР не переиздавалась и не цитировалась, т. к. со второй половины 1930-х гг. проблематика еврейской идентичности в русском мире была признана большевиками идеологически вредной и исключена из поля научных исследований в различных областях гуманитарного знания, включая тему «Русские писатели и евреи» в истории русской литературы. Не возник к этой теме специальный интерес и в новейшем российском культурологическом и литературоведческом дискурсе. Что касается западных историков литературы, то они постоянно разрабатывают проблематику русско-еврейских культурных связей. В частности значительное внимание уделяется теме «Чехов и евреи», которая находится в эпицентре чеховедческого дискурса, вызывая «ожесточенные споры исследователей, критиков, публицистов» [ГУР-ЛИЩ. С. 263]. Можно полагать, что эту ситуацию провоцирует сам Чехов, в силу своей уклончивости, неопределенности и неподатливости для схематизирования. Елена Толстая говорит в одном интервью:
Читанного перечитанного» Чехова я попробовала прочесть параллельно с первым полным изданием его писем. Получилось нечто совершенно неожиданное, даже для меня. Мы просто не умеем его читать. Он для нас закрыт мутной пленкой, ее надо снять, как переводную картинку [ОСИПОВ].
В дискурсе на тему «Чехов и евреи» преобладают две полярные позиции – «обвинительная» и «оправдательная». Одни дискурсанты, упрекают Чехова в если не в юдофобии, то уж точно «в последовательном раздражении против “сынов и дочерей израильских”» [ЗАГИД], другие, – в частности, Дональд Рейфилд, доказывают, что он был чуть ли не филосемитом. Иногда, впрочем, встречается и «нейтральный» подход: в нем задается «правильная постановка вопроса», проводится его всестороннее рассмотрение, но не выносится никакого вердикта. Так, например, поступал уважаемый и ценимый современниками Юлий Айхенвальд, когда касался, в частности, темы «Чехов и евреи»:
Евреи его, несомненно, цепляли за душу. Вот, например: про свою будущую жену – «моя немочка», он говорит, глядя на ее фотографию, «немножко похожа на евреечку, очень музыкальную особу, которая ходит в консерваторию и в то же время изучает на всякий случай тайно зубоврачебное искусство и имеет жениха в Могилеве». Это говорится шутливо, но с умыслом. Почему «евреечка», а не армяночка, гречаночка и т. п.? В этой ассоциации для него есть нечто особенное, указующие, на присущее, как он считал, только еврейкой женщине совокупность качеств: духовность, одаренность, практичность и, главное, предусмотрительность в жизнеустройстве [АЙХЕН].
Вот собственно и все, что считает нужным сказать касательно Чехова и евреев его современник. Прошло добрых сто лет, но:
Еврейская тема у Чехова до сих пор не стала академической. Изощренный анализ таких тонких материй, как библейские мотивы и мифы в прозе, выявляет дополнительные смысловые оттенки, расширяет пространство чеховского творчества, но, не гасит споры о том, куда записать Чехова, в лагерь фило- или антисемитов [PORTNOVA. С. 202].
При всем том, однако, за все это время накопилось много новых, достаточно оригинальных и интересных в научном плане высказываний и оценок на сей счет. Только за последние пятнадцать лет помимо книги Д. Рейфилда тема «Чехов и евреи» затрагивалась в целом ряде исследований о еврейских персонажах и образах в дореволюционной русской литературе [САФРАН], [ТОЛСТАЯ Е.], [KARLINSKY], [LIVAK], [MONDRY], [TOOKE], [GREGORY], [PORTNOVA], [СЕНДЕРОВИЧ (I) и (II)], [СЫРКИН]. Все они в той или иной степени учтены и в настоящей книге, построенной, как и предыдущие наши книги, касающиеся проблематики русско-еврейских культурных связей [УРАЛ (I), (II)], по принципу документального монтажа, жанра в котором говорят только дневники, переписка и воспоминания современников, а позиция автора проявляется в отборе документов, их включении в мегатекст и комментариях. В последнем случае основной акцент ставится нами на русскости – важнейшем качестве личности писателя, в значительной степени определявшем его образ мыслей и чувствований. Представляется, что Чехов, живя сызмальства бок о бок с евреями, очень остро воспринимал специфику русско-еврейских бытовых отношений. В его случае имеет место остро стоящий вопрос о сохранении своего национального «я» при контакте с активно ассимилирующейся, но не теряющей своего культурно-исторического миросозерцания инородной средой, которую можно определить как «острая национально-культурная полемика».
В фокусе чеховского раздражения – всегда носители крайних идейных, эстетических, этических позиций, порицаемые с позиций незримой «нормы» – на деле близкой к культурному шовинизму. Сперва осуждается за отклонение от этой нормы тогдашние культурная «левая» <где тон часто задавали русско-еврейские литераторы – М.У.>, но вскоре раздражение переносится на «антилевую», новоидеалистическую ориентацию <среди духовных вождей которой особо выделялся А. Волынский (Флекснер) и Н. Минский – М.У.> [ТОЛСТАЯ Е. (II). С. 337].
Как отмечалось выше «еврейский вопрос» приобрел в чеховскую эпоху большую остроту. Он оживленно и, естественно, по-разному акцентировался консервативной (газеты «Новое время», «Московские ведомости», «Гражданин») и либеральной (газеты «Русское слово», «Биржевые ведомости», «Русские ведомости», журналы «Русское богатство», «Северный вестник», «Мир Божий», «Вестник Европы») российской прессой. Лично сам Чехов принципиально дистанцировался от политики и всякого рода «идейности», но очень чутко реагировал на все веяния своего времени.