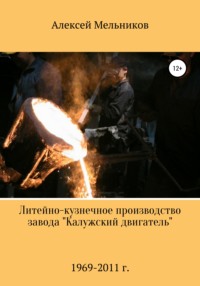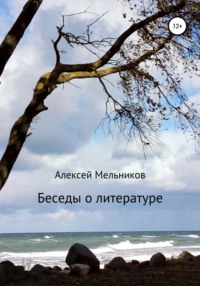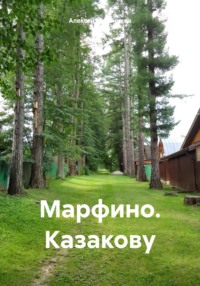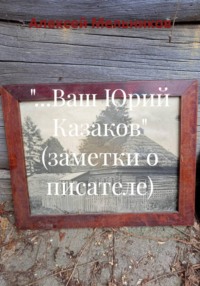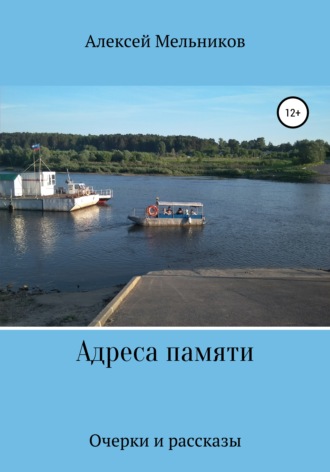 полная версия
полная версияАдреса памяти
Отличие настоящих поэтов от прочих – невластвование над своими лозунгами. Подчас сильный поэт вздорит со своей узкопартийно-поэтической программой, со своим эстетическим кредо и… остается поэтом. Без лозунгов. Как это, видимо, и произошло с Сельвинским. И до, и после своего конструктивизма он то и дело выстреливал потрясающими по силе поэтическими шедеврами. Скажем, в каюте плутающего по Северному Ледовитому океану ледокола «Челюскин» Илья Львович не находит ничего более важного, как признаться в щемящей любви отброшенной на тысячи верст от него родной матери:
… И мать уходит. Держась за карниз,
Бережно ставя ноги друг к дружке,
Шажок за шажком ковыляет вниз,
Вся деревянненькая, как игрушка,
Кутая сахар в заштопанный плед,
Вся истекая убогою ранкой,
Прокуренный чадом кухонных лет,
Старый, изуродованный ангел.
И мать уходит. И мгла клубится.
От верхней лампочки в доме темно.
Как черная совесть отцеубийцы,
Гигантская тень восстала за мной.
А мать уходит. Горбатым жуком
В страшную пропасть этажной громады,
Как в прах. Как в гроб. Шажок за шажком.
Моя дорогая, заплакана маты1.
Ему периодически устраивали выволочки. Считали непонятным и заблудившимся в литературных дебрях. Ругали на уровне ЦК и даже Сталина. Но не убили. За что – спасибо. Критиковали до войны и после. И даже – во время, когда комиссар Сельвинский сражался, освобождая родной Крым от фашистов. Когда был тяжело ранен. Когда этот прошедший огонь и воду мужественный человек был потрясен, раздавлен увиденным близ Керчи массовым захоронением расстрелянных гитлеровцами семи тысяч мирных жителей. «Я это видел!» – исторгнет поэтический стон из своей души Сельвинский. И тоже будет осажен сверху: не так! После войны – вновь розги. За компанию с Ахматовой и Зощенко. Хотя издавался и преподавал – тут власть «не мелочилась». Понимали: Сельвинский – это имя.
Для меня рублишко не задача,
Скажем откровенно: не бобыль.
У меня литфондовская дача,
Телевизор и автомобиль.
Захочу – могу в кабину сесть
И проехаться Москва – Мацеста.
Все на свете, дорогие, есть!
Только нет на мне живого места.
При возможности сесть и поехать куда угодно Сельвинский предпочитал только один маршрут: на родину, в Крым, в детство и юность. Может, в знойный Симферополь. Или – в купающуюся в теплых морских ветрах Евпаторию. К любимому Черному морю. Морю, которое служило горизонтом будущему поэту все ранние годы, которое он любил, которому посвятил нежнейшие поздние гимны в прозе. Ему, а также всему, что бушевало рядом с нарождающейся новой поэзией жизни.
Солнечная
Вагон был старый, двери на амбарном замке. В ожидании долго топтались на жаре и бегали набирать воду. Брошенные с мехцеха шланги с водой быстро захлебнулись – вагонная преисподняя обнаружила серьезную течь. Короче, тронулись без сортира. Зато – с открытой платформой по ходу. На нее выходили подышать: тепловозной гарью и набегающим ветерком.
Погнали на Солнечную. В ночь. Укладывать плети. Днем нельзя – электрички. Рядом на полке храпит Антоха. Духота, а ему нипочем – молодец. Нет, все-таки проняло – очнулся…
Лысоватый, небольшой. Уши слегка оттопыренные, смешные. В первый день бригадир подвел его ко мне: «Лех, покажи Антохе, что делать». А что на щеббазе можно делать? Только вагоны штыковой лопатой зачищать. Залазишь внутрь – и шуруешь. Все 70 тонн…
Местный, со «Спички», но в Калиниградской мореходке несколько лет учился. На этой почве мы с ним и подружились. Я тоже оттуда – из Кенига, как небрежно величает местожительство своей бывшей супруги, тещи и собаки Антоха. Правда, я в отличие от него воспоминания имею более радужные.
Ну, детский сад помню, море. Бомбоубежища какие-то с выходом прямо перед песочницей, где мы играли. Все лазы решетками забранные – от детей. Говорят, немцы в них воды Преголи перед отступлением напустили. И Янтарную комнату заодно туда засунули. Поезд еще такой помню до Москвы ходил – «Янтарь». «Да он и сейчас есть», – возвратил во времена далекого детства Антон.
Пол Атлантики, как утверждает, прошел. Ну и Средиземноморье – тоже. В Париже был, Марселе, Голландии, Испании, на Канарах, на Фарерах… «Да ты не думай, везде одно и то же, – сладко потягиваясь на продавленном путейском матрасе, успокаивает он, – футбол и бабы».
Из рассказов преобладают про то, как пили: в аэропорту Орли – на бровях, в Марселе, Барселоне, Польше, где уже точно не помнит, ну и, конечно, на корабле. Особенно – в конце рейса. Ритуал – почти месса: вынь да положь…
Вагон, пошатываясь на стрелках, гремит все дальше. За окнами – Малый, где в двенадцатом Кутузов наподдал Наполеону, в сорок первом Жуков – Гудериану, а в девяностых Газпром отстроил Маклино. После уже в Малоярославце начались сражения за какие-то помойки.
Наших, путейских, в вагоне человек двадцать. Еще пятеро студентов с местного технаря. «Необстрелянных». Один с дочкой в одном классе учился. Санек Шабанин. Узнал. Надо же, как время бежит? Они уже, вон – подпирают.
На Солнечной уже какой месяц аврал: к Дню железнодорожника сдают новую ветку – в Новопеределкино. Чтобы автобусы и метро разгрузить – так нам объяснили. И новые плети перед самой платформой положить – чтоб колеса электричек мягче катались. Днем никак невозможно – движение. А ночью – в самый раз.
Приткнулись где-то на задних путях. Коротаем время. До сумерек его целый вагон. Хотя уже не такой душный, как наш раздрыга – рабочий: слегка повеяло да и за «Балтикой» сбегали. Потом – за квасом.
Скачем в своих «желтухах» точно рассыпанные по путям апельсины – обходить далеко, составы длинные. Тетя Лена тоже силится перелезть – подставляли доски. Ей – за пятьдесят. С гаком. В путейцах, надо полагать, со школы. Строгая, сильная: лопаты, ключи, кувалды – а ты думал? За соленым словом в карман тоже не заглядывает. Дело-то путейское – мужицкое. Да вот только бабскими слезьми и потом будь здоров как политое.
«Отмерит он нам, бабам, по 20 шпал – и шуруй лопатой, отделывай, – предавалась путейским воспоминаниям тетя Лена. – Сунет ботинок под рельсу. Не пролазит, щебень – подзывает: «А ну, мать твою раз эдак, иди, отделывай заново!» Что ты, начальник, а куда денешься: ненавидели, но уважали…
К одиннадцати вышли на исходную. Света – чуть. Темноту распугивали какими-то специальными надутыми светлым воздухом столбами. Под носом видно, дальше – ни хрена. Над головой самолеты рыкают, моргают – от Внукова в глухую ночь подпрыгивают. Со спины «хозяйка» вагонами товарными грохочет – пересортировывает. Свет в окнах многоэтажек потихоньку гаснет. Солнечная задремывает…
Развинчиваем себе сопя. Ключами лязгаем. Молчим. Антоха пот со лба рукавицей сбрасывает. Поклоны в рельсу бьет – каждой по четырежды: по количеству оборотов путейского ключа. «Ну, вооще – вилы!» – разгибается, наконец, на перекур. Это у него присказка всегда такая – про «вилы». Когда не доволен чем-то. Если про вахты ночные в Антлантике начинает рассказывать, так сплошняком: «вилы» да «вилы».
«Брикет 50-килограммовый когда с рыбой в морозилку на пупе тягаешь, то тут вообще мама не горюй, – вроде как пытается подбодрить самого себя сравнением явно в пользу нынешних путейских мытарств Антоха. – Во были вилы! Шторм. Болтанка. А ты с этими брикетами в холодильник, где минус 70, ныряешь. Бр-р-р…»
Пошли два модерона – старые рельсы сдергивать. Кури пока. Положат на их место плеть – потей по новой: наклон – уголок, второй – скоба, третий – регулятор, четвертый, пятый, шестой – уже с ключом кланяешься. И так на каждой шпале. Их в этот раз не так уж много – около тысячи. К полшестого утра должны успеть. Позже нельзя – электричкам надо.
Сашок мой, вижу, подзастрял – ключ неудачный выбрал. Или просто спину вконец израсходовал и кланяться уже нечем. Пошли вместе. Старается. Вижу и кореша его с технаря – тоже в мыле. Но не сдаются – так и висят на хвосте у стариков, долю путейскую постигают. Молодцы. Хотя неважная она вообще-то, эта доля. Чего ж ее постигать – эту на горбе мозоль…
«Учиться тебе дальше надо, – хлопаю по плечу притомившегося сынка. – Тут спину с кайлом обломать всегда успеешь». «Думаю. Может, в Москву, в МИИТ», – обреченно глядя на непройденные метры, соглашается парень. «Ну, думай, думай…»
Последние шпалы крутили, считай, под колесами тепловоза: он подпирал нас, а его – время. Первые электрички – на носу: просыпалась Солнечная. В вагон запрыгивали на ходу. В шесть тронулись обратно. Кланялись каждому столбу. Копили духоту в вагоне и пустые бутылки под полками. Антоха, как всегда, храпел. Я завидовал: воздуха нет, а он дышит. Да еще присвистывает мелодично так – молодец!..
Полторы сотни верст обратно шли часов восемь с лишком. Потому что рабочий – пропускали всех. Даже стоящих…
Конспект студента МИСиС
КАМЕННЫЙ САМОЛЕТ
В тенистых переулках близ сердито дремлющих стен Донского монастыря, в соседстве с некогда кующим стальную мощь заводом имени товарища Серго Орджоникидзе, носом на запад, хвостом на восток грузно распластался на целый московский квартал сотворенный некогда умелыми сталинскими левшами царь-самолет. Самый большой в мире. На манер выплавленной для страху при Федоре Иоанновиче венценоснейшей царь-пушки. Только еще больше – пешком не обойдешь. Как и нестреляющая царь-пушка, царь-самолет никуда в этой жизни не полетел. Хотя и собирался. Например – в коммунизм. Но поскольку построен был из камня, в небе ни разу не побывал, хотя многих своих пассажиров поднимал на приличные высоты.
– Ну, что, Грегуль, видишь Кремль?
– Пока нет.
– А на подоконник?
– Чуток просматриваю.
– А со стулом?
– О, уже лучше – класс! Рубиновые звезды как на ладони!
Начало 80-х. Мы живем на самом кончике правого крыла некоего архитектурного чудища, всем своим видом напоминающего гигантский самолет – с крыльями, фюзеляжем, хвостовым опереньем, иллюминаторами (окнами) – и в пропуске на вход в эту каменную царь-птицу у нас значится: «Общежитие «Дом-Коммуна», к. 602».
Мы – студенты Института стали и сплавов. Высматриваем со своего 6-го этажа Кремлевские шпили. Грегуль – мой друг. А «Дом-Коммуна» – наше убежище. Домом назвать этот архитектурный птиродактиль 30-х, конечно, сложно, хотя встарь предлагалось использовать еще более радикальное наименование места, куда нас занесла суровая судьба советского студента, – «машина для жилья».
Это был настоящий механизм. Самолет, пусть каменный, пусть неспособный взмыть в облака, но все равно – робот. Сконструировали его в горячие годы сталинских пятилеток еще более горячие инженерные головы именно для того, чтобы в нем содержать других роботов, то есть первых советских студентов, прямиком направляющихся из «Дома-Коммуны» строить настоящий коммунизм. Числом около двух тысяч, упаковывающихся на ночь в двухместные 4-метровые каюты по всей длине гигантских крыльев каменной царь-птицы. Если бы ей, этой царь-птице, в самом деле удалось когда-нибудь взлететь, то чудо партийной орнитологии точно затенило бы своим бетонным опереньем всю Шаболовку, половину Ленинского проспекта, Парк имени Горького с Академией наук в придачу.
Но «Дом-Коммуна» не летал. А лежал пластом под крепкими стенами Донской обители. Летали мы: по ступенькам, по этажам, по коридорам. Двести метров из конца в конец. Это – «размах крыльев» нашего каменного аэроплана. От первой комнаты на этаже – до последней. В «фюзеляже» – кухня и очередь в комнату по нужде. Если живешь на краю, как мы, то ежедневные стометровки в один конец: либо с полотенцем и зубной пастой, либо со сковородой и яичницей на ней, конечно, на занятия, с занятий. Рассмотреть из одного конца «крыла», что делается на другом, можно было разве что в телескоп.
Но ощущение неба все-таки в нашем царь-самолете присутствовало. Скажем, радость парения над землей. Причем в условиях почти президентских – когда ты паришь, не скрючившись в кресле, а лежа в кровати, да еще спишь. Архитектор общежития-самолета сталинский зодчий Иван Николаев предусмотрел в нашей оконечной комнате массивный балкон. Предусмотрел, но не сказал, не оставил никаких инструкций – для чего же он этот балкон придумал. Выхода на него из комнаты не было. И ниоткуда не было. Разве что с улицы. Но это был шестой этаж. Поэтому мы вылезали на него через окно. И даже выносили на шикарный балкон продавленные панцирные кровати. И спали, паря во сне и наяву над нашей красавицей-столицей.
Каменный самолет архитектор Николаев сдал в начале 30-х. Конечно, без лифта. Зато – с пандусами, которые вполне могли претендовать, как и вся «машина для жилья», на номинацию в книге рекордов Гиннесса. По ним, по этим пандусам, можно было не только зайти, забежать, заползти, но и заехать в любую из 400 комнат нашей общаги. Правда, заезжать было особо не на чем, но если бы было, то мотоцикл с коляской вполне бы по этим пандусам прокатился. Вплоть до седьмого этажа – финального.
Наше неуклюжее мегаобиталище относилось, между прочим, к «памятникам конструктивизма». Мы об этом узнали позже. И зареклись на будущее жить в каких-либо других достопримечательностях: конструктивизма, авиамоделизма – без разницы. В первые пятилетки таких в стране наваяли немало. Где – по делу, а где, как в нашем случае, – без. Хотя с большими предисловиями к отсутствию таковых. Например, такими, что составил в качестве «инструкций по пользованию «Домом-Коммуной» сам главный его авиаконструктор Иван Николаев. Точнее, что в его уста вложили время и ЦК ВКПб. В них фигурируют: не дом, а «машина для жилья»; не жилая комната, а «ночная кабина»; не покушать, а «принять завтрак».
Личной жизни – ноль (дети коммунщиков, если есть, изолируются в детские сады), личного пространства – ноль (2,5 кв. м – и то лишь на ночь), личных интересов – ноль (поскольку все 24 часа в сутки твои интересы подчинены общественным). В таком максимально обнуленном и невесомом состоянии человек и впрямь, по замыслу авторов коммун-проектов, мог взмыть в небо даже на аэроплане, собранном из кирпичей. И долететь на нем до светлого будущего.
Нам с Грегулем это не удалось. И никому, по-моему, из наших соседей по «Дому-Коммуне» – тоже. Мы дошли до этого будущего своим ходом. Хотя нет-нет да иной раз и захочется сесть на 26-й трамвай, выйти на остановке «Улица Орджоникидзе» и украдкой проверить: не улетела ли куда наша «Коммуна»? Жалко, если исчезнет…
ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
В полседьмого утра эскалатор на «Октябрьской» ползет вверх всегда медленней, чем надо. Я занимаю левый ряд и обгоняю волочащиеся под левой рукой резиновые перила. Справа уходят ко дну досыпающие, точно лошади, стоя, первые пассажиры. Мне нужно оказаться наверху раньше их. Выйти из метро. Обежать главный корпус. Тот, что высится на бетонных «ходулях» и «распечатывает» Ленинский проспект. Заскочить во двор старого – сталинского еще покроя. Схватить в кладовке лопату и метлу. И ринуться с ними наперевес – грести снег под Октябрьской площадью.
От моего участка берет начало проспект имени вождя революции. Сам вождь по другую сторону Калужской заставы, окаменев, очевидно, от привнесенных с собою потрясений, в окружении столь же неподвижных революционных масс, куда-то назидательно вещает. Не думаю, что в мой адрес: мол, землю – крестьянам, лопаты – студентам! Но на всякий случай убыстряю темп и точно в слаломе лихо маневрирую снежным скребком между ног спешащих на работу москвичей.
«Надо бы пораньше встать, – как всегда, ругаюсь на себя, буксуя в сугробах, – прохожих было бы меньше и убираться было бы сподручней. А так – мельтешня одна получается». Спина с утра уже мокрая, а еще четыре пары сидеть. Но впереди меня ждет награда – тучный, сытный ореховый рулет по 24 копейки за штуку с сахарной посыпкой и горячее какао с молоком. Я его терпеть не могу, но почему-то всегда заказываю в кафешке напротив. Она с восьми утра уже открыта – это ее главный плюс. А еще – дешевая: все сербают и жуют здесь стоя, как в пабе. Хватанул – и на лекции.
Они начинаются здесь, в главном корпусе, в том, что «на ходулях», в полдевятого. Хорошо, если не на шестом этаже. А если на самый верх – опять затыка: лифт берет на вес десять человек, поэтому одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым и т.д. приходится висеть в кабине в распор, упираясь спиной в одну стенку кабины, а ботинками в другую. Но это, если в лифте не поднимаются наверх преподаватели. Не будешь же в одной кабине с самим профессором Белащенко корячиться как идиот и висеть с глупой рожей под потолком точно макака. «Я крещу вас водою, – с грустной ухмылкой снабдил вчерашнюю лекцию по физхимии, как всегда, по-кембриджски элегантный и загадочный Давид Кириллович, – но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви».
Интересно, это он на кого намекает? Всегда что-нибудь из Писания в лекцию воткнет. Это его еще кафедра научного коммунизма не слышала. МИСиС-то, говорят, сам «Голос Америки» приравнял к кузнице этого самого коммунизма. Гордости у нашей прекрасной преподавательницы политэкономии социализма Майи Васильевны Курбаткиной от такого сравнения было немерено.
Мы тоже попытались загордиться от этого сравнения, но как-то не пошло. Изуродовали приинститутскую Октябрьскую площадь монументом заблудившихся в истории людей – чему уж тут радоваться. Да и в памяти то и дело вставали заковыристые притчи мудрого Белащенко. Чтобы наш кумир, студенческий идеал, мудрец и наставник, так себя бичевал – мол, «недостоин развязать ремень обуви» – не бывать тому! Впрочем, в лифт профессора Белащенко мы и так всегда пропускаем без очереди. Короче – на шестой сегодня поднимусь пешком.
Сидели тут в ноябре на шестом этаже всем потоком на философии. Аудитория высоко над Ленинским проспектом нависает. Далеко видно. Я быстро забежал. Подсел к Грегулю. Тетрадь с конспектами из сумки достаю. Пальцами в мокрых ботинках двигаю – грею после утренней беготни с лопатой. О лабах по физике с Грегулем перекидываюсь – когда бы лучше сдать. Входит Моноплан – лектор по философии. Хороший дядька: спокойный, добрый, вдумчивый. Просто у него одной руки нет. А остальное – на месте. Мозги – в особенности. Но мы его и прозвали – по-самолетному.
Входит и дрожащим голосом говорит: «Товарищи, сегодня умер Леонид Ильич Брежнев». И – в слезы. Думал: тоже заплачу. А отчего – не знаю. Почему-то детский сад и школу вспомнил. Папу с мамой и Хромушкина, с которым гоняли после уроков на велосипедах. В аудитории загремели стулья. Все разом встали. Растерянные лица. Отчасти – испуганные. Что делать дальше – не знаем. Перечеркнется ли все самое светлое, что было с нами раньше, или нет? Или можно будет жить после таких страшных слов Моноплана и дальше? Мы не знали…
А на днях Вера Сергеевна, начальник нашей дворницкой службы, меня отчитала: почему, мол, не убрал внутреннюю лестницу во дворе между старым корпусом и новым? Ступеньки скользкие, преподаватели ходят и жалуются. «Я убирал!» – соврал я начальству. «Значит, плохо убирал», – напирала на меня Вера Сергеевна. Не стану же я ей говорить, что виной всему дохлая крыса, которую я обнаружил в институтском дворе и долго ходил вокруг нее, пытаясь совладать с отвращением и определиться, как с ней быть дальше. Время на размышления я потратил ровно столько, сколько нужно было бы для чистки ступенек.
Впрочем, ступеньки чистить во внутреннем дворе мне даже нравится. Во всяком случае, это лучше, чем бегать как ошпаренный с лопатой по тротуару Ленинского и наступать на ноги ни в чем не повинным прохожим. Со двора видны окна нашего ДК. Мы туда с ребятами часто ходим. Ну, не так, чтобы очень часто, но иногда получается. Был даже Тур Хейердал. Объявление маленькое при входе, чуть не от руки: мол, все желающие приглашаются на встречу. Дожевав бутерброды, решили: айда, раз зовут. Высокий, стройный пожилой джентльмен. Обаяние потрясающее. Примагнитил капитально. На всю жизнь. Масштаб Галилея – человека, способного взять земной шар в руки и его согреть. Впрочем, я отвлекся. Мне надо убирать снег…
ЖИЗНЬ В КРОССОВКАХ
Бег я полюбил случайно. По идее, я должен был полюбить плавание. Но мисисовский тренер Царек, мельком взглянув на мои минусовые очки, небольшие бицепсы, ровный живот и уже на полу сосредоточенно задержав взор на явно выраженном плоскостопии, со знанием дела заключил: «Миопия». Из институтского бассейна меня быстро турнули и перевели в группу здоровья.
Там пять прозрачных от худобы девчонок и Боб Штейнбах ходили под руководством пожилой дамы-тренерши в ближний лес делать дыхательную гимнастику. Бегать не разрешалось. Подтягиваться на турнике – тоже. Только – размеренно дышать, шумно сопя ноздрями, вращать ладонями и жеманно приседать (точно перед унитазом), в точности как беспомощно тужились в спортзале герои фильма «Семь стариков и одна девушка».
Стариками были мы – студенты, а девушкой – Вера Петровна с буклями и щегольских кроссовках. Хотя кроссы, повторяю, мы не признавали. Максимум, на что хватало спортивной прыти чрезвычайно башковитого и абсолютно неспортивного Боба Штейнбаха, так это на бросание пластмассовой тарелки на мягком травяном лужке.
Легкий замах, мягкий наклон, дышим ровно, рука от груди плавно отводит тарелку прочь, темп движения системы «рука-тарелка» постепенно нарастает, тарелка убыстряет бег, на максимальном разгибе руки ты разжимаешь пальцы и отпускаешь плоский снаряд в свободный полет. Твой партнер в это время изготавливается к поимке выстрелившего в его сторону пластмассового предмета, чуть наклоняется вперед, колени немного согнуты, руки на ширине плеч, пальцы разомкнуты, дышит ровно – смотрит, короче, чтоб не попало тарелкой по лбу.
Когда я рассказал об этом приключении главному на кафедре физкультуры лыжнику Самсонову, тот чуть не заплакал от жалости и с ходу перезаписал меня к себе – в лыжную секцию. «Над вами никто здесь так изгаляться не будет, – по-отечески заботливо порадовал Самсонов и, видно, окончательно растрогавшись, провозгласил в своем лыжном ведомстве небывалый либерализм. – Можете вообще ко мне на занятия не ходить. Разрешаю. Обгоните меня на традиционном институтском пробеге в честь 9 Мая – «отл.» ставлю с закрытыми глазами: ходил на занятия, не ходил – без разницы».
Так я осознал первую прелесть бега – либерализм. Мы в самом деле редко толкались на занятиях у Самсонова. Видели его раза три в семестр – не чаще. Потому что все тренировки в зале, как и разрешал наш тренер, законно «толкали». Вместо них мы просто натягивали кроссовки, спортивные штаны и мотались по Нескучному саду и Набережной Москвы-реки. Потом, когда чуть подтренировались, освоили дорожки Мосфильмовской. А после уже замахнулись на Дорогомиловский мост. Короче – готовились 9 мая отвоевать у Самсонова дембель от физры.
Тщетно. В День Победы, Самсонов на традиционной институтской 12-километровке обставил нас как котят. И большинство малоуклюжих любителей трусцы – тоже. Но мы не сникли. И решили взять реванш на следующий год. Чтоб уже точно никогда больше не париться этой институтской физкультурой. Список наших тренировочных маршрутов пополнился Новыми Черемушками, Теплым Станом. И, в конце концов, уперся в далекое-предалекое Ясенево. В попытках убежать с физкультуры мы обежали полстолицы.
В следующий пробег мы вновь увидели на финише спину неугомонного Самсонова. Тот, как всегда, бодро велел не горевать и набросал примерный план ближайших пробегов на полгода: где, какие и что за них дают. Дивиденды были, прямо скажем, скудные – где бегали за кормежку, где за памятный значок, а где и просто за хорошее настроение. Но главное – за «отл.» по физкультуре. Все пробеги, заверил хитрый Самсонов, входят в зачет «Кубка Самсонова», главный приз которого – его подпись в зачетке с нулевым посещением занятий.
Главный приз, помню, так и остался неразыгранным – никто из нас Самсонова так ни разу и не обогнал. И не получил от него вожделенную «дармовую пять» на веки вечные. Поскольку, думаю, она была на самом деле никому не нужна. Мы получили от Самсонова куда большее – дарованную им любовь к бегу. Не знаю почему, но она, эта любовь, не покидает меня и спустя 30 лет после того первого проигранного старта в День Победы.
На плетях
– Ну вот, сели… – обреченно крякнул Вова и полез в задок «буханки» за резиновыми сапогами.
За окнами – ноябрьская мгла. Вдалеке мрак изредка пронзается светящимся жалом локомотива. Там – Киевка, до которой мы не дотянули шагов двести по непролазной грязи.
Переобувшись, Вова выпадает из кабины во мглу – подключать передний мост. В зубах вместо сигареты – фонарик. Долго где-то внизу чвакает и матерится. Наконец вползает обратно за руль. Надрывно газуя, уазик беспомощно барахтается в жиже. Тщетно. Похоже, дальше придется идти пешком. Рюк- зак – на плечи, ключи – под мышку, фонарик – в варежку, и сваливаемся в полуметровую колею.