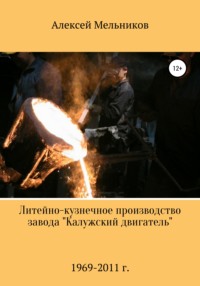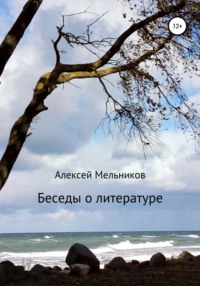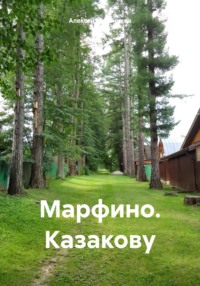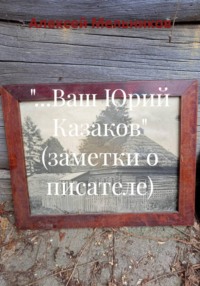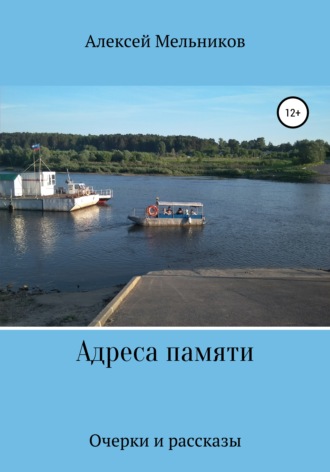 полная версия
полная версияАдреса памяти
На следующий день – еще 800 метров. К восьми вечера прибывает КамАЗ, чтобы перебросить нас за 250 км на другое окно – в Фаянсовую. К двум часам ночи прибываем туда. Ищем в рабочих вагонах, где приткнуться. Кое-как переночевали. Спасибо, мужики накормили борщом. Окно – после обеда. Укладка. Те же 800. Перед нею – магазин. Явно не хватает Чазова…
Возимся до 10 вечера. Едва успеваем к закрытию окна. Узнаем, что рабочий поезд, где мы оставили все свои вещи, документы и ключи от дома, уже ушел.
Главное – КамАЗ не успел удрать и нам не пришлось 130 км пехать домой по шпалам без денег, документов и прочего. К двум ночи добрались до Калуги. Рабочего поезда еще нет. На базу не пускают: мол, не было распоряжения начальства открывать цех. «Но нам бы хоть от дождя спрятаться!» Ни в какую.
Сидим, мокнем на скамейке до трех ночи. Сжалился дежурный составитель поездов. Пустил к себе в каморку. Дремлем, сидя на стульях. Пробую разогнать сон чтением. «Мне, привыкшей к берлинским элегантным пансионам, – сетует со страниц госпожа Одоевцева, – такая жизнь в Париже показалась совсем невозможной. Обедать мы ходили в огромный ресторан, неуютный и тусклый. Я обычно обедала в лучших ресторанах…»
– Может, пожрать чего?
Отрываю глаза от книжки – оголодавший Леха возится с пайковой банкой тушенки. Открывает и начинает тыкать холодный жир ложкой. Подкрепившись, засыпает, сидя на стуле. В начале шестого прогудел рабочий.
Взяли вещи. Переоделись. Полседьмого утра пошли автобусы в город. Пристроился на заднем сиденье и тут же задремал. Снилось, что все еще трясусь в КамАЗе и ставлю свечку в храме за успех нашей командировки…
Мой Паустовский
Паустовского я полюбил поздно, но молниеносно. Не в школе, не после, а только сейчас. Вдруг – как ударило током. С опозданием, но – пускай. Точно помню: это были «Караси» из его «Повести о жизни» – великой, как оказалось, но малознаменитой саги о былом. «Он (карась) лежал на боку, – вытаскивал из закоулков своей необъятной памяти первую детскую рыбалку маэстро, – отдувался и шевелил плавниками. От его чешуи шел удивительный запах подводного царства. Я пускал карася в ведро. Он ворочался там среди травы, неожиданно бил хвостом и обдавал меня брызгами. Я слизывал эти брызги со своих губ, мне хотелось напиться из ведра, но отец не позволял этого».
Вот именно с этого места – «слизывал брызги со своих губ…» – все и началось. Я понял, что испытывал многолетнюю жажду. Но не догадывался о том. А только – теперь, когда неожиданно ощутил живительную влагу поэтической прозы на пересохших губах. И тут же не преминул припасть к ее первоисточнику. «Мне казалось, что вода в ведре с карасем и травой должна быть такой же душистой и вкусной, как вода грозовых дождей, – писал, как дышал мэтр. – Мы, мальчишки, жадно пили ее и верили, что от этого человек будет жить до ста двадцати лет. Так, по крайней мере, уверял Нечипор…» Я верю: ровно до ста двадцати, а может, и с гаком. Клясться, впрочем, не заставляйте, но от Нечипоровой веры не отрекусь…
Белая Церковь с карасями – увы, увы… Мещера, признаюсь, сподручней будет. Короче, как-то летом я усадил жену и детей в машину и покатил туда: Спас-Клепики, Тума, Касимов, Гусь-Железный, Гусь-Хрустальный, озера (сплошь Великие, других названий здесь почти нет), болотца, речушки, сотни верст комариных угодий (выдолбленного где-то под Спас-Клепиками из огромного дерева комара так и нарекли – Хозяин Мещеры), черника, лисички и томик Константина Георгиевича в бардачке. Плюс – схема проезда до тихой Солотчи. Из этой грохочущей автомобильным железом Рязани. Проспекты, светофоры, пробки, выезд из города, мост, Ока – и вот уже сумерки. Спешно мимо. Солотча не открыла своих писательских тайн, загадочно прошумев прибрежными кронами за окном. А я так ждал…
Или – задним числом к морю. К Черному – учиться у Паустовского распознаванию духа морского. Чем пахнут, например, волны? «Подлинное ощущение моря, – проповедовал Константин Георгиевич, – существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чабрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяющимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями…» Вы знаете, чем пахнут ржавые мины образца 1912 года? А розовые (именно розовые) рыбачьи сети? Я тоже не знаю, но стараюсь разгадать. Потому что иначе никогда не познаю душу морских глубин и выскакивающих из этих глубин на жаркое солнце просоленных причалов.
Или – Таруса. Сестры они с той же Солотчей. Родные или сводные – как посмотреть. Родные по Оке, сводные по Паустовскому. Если море рядом с писателем прошло, Ока навеки рядом осталась – в обнимку с тарусским крутояром, подпирающим на своих плечах тихий городской погост. Отец на нем, и сын – тоже. Недалеко. Рядом.
А еще выше по реке – Калуга. Правый берег Оки – Дворики Ромодановские. Я сижу в уютном домике фотографа Сергея Денисова. На старом диване. «На нем Паустовский отдыхал, – между прочим роняет Сергей Петрович, роясь в коробках со старыми негативами, – когда в гости к нам приходил». Я невольно опускаю ладони на потертую обшивку. Медленно провожу по ней, точно глажу. Откладываю старые фотографии в сторону и закрываю глаза. Вот скрипнет калитка, откроется дверь, и войдет он…
Неуценённый Ценский
Не знаю, как кто, а я подбирался к Сергееву-Ценскому кружным путем. Ну, уж слишком извилистым. Да что там говорить – почти вслепую… Метнулся назад лет пять тому в Тамбовский край, да не на его родину, а – своего детства, под Жердевку. Погрустить о былом. Вдохнуть непозабытый аромат густых темнющих пашен. Поискать в зарослях ракит фундаменты дедова и соседских с ним домов. Не узнать тех мест, где бегал босиком. Где счастлив был. Любим. Желанен.
Пустить слезу. Сесть на краю погрузившейся навеки в чернозем родной деревни. Откопать на память кирпич из дедовских руин. Сесть в машину и, не успев засветло добраться до Калуги, заночевать в Тамбове где-то на берегу Цны. Утром выйти на извилистую набережную. Взглянуть на купола ближних и дальних соборов. Послушать колокольный перезвон и шепот речной воды у рыбацких мостков. Сделать несколько шагов в гору от непривычно скромной для русских широт реки. Всей грудью глубоко вдохнуть – а хорошо!..
И вдруг застыть в почтенном трепете подле выросшего из гранитной глыбы могучего человека с пышной шевелюрой и грозными усами, устремившего – нет, даже, скорее, вонзившего, – взгляд куда-то далеко-далеко, направившего его на что-то большое-большое, такое важное и судьбоносное, что, казалось, человек этот каменный вот-вот шагнет с постамента вниз и устремится к этому важному и большому, оставив позади волшебный, тихий, уютный, полусонный Тамбов с тягучей малой речкой за спиною.
Это была моя первая встреча с Сергеевым-Ценским. Каюсь, она прошла даром. Я слышал, что был такой писатель, но прежде не читал: ни в школе (она игнорировала сего могучего тамбовчанина), ни после. Не открыл я его бессмертного «Медвежонка» и тогда – после первой тамбовской «прелюдии». Не познал его же великую «Печаль полей», хотя сам точно такой же печалью был болен. Почившая в черноземных недрах родная моя деревня, казалось, плакала, взывала оттуда, из преисподней, о скороспелом своем уходе в мир иной, о том, что могла народить еще жизни с три короба, но не народила, что могла бы еще встречать нас, своих птенцов, посверкивая на пять верст вокруг своими пестрыми крышами, но, видно, больше уже не встретит. Отчего так?..
«Над полями, уползающими за горизонт, – прочту я вскоре о том же у Сергеева-Ценского в его «Печали полей», – опоясанными длинными дорогами, логами, узкими оврагами, неслышно и невидно, но плотно и тяжело повисло нерожденное. Что-то хотела родить земля, – что? – не леса, не горы, не тучи, – что-то хотела и не могла… Силою теплых дождей напоен и храбро пыжится каждый угловатый ком чернозема. Взапуски тянутся отовсюду, спеша и смеясь, тоненькие трубочки былинок: выпускают из своей гущи жаворонков в небо; пьют ночные росы и тянутся выше, выше, по брюхо приземистой каурой сельской лошаденке, и еще выше. Пока не остановятся вдруг, не оглянутся кругом и, испуганные, не начнут поспешно отцветать, желтеть и вянуть…»
Он молодым покинет этот жирный, плодородный, бездетный край. Пойдет, как и его отец, в учителя. В солдаты, в прапорщики. В народ. В бескрайние русские просторы. В войну, которую проклянет навек за оживление безжизненности. «Занозив» себя навек трагической печалью лучшей из описанных им в своих романах героинь – несчастной Анны Ознобишиной, выносившей семерых своих детей, всякий раз утрачиваемых при родах. Когда восьмой потерей в этой неплодородной тьме приходит очередь быть роженице самой…
Проза его была точной и пронзительной. Жесткой и певучей. Пейзажной и твердой. Музыкальной с металлическим эхом. Хрустальной с серебряным перезвоном. Пластичной и нерушимой одновременно. Ею упивался Горький, ставя Сергеева-Ценского во главе всего современного ему писательства. Письменно признавался в любви к его перу. Не раз искал встречи с новой литературной звездой. Но Сергеев-Ценский больше искал уединенности, предпочтя еще на взлете своей литературной карьеры почти отшельничество на Орлиной горе в Алуште. Здесь в начале века он обустраивает свое писательское гнездо. Строит дом. Разбивает сад. Обретает семью. Теряет дочь. Терпит нужду. Каждый день выходит смотреть на морской закат. Запасается стопками чистой бумаги, перьями и, не давая себе поблажки, работая по 10–12 часов в день, пишет великую прозу. Которую потом забудут. А после вспомнят…
Уединенность писателя становится частью его сущности. Как выяснилось, вполне закономерной. Причем, как для него закономерной, так и для его поклонников. Даже – великих, как тот же Горький, который так и не смог отыскать, будучи в Алуште, домик автора потрясающих по силе повестей. Сергеев-Ценский спустился к Горькому сам, и оба мэтра наконец-то смогли обняться и окунуться в мир обожаемой ими русской литературы, в оглавлении которой отныне значились такие мастерски сделанные вещи Сергеева-Ценского, как поэмы и повести «Сад», «Печаль полей», «Пристав Дерябин», «Медвежонок», «Наклонная Елена», «Блистательная жизнь», роман «Бабаев» и только что начатая эпопея «Преображение России»…
Добраться до сих литературных сокровищ, до самого Сергеева-Ценского и сегодня не так легко. Если Горький не сразу нашел дорогу к нему в Алуште, то что говорить о нас, простых смертных. Мне, например, сначала пришлось приехать в Тамбов. И все равно – найдя, можно сказать, прошел мимо. Вскоре жизнь привела в ту самую Алушту. Но опять-таки не к Сергееву-Ценскому. А к его соратнику по перу и не менее выдающемуся писателю – Ивану Шмелеву. В Профессорский уголок Алушты, где на высокой набережной ютится домик-музей автора «Лета Господня». И тут вновь как бы невзначай встает перед глазами имя Сергеева-Ценского – его Орлиная гора, оказывается, совсем рядом. Полчаса пешком. Правда – высоко-высоко в горы. Что ж, это – судьба!..
Вот оно – место рождения великой прозы. Ровно полвека служившее кузницей удивительных по выделке литературных вещей. Стройные кипарисы, высаженные собственной рукой, миндаль, цветы. Одноэтажный лаконичный дом с верандой. Внизу – уходящее в бесконечность море. Именно здесь, и только здесь может родиться замысел таких могучих вещей, как, скажем, «Севастопольская страда». О том, что значит быть морской державой и как эту почетное звание отстоять. А в доме – все обычное. Все-все. Кроме книг – их масса. И – обо всем. Недаром их хозяин – академик. Доктор филологических наук. Мудрец. С каким хочется присесть на диван и расспросить о главном. О самом важном. Точь-в-точь как на картине, что здесь над рабочим столом: Сергеев-Ценский и Горький – о чем это они там толкуют?..
Лёва
В классе мы его всегда звали Левой. Маленький, с рыжеватой сединой, торчком стоящей над широким лбом. На носу очки с 18 диоптриями. Сквозь них на нас смотрели по-детски наивные и по-взрослому усталые глаза полуслепого физика Ваваева. Раскрытый настежь журнал Лева всегда подносил к самому носу и, близоруко прицелившись ручкой в строку, выстреливал фамилию очередного визави.
– Устинова, иди, дорогая, к доске решать задачу.
Юлька Устинова, веселая и шумная троечница, прыснув в кулак и спрятав в портфель листаемый на коленках журнал мод, толкает меня локтем в бок: «Лешк, чего там?»
– Массу умножишь на ускорение, получишь силу, – утонув в широко раскрытых бирюзовых Юлькиных глазах с изящно подведенными ресницами, взволнованно шепчу соседке.
Эти ресницы почему-то вечно не давали покоя нашей классной. Та то и дело таскала за шиворот бедовую Юльку в женский туалет смывать это «безобразие». На Леву же Юлькины чары никак не действовали. Во-первых, потому что он был староват. Во-вторых – слеповат. А в третьих – потому что мы были дураки.
– Мельников, я хоть и вижу плохо, но слышу хорошо, – это он мне.
В самом деле, у Левы был хороший слух. А также – память: на уроках физики он читал наизусть «Руслана и Людмилу» с таким же упоением, с каким цитировал своего любимого Перышкина. Пушкин и Перышкин. Плюс – байдарки.
По весне Лев Михайлович снаряжал свой тяжеленный «Салют», брал в прокате еще пару таких же неуклюжих посудин, как эта, и пускался вместе с классом в отважное путешествие по калужским рекам. Воря, Угра, Вытебеть, Ресса, Рессета. Извилист был путь школьного физика в многолетнем отыскании наиболее эффективной методологии преподавания своего предмета.
Правда, это было очень давно, когда Лева еще хоть чуть-чуть видел. Потом стал только слушать и петь. И – вспоминать. Меня, правда, через тридцать лет после школы не узнал. Забыл. Двоечники как-то запоминаются ярче. Да и сколько народу через его учительскую память проследовало – ужас! Я нашел его домашний номер телефона и позвонил. Он назначил встречу в библиотеке для слепых.
Тот же непослушный ершик седых волос. Широкий лоб. Наивный взгляд. Только по-стариковски как-то сморщился. И – без очков. Старик перенес какие-то сложные операции на глазах. Что-то видит, что-то – нет. Что именно, впрочем, мы не очень понимали и раньше. У Левы в школе была особая такая тетрадь. В нее он ставил плюсики и минусики за каждый ответ на уроке. Не у доски ответ, а – просто на любой из заданных вопросов. Подняли пять раз – получи отметку.
Левина тетрадь интриговала больше, чем журнал. За ней охотились все девчонки нашего класса. Когда Лев Михайлович по рассеянности оставлял свое досье без присмотра, над ним тесно склонялось пять–шесть пар девчоночьих косичек.
– Эй, пацаны, посмотрите, чтоб Лева вдруг не зашел, – кидали нам в приказном тоне подтасовщицы в фартуках и лихо перечеркивали Левины минусы, превращая их в плюсы, а себя – в отличниц.
– Дуры, – брезгливо хмыкал на заговорщиц Витька Хромушкин. Минусов возле его фамилии в Левиной тетради было больше всего. Но шебутной Хромушкин, как и все мы, уважал Леву.
Когда тот появлялся и подносил к самому носу свою тетрадь, то подолгу пыхтел и хмыкал, водя пальцем вдоль строчек с шифрами наших познаний. Выныривая из-за своей тетради, обводил полуслепым взглядом наш класс. Опять погружался в недра своего кондуита. Чем-то там шелестел, негромко бурчал и обреченно вздыхал. Снимал и протирал платком ставшие уже практически ненужными слепым глазам очки. Вставал из-за учительского стола. Опять садился. Молчал. «Так-так-так…» – после долгой паузы объявлял результат своего расследования Лева. Но на этом «так-так-так» все и завершалось.
Я хотел спросить Льва Михайловича, знал ли он о тогдашних подделках в своей тетради. И – не спросил.
– Вот солирую высоким баритоном в хоре областного общества слепых, – почувствовав мою заминку, перешел на другую тему старый учитель. – На днях даже выезжал вместе с коллективом на гастроли в столицу. Люди очень тепло встречали. Каждой песне подолгу аплодировали. Мне даже самому понравилось, как я пел. Обычно-то всегда недоволен собой остаешься. Эх, думаешь, мог бы лучше. Эх, недотянул. А тут понравилось. Песня, правда, старинная. Может, слышал где?..
И Лев Михайлович ровным и чистым голосом выводит: «Пушки молчат дальнобо-о-о-ойные, залпы давно не слышны-ы-ы-ы…» Мы с моим учителем сидим в библиотеке для слепых имени Николая Островского, и он, глядя куда-то вдаль, тихо рассказывает о том, о чем никогда не рассказывал на своих уроках. Что родом из Лужников – коренной москвич. Прадед огородничал как раз в том месте, где сейчас раскинулся наиглавнейший российский стадион. Был богат. Но после того как в этих местах прошла окружная железная дорога, землю у прадеда отрезали.
Богатство куда-то испарилось. Дед сник. Отец, будучи военным, из Москвы угодил в Вятку. А оттуда в 43-м вместе с семьей и десятилетним Левой долго и мучительно перебирался через Ярославль, Иваново, Шую, Рязань и что-то еще сюда, в Калугу. Самое яркое впечатление того первого военного похода – эшелоны. Сотни эшелонов, ломившиеся по всем железным дорогам страны с востока на запад. На фронт. С орудиями, боеприпасами, новенькими тридцатьчетверками и необстрелянными бойцами внутри. «Пушки молчат дальнобо-о-о-ойные…»
С детства мечтал в железнодорожный. Но по зрению не взяли. Пришлось идти в Калужский пед. На физико-матема-тический. «Так что в учителя, – признается Лев Михайлович, – попал не по призванию. А так – почти случайно». «Случайной» профессии отдал практически всю жизнь. Работал до тех пор, пока глаза не перестали различать детей в классе. Потом – операция, удаление катаракты. Потом – еще одна, неудачная.
– Читать, конечно, не могу, – говорит Лев Михайлович, – да и телевизор теперь только слушаю. Да не унываю я от этого. От того, что ничего практически не вижу. Что я этих джипов, что ли, на дорогах не видал? Зачем мне на них смотреть?..
По-прежнему страшно интересуется наукой. В библиотеке для слепых постоянно берет кассеты с записями журнала «Хочу все знать». Караулит канал «Дискавери» и научно-популярные сериалы «Би-Би-Си». Разыскивает их в сонме телевизионных каналов, садится и слушает. Последнее потрясение – приземление, точнее – прититанивание, европейского аппарата на самый загадочный спутник Сатурна. Разве не радость?..
Будь на то воля свыше – повторить жизненный путь – в учителя, клянется, ни за что бы не направился. Хватит. Типичный, надо сказать, ответ выложившегося на все 100 педагога. На вторую жизнь таких обычно не хватает. Только на одну. Безмерно щедрую…
«Жить в горячих сердцах…»
Поэт революции и драматург, стойкий ее солдат и нежный поклонник, авангардист, теоретик конструктивизма, он же – цирковой борец, грузчик, натурщик, музыкант, художник, спортсмен, юрист, искушенный спец по заготовке пушнины, член экспедиции на ледоколе «Челюскин», сварщик на Московском электроламповом заводе, кадровый офицер Советской армии, руководитель семинара в Литинституте им. Горького. Это лишь часть ипостасей Ильи Сельвинского. Как они смогли ужиться в одном лице – загадка. Отчасти отгадываемая местом рождения этого гениального крымчака – Старым Симферополем. Местом, в котором можно родиться. Двориками, которые невозможно не полюбить…
Вот она – густейшая смесь десятков культур, языков, вер и традиций. По-татарски затейливо петляющие улочки в ширину одной повозки. Обступающие тебя с двух сторон вековые стены домиков из жесткого, точно наждак, ракушечника. Над проулками – жаркое солнце, в проулках – зной, плюс – перекличка колоколов Троицкого и Петропавловского соборов с криком муэдзина с неподалеку расположенного минарета древнейшей на полуострове мечети Кебир-Джами. Тут же соединяющая (или, наоборот, разделяющая) православные и мусульманские святилища бойкая и шумная улица Шмидта. Какого именно? Либо – того самого, щуплого, но героического лейтенанта Шмидта, бросившего вызов царю и жизнь – на плаху. Либо – могучего и бородатого полярника Шмидта, бросившегося на зов уже свершившегося социализма во льды ледовитых морей.
И тот Шмидт, и этот сыграли не последнюю роль в судьбе родившегося вблизи поименованной в честь них транспортной артерии поэта. Как и другой первопроходец, но уже в литературе, точнее – в ее социально обостренной интерпретации, – Некрасов. Тот самый, которого юный Илья ставил очень высоко, выше многих, отмечая его в чем-то революционный поэтический запал, с которым будущий авангардист Сельвинский старался максимально сойтись.
Надо ли говорить, сколь своенравно распорядилась история, пустив улицу Некрасова в Симферополе как раз на пересечение с Бондарным переулком Сельвинского. Как и улицу Шмидта: подпирать собой родные пенаты поэта с тыла. А Большевистскую – обнимать подступы как к главным православным святыням Симферополя, так и к местным литературным святилищам. Из таких гремучих смесей, судя по всему, и взрываются сверхновые поэтические звезды масштаба Ильи Львовича Сельвинского.
«Он дал историю в развороте от Средневековья до современности, – писал о выдающемся поэте Лев Озеров. – Он дал общество в разрезе от холопов до царей. Он дал все виды и жанры литературы: от двустишья – до романа в стихах, от сонета – до эпопеи. Он дал просодию: от ямба – до тактовика, который является его личным введением в поэтику, от хорея – до верлибра». Но сначала – ворвался в поэзию переполненным искрящейся южной романтикой и предчувствием великого революционного пути юным летописцем эпохи. Своей эпохи…
Мне двадцать лет. Вся жизнь моя – начало.
Я только буду, но еще не был.
Души заветной сердце не встречало:
Бывал влюбленным я, но не любил.
Еще мой бриг не тронулся с причала,
Еще я ничего не совершил,
Но чувствую томленье гордых сил –
Во мне уже поэзия звучала…
Что ждет меня? Забвенье или пир?
Но я иду, бесстрашный и счастливый:
Мне двадцать лет. Передо мною мир!
Сельвинский, собственно, и занимался всю жизнь тем, что пытался объять этот самый мир. Понятно, необъятный в принципе. И тем не менее чувствовавший на себе пристальное внимание поэта. Вот он гимназическим почерком евпаторийского школяра шлифует первые рифмы для городской газеты. Вот, подхваченный ветром назревающей революции, штудирует «Капитал» Маркса (под впечатлением прочитанного даже берет себе второе имя – Карл). Вот рвется спасать от интервентов родной Крым. Вот попадает под белогвардейские (или красногвардейские – в ту пору поди разбери) пули, а потом оказывается в застенках севастопольской охранки, воссоздавая в тюремных стихах жуткий дух зарешеченных пространств и ощущая в себе приступы новых поэтических озарений.
Крым… Как весело в буханьях пушки
Кровь свою пролил я там впервой!
Но там же впервые явился Пушкин
И за руку ввел меня в круг роковой.
Сначала я тихо корпел над рифмой,
На ямбе качался, как на волне…
И вдруг почуял я вой надрывный…
Жизнь разверзлась пещью в огне!
Вот, очарованный новизной социализма, Сельвинский конструирует для него новый литературный язык. Вот, озабоченный первыми социальными поломками в недрах нового общества, анализирует способы их устранения. Рождаются поэтические эпопеи: «Улялаевщина» – о трудных родах революции на местах в условиях буйства анархистских эпидемий, «Пушторг» – о не менее коварных послеродовых осложнениях в недрах уже укрепившейся соввласти. Создает поэтическую драму «Командарм-2» – опять-таки об идейных трениях не с врагами революции, а внутри революционного стана.
Сельвинский не воспевал. Не барабанил. Он ставил диагноз и искал способы лечения. Новое общество оказалось предрасположенным к серьезным социальным осложнениям.
Но мне воспеванье не по плечу.
Не трубадур я в лавровых листьях.
Я проблематик. Я аналитик.
Это невесело. Но хочу
Жить в горячих сердцах, а не в бронзе…
Понятно – камень в огород Маяковского. Последнего Сельвинский ценил очень высоко. И тем не менее отчаянно с ним ругался. По поводу: не трубадурничай! Не мельтеши рекламой!
Маяковский! Вы увенчанный лаврами
Мэтр и меж поэтов туз!
Как-то за вами я поплетусь
В яром деле торговой рекламы?..
И Сельвинский шел своим путем. Изобрел свой собственный поэтический механизм. Тщательно сконструировал. Построил. Отладил. Создал поэтическое течение конструктивистов. Собственно, этой заслугой главным образом и прославился. Мол, поэтические опусы должны быть максимально функциональными. «Заточенными» на главную идею. Рифмы, метафоры, образы – все должно работать «на конечный результат». Приносить не столько поэтическую, сколько социальную прибыль. Хотя и изощренными поэтическими способами. Вот так…