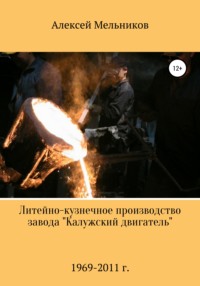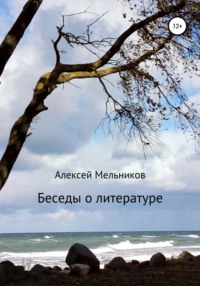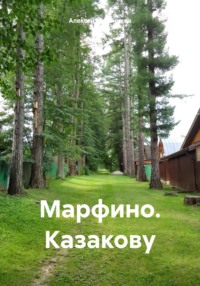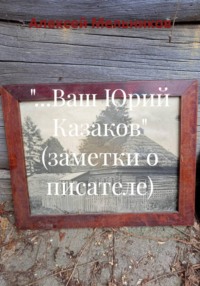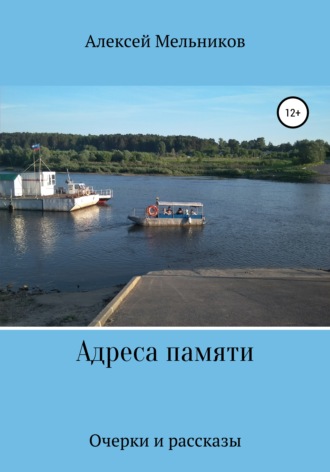 полная версия
полная версияАдреса памяти
Окрестность крепла производством льна и конопли, промыслами деревянными. Политические встряски наверху толковое хозяйничание тут сразу не нарушили, но обескровливали его пошагово, зато неукоснительно: от войны к войне, от продразверстывания к раскулачиванию и далее к голодным трудодням и беспаспортному крепостничеству по-советски.
– Я когда в армию в 80-х отсюда уходил, – вдруг появился из-за лохматого ельника Григорий, – так что-то внутри и екнуло. Когда вернулся, понял, почему: деревни к тому времени уже не стало – все съехали. И здесь, и в деревнях в округе…
Съезжали, как пояснила Ирина Матвеева, слишком второпях, трагически и бесповоротно: подпаливая иной раз собственные дома, дабы хоть как-то «разжиться» деньжатами за счет причитающейся погорельцам государственной страховки. На пути великого исхода встал тридцатилетний лес, и мало что теперь напоминает о бьющей здесь когда-то через край величественной крестьянской доле.
Не обошлось в наш приезд и без маленьких географических открытий. Одно из них мы по совету Александры Черкесовой решили сделать в обратный путь с Хоревки. А именно: подтвердить или опровергнуть версию о том, что затаилось где-то тут поблизости не отмеченное ни на одной карте и не помянутое ни в одном официальном документе малюсенькое селеньице под многоговорящим названием Тургеневка. Была ли она на самом деле?
– А как же! – утвердительно кивает в ответ последняя ее жительница 86-летняя Татьяна Андреевна Сибиркина. – Конечно, была.
Бабушку мы отыскали в соседней Крапивне, куда она 11 лет назад перебралась жить к сыну из близлежащего Чухлова. Так вот, в этом самом Чухлове один «порядок» (так в ульяновских деревнях обычно называют какую-нибудь деревенскую улицу или край села) именовался Тургеневским.
– Почему? – допытываемся мы у Татьяны Андреевны.
– Дед ишо так говорил. Все так говорили… А! Так ведь там Тургенев еще жил.
– Он у кого-то останавливался?
– Нет. Дом, сказывали, у него там был…
Кроме старенькой и полуслепой бабушки Тани, никто, похоже, в округе о единственном на земном шаре селенье, названном в честь автора «Записок охотника», рассказать уже не сможет…
Из потерявшейся в ульяновских лесах тургеневской Хоревки мы покатили дальше – искать пущенные от нее ростки. Не верилось, что могучее крестьянское корневище усохло здесь вчистую, не окропив обширнейшие нивы семенами прежней деловитости…
Декарт и русский пролетарий
Я научился открывать его на нужной странице без закладки. Угадывал по резкой границе точно бисквитных слоев книжного среза. Замацканное – читано, белое – еще нет. Поворачивал книжку торцом и закопченным ногтем раздвигал щель между разномастьем. Между грязным и остальным. Читанным и непознанным.
У меня полчаса в запасе. Точ- нее – минут двадцать. Их я потрачу на Рене. Десять – на чай и бутерброд с плавленым сыром вприкуску. Чайник вытащу из металлического шкафа и оботру рукавом спецовки. Он, как всегда, чумазый – в руки не возьмешь. Даже в грязные. Ну и черт с ним – плесну воды в такой. Нашей цеховой, водопроводной.
Она чертовски невкусная, эта наша водица. Я, кстати, уже ею травился. Был две недели на бюллетне. Ходил к инфекционисту. Вы, часом, не были в этом заведении? Я имею в виду инфекционный кабинет… Соскобы, пробирки, то не ешь, это не глотай – умора! Чего они, эти врачи, там думают про нас? Что, теперь в «Метрополе» по их рецептам обед заказывать? Да я уже в литейке такого наглотался: и на первое, и на второе да и на десерт.
Впрочем, мужики наши чаек в перекурах попивают – и ничего. Живые. Наверное, спиртом дезинфицируются. А если без спирта, то хуже – тут прямая дорога на соскоб. Говорить, откуда он берется, или сами догадаетесь?.. То-то же. Так что первый вам совет: будете у нас в литейке – ни за что не пейте воду из-под крана.
Но я все-таки выпью. Поставлю закопченный чайник на разогретый муфель печи… Нет, долго ждать. Муфель старый, спирали выгорели, больше 800 не даст. Лучше залью-ка я прежде оболочку и шлепну чайник на раскаленную отливку. Здесь уже за тыщу двести будет.
Вы когда-нибудь разогревали чайник при тысяче двести? Нет? Ну, это примерно так, будто в воду кто-то бросил малюсенькую ядерную бомбу. Вода не кипит, а вспыхивает – разом: оп – и готово. Но у меня действительно мало времени. Индуктор гудит, насос молотит, начальство жмет…
Прожженной варежкой прихватываю распираемый паром закопченный самовар. Кидаю пакетик «Брук Бонда» в кружку, вливаю, жду. Нет, ждать некогда – пью, обжигаясь. Вообще-то я обжигаться привык. Пока раскаленную опоку в печь суешь, ровняешь – колени полымя горят. Я на штаны даже асбестовые заплаты прилаживал. Так и они от пекла за неделю искрашиваются.
Первый урок, помню, напарник мне дал – Саня. Опоку в пару центнеров весом при тысяче ста кран-балкой вошкали: из прокалочной печи – в заливочную. Но это неважно. Главное – чуть не в обнимку с этой полыхающей бочкой тискались. Так я, глупый, часы наручные с металлическим браслетом с руки не снял – Саня видел, усмехнулся поначалу, но промолчал. Браслет мигом раскалился, запястье жарит, а снять нельзя – руки заняты, того и гляди эта раскаленная туша на пол грянет. Месяц шрамы зализывал.
«Если в ряде вещей, подлежащих изучению, встретится какая-либо вещь, которую наш разум не в состоянии достаточно хорошо рассмотреть, тут необходимо остановиться и не изучать другие вещи, следующие за ней, а воздержаться от ненужного труда».
Рене Декарт.
Ладно – перекур… Я вообще-то не курю, но если вам так хочется – пожалуйста. А пока я расскажу, как нас с Рене на проходной вахтерша сцапала. Едкая такая тетка, крашенная, будто в гудрон башкой ныряла, надменная вся. Нас, работяг, лютой ненавистью не любит. Хотя они ее как раз-то и кормят – за каждого разоблаченного с душком или с выпивкой ей премия хорошая кладется. Как потом признался ихний комиссар, самая передовая – шмонает нашего брата только так. Нажилась.
– Это что у тебя? – тычет, значит, перламутровым ногтем в Рене.
Кроме него – ничего со мной нет интересного: ну, бутеры в пакете, апельсин, ручка…
– Рене, – отвечаю, – Декарт. Если угодно по-латыни – Картезий.
– А зачем?
– Мы с ним работаем.
– Не положено, – как ножом отрезала. – К технологическому процессу отношения не имеет.
Слыхал, Рене? Не имеешь, говорит, никакого отношения ты к нам – и баста. А я думал: имеешь. Пошел спросить у главного заводского начальника по пропускам через вертушку: можно с Рене Декартом на завод или нельзя?
Сидит, значит, такой правильный весь в уютненьком кабинете напротив Самого и с кем-то по телефону веники банные обсуждает.
– Петрович, как всегда, в четверг в семь часов на Зеленый Крупец подкатишь?
И в мою сторону:
– Что нужно?
– Я про Рене хотел спросить. Я с ним шел, а меня на проходной не пустили.
– Ну. – Не выпуская трубку из рук и продолжая набирать очередного Петровича, раздраженно ждет, когда я выметусь вон.
– На проходной сказали, что не имеет Рене Декарт к производственному процессу никакого отношения.
– Ну и… – Постоянно сбиваясь с нужной цифры на телефоне и плохо понимая, о чем я, начинает беситься начальник вахт.
– Ну как же не имеет? – пытаюсь переключить того с веников на нужную волну. А про себя прикидываю…
«Если мы не вполне понимаем вопрос, его надо освободить от любого излишнего представления, свести к простейшему вопросу…»
Рене Декарт.
– Вот, скажем, вы – мусульманин…
– Какой еще мусульманин? – уже бросая в отчаянии трубку, наконец, зло оборачивается ко мне высокий зам.
– Ну, правоверный такой, и постоянно носите с собой Коран, – пытаюсь по мере сил упростить ситуацию. – На работе он с вами, этот Коран, дома, в поездках. Потому что вы верите и читать должны его каждый день. Вы без него не можете. Вас без него просто нет: ни дома, ни на работе. Так вот, представьте, что вы идете на работу, а у вас его изымают. Почему, спрашиваете…
Заввахт ни о чем таком вообще-то спрашивать не хотел. На последнем терпении ждет, когда я исчезну.
– Так вот, – продолжаю терзать высокопоставленного бедолагу, – резонный вопрос: имеет ли в данном случае Коран отношение к производственному процессу?
Тот обреченно смотрит на настенные часы. Прикидывает, видно, что конец рабочего дня, звонить друзьям насчет бани поздно. Перестает теребить телефонный аппарат. Занимает руки перекладыванием на столе какой-то писанины. Смотрит в экран компьютера. Делает важный вид. Через минуту, отдуваясь:
– Ладно, разберусь.
Вообще-то по начальникам я, честно признаться, не ходок. К этому так забрел – посмотреть, что за птица. Обычный такой, гладкий, джип у проходной, костюмчик, амбре вокруг и все такое. Где надо – с гонором, где гонор ни к чему – с почтением. Сам испытал. Не верите?
Тут как-то генеральный приказ издал: мол, дабы перестать завод растаскивать и время рабочее зря не перекуривать, всем передвигаться по территории строго по указанным маршрутам, поминутно отмечаться карточкой в электронной пикалке: из цеха – приложись, в цех – приложись. Короче, чтоб у меня – ни шагу.
Подумал: я вроде завод не растаскиваю, время рабочее не транжирю, а цидуля вроде как и на меня такого-сякого нацелена. Запереживал. Обидно просто стало. Достал из шкафа грамоту, подписанную как-то руководством: мол, за успехи в труде и все такое. Наложил на приказ, что и меня, получается, казнит за нарушения. И переслал через канцелярию Самому. Мол, в таком случае спасибо, возвращаю.
Через два дня прилетел. Тот – «с вениками». Гляжу, джип под окнами цеха красуется. В кабинет завели. Беседуют. Мол, как же так, нехорошо получается: грамоту директор дал, а ты ее обратно пинаешь. Мы же как лучше хотели. Чтоб не воровать и не прогуливать – пикалки ввели.
– Но я же не ворую, – объясняю, – вот доказательство: подпись на грамоте главного руководителя.
– Но это же образно, – волнуется мой «с вениками». – Порядок такой – для всех. Не воруешь – и хорошо…
Честно скажу, я еще долго изводил начальника вахт своими рассказами на тему «что такое хорошо…». У меня как раз муфель в печи электрики ремонтировали. Простой. Бездельничанье, значит. Вот я перед замгенерального и разболтался. Думаю, простит. А впрочем – все равно.
«Не подумайте, однако, что, бездельничая, я теряю напрасно все свое время. Больше того, никогда еще я не проводил его с такой пользой, как сейчас, но главным образом в отношении вещей, которые ваш разум с точки зрения своих более возвышенных занятий будет, без сомнения, презирать…»
Рене Декарт.
Кёнигсберг
Свобода воли, бессмертие души и бытие Бога – вот три главные цели наших разумений. Это – из Канта… Судя по всему, он выхаживал свою «Критику чистого разума» по тем же улицам, по которым нас, замотанных в шарфы и обутых в резиновые боты, возили на автобусе «Золотая рыбка» в далекий детский сад. Иногда «Золотую рыбку» заменяли на другой – «Семь гномов». Видимо, для уравновешивания западной и восточной культур в этом самом нехарактерном для обеих частей света приморском анклаве.
Философ никогда не покидал свой (а после – наш) промозглый Кенигсберг. Разве что немного поколесил в молодости по пригородам в поисках учительского приработка. А так – постоянно держал в поле зрения величественные стены кафедрального собора на омываемом Преголью Кнайпхофе. А также – могучие башни Королевского замка – наследия тевтонских вре- мен – поблизости.
В первом Кант нашел свой вечный покой. Настолько вечный, что его не смогла нарушить даже тотальная бомбардировка англичанами всего и вся в 1944 году. Она превратила Кенингсберг примерно в то же самое, во что американская – не менее величественный Дрезден. Королевский же замок пережил Канта несколько больше и пал от рук уже не англичан, а первого секретаря Калининградского обкома партии товарища Коновалова. Я впитал эту фамилию с детского сада. Канта не знал, а Коновалова, надо же, помню. Тот повелел в конце 60-х взорвать недорушенные английскими асами могучие руины. Этим, собственно, и прославился.
Помню, как отец, служивший ту пору в танковых войсках, глубоко сокрушался: мол, до чего крепко клали стены эти немцы – взрывчатка не брала. Поэтому советским танкистам приказали буксировать гигантские обломки на тросах чуть не за город. Это была одна из самых ответственных военных операций Западного военного округа тех времен. Конечно, после ненужного похода в 1968 году на Прагу.
Из него батальон отца вернулся на родину великого философа без потерь. Причем – ни с той, ни с другой стороны. Этим обстоятельством отец очень гордился. Думаю, тому же самому порадовался бы и Кант, заявивший задолго до главных аморальностей XX века, что «конечной целью мудро пекущейся о нас природы при устройстве нашего разума служит, собственно, лишь моральное». Впрочем, «Критику чистого разума» в дислоцирующихся в городе имени всесоюзного старосты танковых частях в ту пору не изучали.
Думаю, не изучают и сейчас. Ибо танкисты – чаще всего материалисты. Доверяют броне и киловаттам тяги. Но – не трансцендентальной эстетике. Та устами кенигсберского мудреца указала краеугольным и грубоватым на вкус пространству и времени свое место: не в фундаменте всей материи, а лишь в прихожей Вселенной. Всего лишь в качестве формы чувственного созерцания человеком мира вокруг.
Оскорбление приверженцев вульгарного материализма получило искупление возвеличиванием приверженцев возвышенного идеализма. Грубая наличность в трудах Канта была поставлена под начало морали. Та гигантским интеллектуальным усилием самого знаменитого из «калининградцев» была выведена из сонма человеческих разумений. Казалось бы неподдающихся до этого никакому целеполаганию. Ан нет, после 40-летних изысканий указал на правильный ответ кенигсбергский отшельник: цель разума обнаружена. Это – мораль. Она не выводится из опыта. Она априорно заложена в разуме человека. Идеалист, да и только…
«Теперь ты понял, что мир материален!» – красовалась после взятия Кенигсберга над могилой философа уверенная размашистая надпись по-русски чем-то черным. Наверно – углем. Маленький Кант промолчал. Не ответил он и на более ранний выпад в свой адрес. Скажем так, несколько более деликатный. Но, тем не менее, колкий и несколько пародийный, и тоже по-русски, но уже установленного авторства – Александра Блока:
Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки…
Такие ручки у меня,
Такое темное окошко…
Тепло и темно. Я гашу
Свечу, которую приносят,
Но благодарность приношу…
Меня давно развлечься просят,
Но эти ручки… Я влюблен
В мою морщинистую кожу…
Могу увидеть сладкий сон,
Но я себя не потревожу…
Кант и в самом деле не любил полемики. Ни с современниками, ни, тем более, – с потомками. Первых, считаю, что терпел. Над вторыми (даже в ореоле классиков), думаю, бы сжалился. Ибо со временем величие этой маленькой фигуры только нарастает. И фора, данная Кантом будущему поколению, отнюдь не уменьшается. Ни интеллектуальная фора, ни, тем более, моральная… «Такие крохотные ножки, такие крохотные ручки…» Нет, фора еще очень велика…
Последний раз я навещал могилу Канта в далеком 1980 году. Сделал фото, которые потерял. С тех пор не был: ни на родине его снов, ни на родине моего детства – на Моцартштрассе, то бишь, улице Репина, откуда я пошел в первый класс. Где на первом же уроке горько заплакал: то ли от страха перед неизведанным и пугающим своим могуществом миром знаний, то ли от предчувствия надвигающихся встреч с самыми строгими и бескомпромиссными его обитателями.
Примечания
1
Маты – мать (укр.)