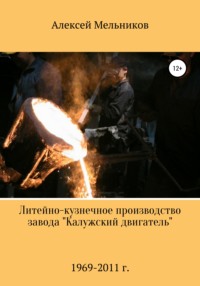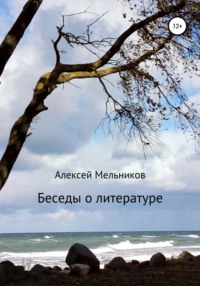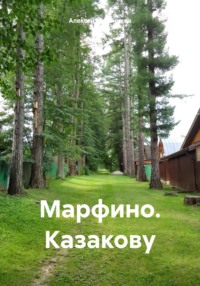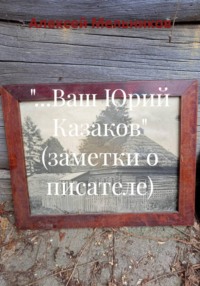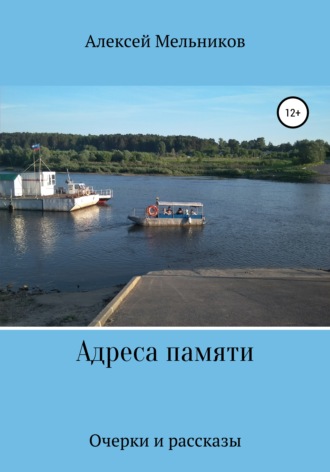 полная версия
полная версияАдреса памяти
Короче, они не могли в этой жизни не встретиться – два великих самоучки, разнополярных модерниста, генетических ниспровергателей гибельных основ – Шкловский и Циолковский. В начале 30-х годов прошлого века первый приезжал в Калугу писать киносценарий о втором. Долго беседовал. Записи, естественно, потерял. Фильм не снял. Лет через тридцать вспомнил некоторые подробности и записал: «Плачут по великим после».
Они обсуждали подробности бесед с ангелами. Будущие падения стратостатов. Минувшее – внука калужского космиста в навоз. Квашение капусты. Долги Циолковских соседям. Ближайшие полеты в галактику: скоро ли? «Мы вряд ли, – записал Шкловский предвидения калужского старца, – а комсомол наверняка полетит». Не обсуждали бедность, царившую в доме на краю улицы Кая Брута. Прошлые и будущие трагедии с собственными детьми. Минувшие и грядущие тяготы Отчизны. Все страшное должно вскорости окупиться правильным «вычислением мечты». Сердце мечты усиленно колотилось о грудную клетку модернистов. Все быстрее и быстрее. «Поэты и ученые – оптимисты, – закончит рассказ о своем космическом визави Шкловский, – они знают сроки, но они торопят время».
На Николу
Старый пазик, кряхтя, выбирает остатки турынинского серпантина. Вползает на вспыхнувшие цветущей вишней взгорки. Скатывается с них, выгоняя из-под колес душную майскую пыль. Прислоняется поочередно к бордюрам, выпуская из себя остатки городских пассажиров на волю.
Впереди, за рекой, уже маячит конечная – Ждамирово. Точнее – уходит оттуда в небо острой мачтой колокольни церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Каждый раз она величаво проплывает в автобусных окнах, тихонько покачиваясь в дальней пучине деревенской листвы. Опять не зайду…
На предпоследней остановке автобус вбирает в себя торжественно стучащих палками и озабоченных чем-то явно не сиюминутным старушек. Те шумно восходят внутрь, устраиваются на сиденья, одергивают просторные юбки и ослабляют душные узлы ярких платков. Затем поочередно ищут глазами купола ждамировской обители. Жарко обмахиваются в их сторону троекратным крестом. «Никак, на утренню», – думаю про себя, возвращаясь взором к белоснежному храму.
– Никола сегодня. Праздник. Николая Угодника, – едва переводя дух после покорения автобусных ступеней, оповещает кондуктора одна из новых пассажирок.
– Вот те на. Праздник, оказывается, – радуется нечаянному разнообразию унылых разъездов немолодая кондукторша в трениках. – Глохнешь тут на работе.
Ей хочется что-то еще спросить у ветхих паломниц. Взгляд ее из тупо-сосредоточенного делается умильным и живым. Она скидывает с себя обычную дремоту. И встряхивается, точно вышедшая из пруда утка. Явно рада поговорить по душам.
– Милай, – опережает душевный порыв кондукторши бабушка с тростью, заглядывая за водительскую занавеску. – Сделай божескую милость, доставь нас хоть еще чуть лишку – до поворотика. А то ведь ноги-то не шагають. А там мы по дорожке до церкви и сами добегим.
Автобус с ходу проскакивает последнюю остановку и, резво поплутав в деревенских закоулках, попрыгав по случайным камням и едва втиснувшись в оконечный тупичок у церковных ворот, послушно замирает.
– Дай Бог тебе здоровья, – набирает побольше воздуха в грудь прежняя просительница и продолжает им выдыхать здравицы в адрес сердобольного шофера все то продолжительное время, что высаживается на улицу. За ней следуют остальные богомолки.
– Значит, Бог сам привел. Как не зайти?.. – протягиваю и я 22 рубля за нечаянно удлинившуюся поездку.
Мне всегда нравилась эта церковь: «восьмерик на четверике». Белая, воздушная, большая и невесомая. С запасом простора. И внутри, и снаружи. Как в море. Строилась, перестраивалась, рушилась, обезглавливалась, восстанавливалась вновь и плыла по южной конечности Калуги дальше. Неся в себе незримый стержень и узримый образ Калужской Божьей Матери. Ту, что с раскрытой книжкой.
Прихожане. Лавка. Записки. Свечи. Протягиваю деньги: три. В спину кто-то толкает. Отодвигает прочь. Вижу – моя прежняя попутчица с тростью. Подминает и следующего в очереди.
– Мы вместе, – сердито бросает окружающим и воцаряется во всей лавке разом. Писать записки.
На Николу в храме оказалось всеж-таки немноголюдно. Микрофонное эхо разносит под сводами слова Евангелия. Над пюпитром с Писанием – согбенная фигура монахини. Иные кладут поклоны рядом. Храм – на попечении Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря. Черные крылья облачений Божьих невест то здесь, то там тихо проплывают по воздуху. Из Царских врат выходит моложавый священник с видом чиновника обладминистрации: гладкий, в роговитых очках и ухоженной бородке. Вокруг устанавливаются еще большее сосредоточение и благодать. Захотелось найти глазами Калужскую Божью Матерь с книжкой.
Вместо нее натыкаюсь взором на все ту же попутчицу с тростью. Бабка, ввинтившись грузным корпусом в толпу, яростно божится на Николая Угодника. Отбрасывает каждым следующим поклоном стоящих за ней притихших прихожан. Перебирает губами в молитвенном ритме. Наотмашь кидает щепоть правой руки, воинственно обозначая тем самым крестное знамение. Источает всем видом своим грубое торжество, сильную любовь и беспощадную веру.
Мне становится грустно. Под куполом по-прежнему бродит эхо божественных строк. Оно поднимается все выше и выше. Пока, наконец, не перестает ощущаться вовсе. Я выхожу на улицу и иду к своему дому еще пять километров пехом. По тарусской трассе поднимаюсь в гору. Срезаю путь по ощетинившемуся зеленями полю – широкому и стелющемуся мягким одеялом между дорогой, лесом и эхом колокольни храма Рождества. Оборачиваюсь на праздничный звон. Срываю робкую ячменную былинку. Кладу в рот. И чувствую будущий терпкий вкус восходящей на Николая Угодника новой жизни.
Оптинские стансы
С одной стороны он зажат малюсенькой станцией Тупик, ближайшей к краеугольной Оптиной. С другой – затерянным в сосновых лесах Шепелевом. Посередине – петляющая меж чахлых сосен и перепрыгивающая неглубокие ручьи неэлектрифицированная однопутка. Связывает калужские и тульские железнодорожные задворки. Нет-нет да и прогремит по ее стыкам товарняк с химикатами или тяжеленным литьем, пропыхтит рабочий или дрезина, а то объявится вдруг откуда ни возьмись международный. Скажем, Минск – Алма-Ата. Или так: Караганда – Брест.
Экспресс объявляется где-то в полдевятого утра, когда мы аккурат выгружаем из нашего путейского КамАЗа ломы, лопаты, модерон… Взрывает на десяток секунд благословенную тишину, дабы вновь надолго погрузить в нее намоленную округу. «Окно» в этой глуши – будь здоров. И поезда частыми нашествиями ни нас, путейцев, ни поселившуюся тут же в околооптинском сосняке братию скита во имя благоверного Дмитрия Солунского не донимают. Мы меняем здесь шпалы. Деревянные – на бетонные. Вооружение: ломы, лопаты, вилы, лапы…
Полдюжины шпал здесь, полдюжины – дальше по перегону, а там за «свистком» – еще три раза по шесть, потом дрезина сгрузит еще десятка три–четыре. Потом – еще…
– Чистим «ящики»! – звучит команда, и путь быстро расцвечивается оранжевыми гроздьями путейских жилетов, дружно нависшими над изношенными стыками.
Выковыриваем щебенку между порченых шпал. «Ящик» постепенно углубляется. Шпала вырастает из земли. Возвращает себе форму бруса. Щебень отгребается в сторону: деревянной шпале нужно освободить дорогу в кювет, на покой; новой бетонной – на ее место, в работу, держать рельсы с составами. Освободившись от костылей и пыхнув на прощание креозотом, старушка, подхваченная клещами, быстро сползает за насыпь. Ее бетонная сменщица, предвидя непочатый объем работы в ближайшие лет двадцать, отчаянно сопротивляется и ни в какую не желает подставлять свои плечи под рельсы.
– А ну, мужики, подходим, не стесняемся! – бригадир трясет длинной цепью, одним концом «заарканившей» непокорную, в два с половиной центнера весом тушу. Цепь раздувается в оранжевую гроздь. Это – наши согнутые в напряге спины в жилетах. На «и-и-и раз!» отчаянно рвем цепь со шпалой на себя. Та подпрыгивает, вгрызается в щебень и замирает. Разгребаем и опять: «И-и-и раз!» С четвертого–пятого рывка вталкиваем на место, в освободившийся «ящик». Далее – крепеж и засыпание щебенкой. На финише – «штопка»: машешь себе ломом, загоняя щебень под потревоженные стыки…
Чахлый Оптинский бор одаривает скупыми порциями крепких смолистых отдушек. Теплый ветер бросает их на нас с Наташей с ближнего мшистого пригорка, утыканного тонюсенькими сосенками. Ветерок сдувает с Наташиного лба легкую прядь, чтобы, поиграв с ней секунду-другую, мягко опустить на потные виски. Белесая прядь быстро напивается влагой и, потяжелевшая, упрятывается одним верным женским взмахом под кепку или за уши.
Передо мной снуют загорелые Наташины локти – упругие и красные, точно сицилийские апельсины. И вся она – крепкая и ладная в хрустящих башмаках молотобойца и охватившем ее покатые сильные формы синем комбинезоне, точно наэлектризованный шар, мечет вилами в стороны щебеночную пыль вперемежку с камнями. Обходя, однако же, редкий скребок солоноватым, точно струящийся по лбу пот, путейским назиданием: мол, вошь ядреная…
«Да, эти зэчки – тоже мне… – косится на подружек старина Бореев. – Их за 101-й тогда закидывали. Больше-то кто с кувалдой на железку пойдет». Долговязый Бореев – завзятый сплетник. Едкий и довольно вредный – точно выкуриваемый им по пачке в день «Беломор». Учился в институте. Потом подвизался по культурной части – служил, говорят, в исполкоме. За квартиру ушел стучать кайлом и заодно, видно, и на своих друзей. Так – от скуки…
«Козел», – беззлобно выдыхает Натали и, пружинисто распрямляясь, опирается на отполированный крепкими ладонями черенок тяжелых вил. Ими еще ковырять и ковырять – одну шпалу только откопали, а надо – шесть. Отрыть, расшить, вытащить и поставить новые. Через два часа – товарняк.
«Давай, давай, Ленька, шустрей!» – это она мне. Колобок неугомонный. Румяная, громкая, ядреная – на Оптинском-то захудалом перегоне, точно молния шаровая с треском перекатывается. Молотит себе вилами по насыпи, и все ей нипочем. А я и так уже футболку скинул. Лямки от комбеза по обгоревшим плечам трут. Гребу лопатой. Мокрый весь. Щебень этот чертов и духота проклятая…
Наташа бросает вилы: «Ну, харе, Ленька, перекур». И угощает теплым компотом. Мы садимся на поваленную возле насыпи сосну, и она рассказывает, как еще с брежневских времен сделалась путейцем. С тех пор: лопаты, вилы, кувалды, костыли… А я их забивать так и не научился.
«Что, серьезно?» – разочарованно глядит на меня по-детски наивным взглядом путейская мадонна, встает, и, отерев крепкие ладони о пыльные штаны, вытаскивает из кучи инструментов кувалду и костыль.
«Гляди!» – решительно придавливает его двумя пальцами к чумазой шпале Натали и взмахом молота загоняет по самую шляпку в деревянную утробу.
В обед хорошо вытянуть ноги на траве. Жара. Слышен густой сосновый дух. Сосны тут повсюду. И речка Сосенкой зовется, да и деревню заодно с ней тоже Сосенкой величают. «А сруб могучий в ските – тоже наверняка сосновый», – думаю про себя, направляясь туда за водой.
– Старец Илия сюда часто наведывается, – поясняет смотрительница, давая напиться. – В Оптиной раньше служил. Знаешь, кто он?
– Ну…
– Духовник патриарший – вот кто. Народу-у-у… Все к нему – кто к руке приложится, кто в ноги упадет…
– Да, упадешь, коли прижмет… Красиво тут у вас отстроили!
– Что вы, еще не закончили. Помощь нужна. Дороги, например, нет. Не поможете с дорогой-то? – бегло оглядывая мой рабочий комбинезон, вопрошает смотрительница.
– С дорогой? Пожалуй. Но пока только – с железной…
Послеобеденный зной насквозь прошивается ревом оводов. Ловчей отмахиваться от них лопатой. Или – ломом. Вроде дело делаешь – щебень из ящиков гребешь, а заодно и тварь эту в движении смахиваешь. Рубашка быстро тяжелеет от пота. Соленые капли переползают со лба на веки. Соль дерет глаза. Очередная бетонная туша ждет своей очереди быть затянутой под рельсы. Вновь над лесом звучит дружное путейское «и-и-и р-р-раз!». Скрежет щебня. Пыхтение полдюжины мужиков. Наташины команды. Мелькание лопат, ключей, болтов. И новая шпала заступает на многолетнее дежурство на глухом перегоне.
Парит все сильней. Назревает дождь. Овода, подстегнутые свежим ветерком, наконец, присмирели. Чуть дохнуло спасительной прохладой. Брызнули первые капли. И за ними с неба выпростался могучий летний поток. Спасаться от него нет никакого смысла. Мы с Наташей продолжаем грести вилами каменную хлябь. Старина Бореев недолго мнется и топает к машине. Мужики чвакают ботинками и звенят ломами. На перегоне по-прежнему слышен шум разгребаемого щебня.
Набрякшую водой робу снимаешь уже в кабине путейского вездехода, пока тот вскользь Оптиной усердно гребет тремя мостами к дому.
– Гляди, церква – какой день уже мимо нее шныряем, – кивая в сторону выплывших из-за поворота оптинских куполов, отжимает на пол измокшую рубаху Миха-Чапай. Здоровый малый, десантник, кулак с горшок, но попов не любит. «Жадные», – говорит.
– Сам ты – церква… Монастырь, – осекает кто-то из наших. – Книжки читай.
– Читал уже, – устало огрызается Миха, – не помогает…
– А ты – по слогам…
КамАЗ то и дело ныряет из одной топи в другую, мерно переваливается через трухлявые пни, кидает резко в стороны пейзаж за окном, то приближая качающиеся над соснами купола, то отдаляя их прочь в туман и дальше к тучам. На самых тряских ухабах слышно, как стонут рессоры измученного тягача, тревожно всхрапывает сборотый усталостью могучий Миха, и точно малые зазвонные мелодично воркуют в утробе тряской будки ломы, лопаты, модерон…
Лацис
Из альбома выпало старое фото. Калужский краеведческий музей. Вечер. Зажженные свечи. Счастливые лица. Лацис радостно жмет мне руку и вручает свернутый напополам листок. Помню, в нем был забавный стих, а может, пародия – на меня. Или – на мои газетные вирши. Кажется, все это дело сочинил Бабичев. Игорь – на фото справа и хмыкает себе в бороду.
Мы отмечаем юбилей «Калужских губернских ведомостей». Последний, когда газета была еще свободной. Год, кажется 2003-й. Но в уютном зале уже звучит «Обливион» Пьяццоллы. Через два года на Калужском шоссе Лацис попадет в аварию. Его редакционный кабинет в Малом Калужском переулке в Москве опустеет.
Еще через два года не станет Бабичева. За ним следом умрет и свобода в калужских СМИ. Потом ту журналистику, что представляли эти люди, – Лацис – в целом в России, Бабичев – в отдельно взятой Калуге, – нарекут «эпохой Лациса». Я не знаю, как односложно объяснить этот термин. Найти ему синоним. На ум приходит только одно слово – достоинство. Его не стало.
Скорее всего, их сближала одна альма-матер – журфак МГУ. Этакая кузница смыслов – тогда. Окончили они ее в разные годы. Впервые Лациса увидел в нашей редакции в конце 90-х. Четвертый этаж Калужского дома печати. Бабичев привел его в наш кабинет и попросил напоить чаем. Лацис скромно сел на подставленный стул и одернул серый пиджак с воткнутыми в нагрудный карман авторучками. Ничто не выдавало в нем бога отечественной публицистики. Золотое перо. Апостола и пророка. Просто – сосредоточенный, профессорского вида человек в очках.
Я пытался заинтересованно спрашивать, но не помню, о чем. Лацис размеренно и подробно отвечал, но помню, что – сохраняя дистанцию. Так мы и беседовали: я не дышал, Лацис говорил. Он был в составе нашего редакционного совета. И значился в титрах нашего маленького провинциального еженедельника. Бабичев ему иногда звонил. Лацис изредка приезжал. В один из приездов взял меня с собой брать интервью на «Турбоконе». Точнее, даже не взял, а меня к нему приставили. Мол, ходи хвостом и учись.
И я ходил, и понял главное: настоящая публицистика – Эверест. Взойти на него дано не каждому. И даже глядя, как это делает мастер, все равно не разгадаешь секрет. Потому что кажется, что никакого секрета нет – сиди и записывай. И не на диктофон, а в ученическую тетрадку. Лацис доставал из внутреннего кармана пиджака 2-копеечную тетрадь в клетку, снимал колпачок чернильной ручки, и начинались вопросы. О том, как жить. А заодно, как починить отечественный экономический механизм. Весь целиком. Хотя «Турбокон» занимался механизмами другого сорта – турбинными. Но и в них Лацис пытался отыскать те составляющие, что отвечают за экономическую крепость державы. О ней он, кажется, думал всегда.
Он был экономист. Пишущий. Или – писатель. Экономический. С дипломом журфака стал доктором по экономике. Точнее – по одной из них – посттоталитарной. Со Сталиным не церемонился. С его экономической машиной – тоже. Партия его «поправляла». Хотя и не так, чтобы чересчур зло – всегда оставляя «на плаву».
Лацис обнаруживался то в Институте экономики мировой системы социализма. То в компании с Мамардашвили и Карякиным в прибежище неблагонадежных советских философов – журнале «Проблемы мира и социализма». То на пару с Гайдаром – в еще менее благонадежном, позднем журнале «Коммунист». Затем – с Голембиовским в «Известиях». Сначала – в обычных, потом – в новых. Выдвигался даже в ЦК КПСС. Ему внимали. Летал высоко. Даже очень. Но никогда не прислуживал. Это раздражало.
Его тихий голос слышали все. Он был негромок, но убедителен: что для домохозяек, что для президента страны. Сегодня в полемике побеждают голосовые связки. Или – пропагандистский ресурс. В «эпоху Лациса» побеждали доводы. Культура дискуссии. Человеческое достоинство. То, что нынче решительно отброшено.
Его книжку «Выйти из квадрата» я прочитал от корешка до корешка. О том, как работала советская экономика. О том, как она умела работать. О том, что это умение можно было бы развивать, а не сворачивать. Идти вперед, а не назад. О том, как в послевоенные годы мы стали лидером по экономическому росту. О том, почему мы перестали этим лидером быть…
В одно из заседаний Клуба региональной журналистики я повстречал Отто Рудольфовича в Москве. Как рядовой репортер он скромно сидел в зале и слушал. Я подсел и передал привет из Калуги. Он рассеянно кивнул. Был явно чем-то озабочен. Оказывается, вышла его новая книга. Дабы привлечь читателя, издатели назвали ее слишком дерзко – «Тщательно спланированное самоубийство». О том, как развалилась КПСС. Лацису название не понравилось. Но сделать уже было ничего нельзя.
Я эту книгу так и не прочитал. Не знаю – почему. Мне кажется, в ней будет очень много сердечной боли. За то, как умерло то, чему ты был верен. Чему не изменил, хотя и не воспрепятствовал. Потому что – не смог. Как не смог создать идеальный механизм функционирования свободы слова. Мучительные расколы в «Известиях», вспыхнувший и угасший «Русский курьер», финальный уход в «Московские новости» – пройденный Лацисом трудный газетный путь так и не вывел его к желанной цели – создания свободной, независимой от госаппарата и олигархов прессы. Сегодня эта стезя и вовсе табу.
Редко-редко, но я беру и перечитываю публицистику Лациса. И каждый раз – все с большей горечью. С ощущением стремительно углубляющейся пропасти между тогда и сейчас. Между настоящей журналистикой и той, во что она превратилась после. Когда такое качество, как достоинство, перестало браться в расчет. Когда профессионализм и порядочность в прессе – в изгоях.
В последний раз я так и не смог встретиться с Лацисом. Я хотел зайти в Москве к нему в редакцию в Малом Калужском переулке. Передать какой-то материал. Мне сказали: оставьте на вахте. Я оставил. Вышел на улицу. Дошел до стен Донского монастыря. Взглянул на окна своего родного Дома Коммуны. Побродил по знакомым со студенческих лет улочкам. Задумался о том, что все в жизни проходит. Плохое проходит, но и хорошее – тоже. Отправился на Киевский вокзал. Сел в электричку. И вернулся в Калугу.
Старое фото с Лацисом и Бабичевым я снова вставлю в альбом. Не знаю, достану ли когда-нибудь еще…
Школа игры на аккордеоне
По сути, он мой ровесник – этот перламутровый «Вельтмейстер» на 3/4, что отец купил, когда служил зампотехом танковой роты в Потсдаме. Дело было сразу после эпатажного закрытия восточными немцами границ Западного Берлина: с нервами, танками, замурованными окнами первых этажей зданий и сооружением будущего символа расколотой нации – Берлинской стены. В это неспокойное время вместе с аккордеоном в семье появился и я. С тех пор мы с моим другом не расставались. Хотя и общаемся нерегулярно.
Школьником мучил соседей по дому арпеджио, гаммами и бесконечными этюдами какого-то Черни. Возил зачем-то в рюкзаке на лето в деревню. Таскал на экзамены в музыкальную школу – та располагала вечно кашляющими и отчаянно сипящими инструментами калужской фабрики «Аккорд». Растягивал дома меха, уже будучи взрослым, когда ни с того ни сего наваливалась грусть, и пальцы, тихо поглаживая гладкие клавиши, сами собой отыскивали на клавиатуре «В лесу прифронтовом». Или, напружинившись, кидались опрометью с одной октавы на другую, выбивая, точно чечетку, жгучую «Смуглянку».
Порой я сильно охладевал к инструменту и тогда превращал свой «Вельтмейстер» в гантель – поднимал по утрам чемодан с аккордеоном в качестве зарядки. Это продолжалось до тех пор, пока отец, глядя на мою размолвку с музыкой, однажды не купил мне пудовую гирю. Та выполнила свою миротворческую миссию – «Вельтмейстер» вскоре вновь обрел голос, а мои пальцы – ля-минорные импровизации. Ноты я не любил. С детства. Как не любят строгих учителей: внешне трепещут, но в душе преклоняются.
Таковым для меня был автор главнейшей в СССР «Школы игры на аккордеоне» – Альфред Мирек. Все пять нескончаемых лет учебы в музшколе этот таинственный и всемогущий Альфред нависал над пюпитрами точно грозно взирающий на нас, мучеников гамм, с потолка Сикстинской капеллы седобородый всевышний. Я знал, что это – аккордеонный бог. И именно он, а не мы, заставляет звучать наши аккордеоны эталонным звуком. То есть ровно так, как они поют свою «Sous le ciel de Paris» в кафешках Монмартра.
Короче, Мирека я боялся. Но внутренне чувствовал тягу к этому аккордеонному мудрецу. Потому что, во-первых, доверял своему другу «Вельтмейстеру», которой, точно знал, никогда не пойдет за тем, кто способен научить неверному звуку. И я подчинился свободному и, если угодно, по-французски легкому и прозрачному звучанию своего аккордеона. Его весенне-капельному настроению, задушевной интонации, откуда ни возьмись слетевшему на клавиатуру парижскому акценту – короче, всему тому, что незаметно вдохнул в самый свободолюбивый инструмент наш советский аккордеонный бог.
Он, этот бог, как я выяснил впоследствии, был далеко не советский. По сути – диссидент. Многолетний узник ГУЛАГа. Стойкий критик тоталитарной системы. Одновременно – отменный музыкант, педагог, историк, доктор наук. Короче, все пять лет в советской музыкальной школе мы учились по каноническому учебнику, написанному упрямо-открытым антикоммунистом, антифашистом и поборником христианско-демократических идей Альфредом Миреком. И это в брежневскую-то эпоху…
Конечно, в детстве я того не ведал. Исправно таскал мирековскую «Школу игры на аккордеоне» на занятия по специальности. Тужил, когда приходилось «пилить» из нее гаммы, радовался, когда попадался Дунаевский. В досаде забрасывал надоедливый учебник далеко в шкаф. Долго не доставал. Даже терял одно время. Вновь находил. Опять листал. Устанавливал пюпитр, щелкал чемоданными застежками и расчехлял инструмент. Клал руки на клавиши и слушал предписанную педагогом и подхваченную аккордеоном тему. Проверял на слух: верна или нет? Свободна или не очень? Правдива или не совсем?..
Школа игры на аккордеоне… Она не закончилась с получением аттестата. Я продолжаю пребывать в ней прежним учеником: старательным и по-детски доверчивым, почтительным к мэтрам и насмешливым к их назиданиям одновременно. Ничего не изменилось во мне с тех пор. Разве что чуб с проседью. И все прислушиваюсь к голосу вровень постаревшего со мной верного друга «Вельтмейстера». Хрипотца в тембре – переживем, в главной бы мелодии не сфальшивить…
Сашичка
Он же – господин Седой, или некто Гусев, также – велемудрый секретарь, журнальный лилипут, алкоголизмус, инфузория, владыко, голова садовая, или проще – безнравственный брат, бедный родственник. Или – совсем просто: ненастоящий Чехов… Столькими именами (впрочем, это только часть их) удостоил своего фонтанирующего талантами и всяческими безрассудствами старшего брата наиболее привязанный к нему из чеховского клана средний брат Антон. Александр Чехов – самый гениальный, как утверждают многие чеховеды, из семьи великого русского писателя. Может быть, даже способней самого Антона Павловича. Не исключено, что так…
Столькими талантами одарила его природа, что трудно их все сразу и пересчитать. Впрочем, счет этот надо всякий раз удваивать: на каждую Богом данную искру бурлящая натура Александра Чехова ответствовала прямо противоположным затмением дьявола. Во всяком случае ни одно из уникальных дарований Александра, могущее его превратить хоть в маститого химика, хоть в знатного лингвиста или, скажем, из противоположных отраслей – орнитолога, музыканта, повара, художника, мецената – ни одно из них, повторяем, не реализовалось в полной мере и позволило себя попрать, по сути, одной непобедимой на Руси напастью – алкоголем.