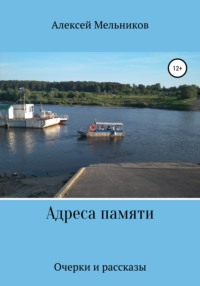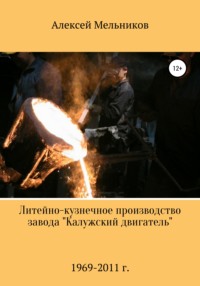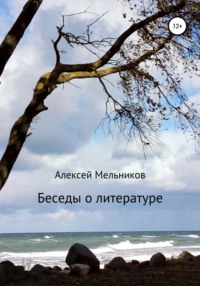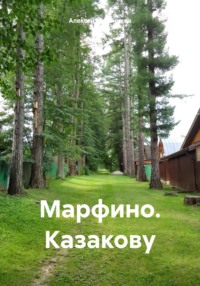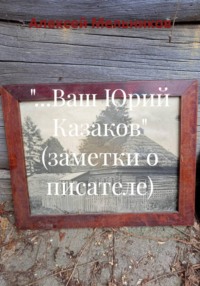полная версия
полная версияБеседы о науке
Как-то на открытии в середине 90-х в городе Кирове первого по сути в области предприятия с иностранным инвестированием – молочного завода, построенного по линии фонда «Калуга-Швейцария» – губернатор Дерягин искренне восхищался не столько щедростью западных инвесторов, сколько … качеством сварных швов в молочных емкостях и молокопроводах, установленных на новом предприятии. Очевидно, талантливому физику и инженеру Дерягину было ясно, что о высоком качестве экономики при косо сваренных трубах говорить бессмысленно. Поэтому он в разговорах с непривыкшими к такого рода нотациям областными начальниками начинал «плясать от печки».
На его еженедельные планёрки в областном правительстве мы, калужские журналисты, ходили, как во МХАТ. Точно на царившего незадолго до того в Художественном театре Смоктуновского: фантастически талантливого, умного, пронзительного, временами едкого, но всегда открытого и честного профессионала. В расстегнутом пиджаке, упёршись руками в пояс, Дерягин метался по залу облправительства, всякий раз горячо и по существу обсуждая очередную тему заседания. И всякий раз поднимаясь над ней гораздо выше, чем то было предусмотрено в ранее утвержденной повестке дня. А именно: философски осмысливая любое, даже самое ординарное постановление. Впрочем, вся эта циркулярная возня была второстепенной в деятельности губернатора Дерягина. Ключевой задачей было – выстоять в кризисный тайфун 90-х. А может и еще сложней – принять на себя удар ответственности за его разрушительные последствия. Не потому, что ты виноват, а потому, что некому больше.
Дерягин был не похож на настоящего чиновника. Того, как известно, отличает взгляд не «на», а «сквозь». Холодный такой, стальной зырк сквозь всякого, кто ненароком попадается высокому российскому начальнику на его пути. Прожиганию глазами «лишних» похоже сегодня даже учат восходящих звёзд провинциальной политики. Те делают большие успехи в сих царедворских премудростях, в коих первый калужский губернатор был абсолютно не искушён. Неискушённость эта губернатора-физика в общем-то впоследствии и сгубила. Когда уже его самого, так и не научившегося «жечь глазами холопов», в 1996 году прожгли, но уже в президентской администрации. Не привыкший к навязываемой ему холопьей роли, гордый Дерягин послал всех к чёрту, хлопнул дверью и вернулся в науку. Точнее – в то, что от неё осталось.
В период своего пятилетнего губернаторства Александр Дерягин пережил одну из самых своих тяжёлых профессиональных драм – крушение российской электроники, под обломками которой было погребено и его родное ПО «Гранат». «Что Вы об этом думаете?» – опрометчиво спросил я как-то Александра Васильевича на пресс-конференции. Сразу почувствовал, что Дерягин вот-вот заплачет, и уже проклял себя за нетактичность. Тот какое-то время помолчал и, следуя своему неукоснительному правилу – честно отвечать на любые вопросы прессы, – печально глянув, начал неизбежный и мучительный для себя комментарий со слов «Вот, взял и расковырял самую больную в душе болячку …»
Свобода слова для губернатора Дерягина была, в самом деле, не пустой звук. Прессу он чтил, но никогда с ней не заигрывал. «Я успеваю прочитать все местные газеты, пока поднимаюсь утром на работу в лифте с первого этажа на четвертый», – услышал я как-то от него убийственный комментарий по поводу цены всех наших журналистских усилий. Горькую пилюлю пришлось проглотить, ибо знали: Дерягин всегда искренний, и ни один местный журналист никогда не бросит в него камень, мол, губернатор зажимает критику. Раз даёт честно высказаться всем, почему ему – губернатору Дерягину – нельзя сказать то, что он о нас думает.
Впрочем, к теме прессы мы много позже с Александром Васильевичем вернулись. Когда он уже избавился от губернаторских регалий и пребывал в должности президента Калужского научного центра (КНЦ). Было ясно, что местные газеты он всё-таки читает дольше, чем время подъема лифта на четвертый этаж. Я понял это в том числе и по хорошему знанию материалов нашего независимого еженедельника. Оценке остроты затронутых в ней тем. А также – неожиданному вопросу: «А ты в союзе журналистов-то состоишь?» «Нет. А зачем?» «Хочешь, дам характеристику для вступления?» Честно говоря, я минуту колебался: соглашаться или нет? В предложении Дерягина меня прельщало лишь одно: возможность получить развернутый автограф известного физика-теоретика, члена-корреспондента Академии наук. Показал бы на старости лет детям и внукам. Но стойкое нежелание говорить … точнее, молчать строем всё-таки перевесило, и я отказался. Дерягин понял.
Тема прессы всё-таки продолжала связывать нас с Александром Дерягиным ещё долгое время. Как член-корреспондент РАН он регулярно получал журнал «Вестник РАН», который приходил в Калужскую область всего-то двум подписчикам, действующим членам Академии – Александру Дерягину и академику Владимиру Кирюхину с Калужского турбинного завода. Вот за этим интереснейшим научным изданием, а также просто поговорить с мудрым собеседником о науке и людях в ней я регулярно и захаживал к Александру Васильевичу в его маленький кабинетик в КНЦ. Брал почитать «Вестник», дабы не прокисли мозги на провинциальных анекдотах. После Александр Васильевич относил журналы в областную библиотеку – в качестве подарка всем любознательным. Пусть, мол, народ просвещается…
Он и остался в памяти многих как губернатор-просветитель, интеллектуал, убежденный либерал и просто чрезвычайно порядочный управленец. Впрочем, эта стезя сегодня не особо котируется. Скажем так: она не в тренде. Если и выпадает некоторым на неё ступить, то, видимо, в качестве исключений. Отдельных элементов. Слишком, видимо, редкоземельных…
Физик-атомщик Олег Казачковский
Свой век физик Казачковский почти что выровнял с календарным – прожил долгие 98 лет. И в той же степени соотнёс его с веком событийным: война гражданская, нужда послевоенная, всевобуч, ленинский завет, патриотический подъем, индустриализация, ранние побудки по заводскому гудку, рывок к знаниям, университет, комсомол, первые научные труды, аспирантура, военные сборы, война… Последняя – «от звонка до звонка». И даже – дольше. Не многие будущие научные светила отметились столь героическими и бурными мытарствами по передовым полкового разведчика-артиллериста, коим в звании гвардии-капитана при трёх боевых орденах и нескольких медалях завершил свой суровый фронтовой путь будущий основоположник первого российского атомграда.

В Обнинске его называли просто – человек-легенда. Или ещё проще – патриарх. В прежние времена ещё и – отец города. Это, когда Олегу Дмитриевичу пришлось возглавить в середине 70-х Физико-энергетический институт (ФЭИ) – градообразующее обнинское ядро. Тот самый ФЭИ, что выносил внутри себя первую в мире АЭС. И – не только её. Но с лёгкой руки Александра Лейпунского вышел ещё и на такие уникальные направления, как разработка ядерных реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем для подводных лодок, космических аппаратов с опять же ядерными энергоустановками, наконец – реализация фундаментального направления ядерной энергетики – реакторов на быстрых нейтронах…
Мы поднимаемся с Казачковским по лестнице в актовый зал Обнинского дома учёных. Олег Дмитриевич осторожно, но вполне уверенно для своих девяти почти десятков лет преодолевает подъём, опираясь на разветвленную внизу на четыре опоры для пущей устойчивости особенную трость. На дворе – 2003 год. ФЭИ отмечает 30-летие пуска первого, по сути, промышленного реактора на быстрых нейтронах, что соорудили в пустынном казахском Мангышлаке. Встречающаяся по пути в зал почтенная публика уважительно раскланивается с моим собеседником. Чувствуется, что рядом с тобой тот, без которого заседание не начнут…
«Реактор БН-350 по решению Славского (глава Минсредмаша – прим.авт.)начали строить там, где была потребность в источнике энергии, – вспоминает на ходу патриарх обнинских атомщиков, – на полуострове Мангышлак, на пустынном берегу Каспийского моря. В пустыне казалось менее рискованно. Там как раз начиналась разработка богатых месторождений полезных ископаемых. В энергетическом отношении Мангышлак должен был длительное время оставаться автономным. В качестве ядерного горючего было решено применить уран, а не плутоний. БН-350 исправно работал длительное время…» Собственно, ему, первому промышленному быстрому ректору и был обязан приютивший его город Шевченко (теперь Актау) своим бурным расцветом: электричеством, пресной водой, новыми жилыми кварталами, парками, садами…
Чувствовалось, что столь отдаленный адрес во многом пионерского научно-промышленного объекта не долго радовал обнинских атомщиков. И Казачковского – в том числе. Безопасность – безопасностью, её, слава богу, удалось реализовать, а вот с политическими препонами разобраться не получилось – рухнувший Советский Союз придавил своими обломками надежду на функционирование уникального ядерного объекта. Оказавшееся в одночасье за границей детище обнинских физиков сразу же почувствовало острый дефицит квалифицированных кадров и вскоре БН-350 пришлось остановить.
О быстрых реакторах Казачковский вообще мог говорить часами: с датами, цифрами, фамилиями, именами и отчествами. Даром, что посвятил им почти 65 лет жизни. Часть из них – на пару с великим основоположником темы – Александром Лейпунским; часть – в товариществе с другими могучими соратниками не только по Физико-энергетическому институту в Обнинске, но и близкого ему по духу Институту атомных реакторов в Дмитровграде. В обоих Олег Дмитриевич успешно директорствовал и продвигал решение проблем реакторов на быстрых нейтронах по десятку и более лет.
А началось всё в далёком 1950-ом, когда только что взявший Казачковского к себе в Обнинск, в Лабораторию «В» Лейпунский довёл до руководства страны доклад о перспективах реакторов на быстрых нейтронах, где в отличие от традиционной технологии с использованием тепловых нейтронов удаётся осуществить воспроизводство ядерного горючего. То есть использовать в качестве топлива не только крайне редко встречающийся в природе изотоп урана-235, но и находящийся в достаточном количестве уран-238.
«Нам повезло, что во главе Проблемы стоял Лейпунский, – вспоминал подробности грандиозной научной эпопеи профессор Казачковский. – Это был учёный, обладавший глубокими всесторонними знаниями в области не только науки, но и техники. В успешном развитии работ по быстрым реакторам и, прежде всего, в начальный, самый ответственный период, когда требовались весьма неординарные решения, его неоценимая заслуга. И ещё нам повезло, что руководителем отрасли многие годы был выдающийся организатор Славский. Ефим Павлович, будучи по образованию инженером, неплохо разбирался и в основных принципах атомной науки. Он всегда доброжелательно и с пониманием относился к Александру Ильичу и был убежденным сторонником Проблемы РБН».
Судьба сводила Казачковского со многими выдающимися людьми: И.В.Курчатов, А.И.Лейпунский, Е.П.Славский, А.И.Алиханов, А.П.Александров, Д.И.Блохинцев, Г.И.Марчук, А.Б.Мигдал, Д.Ф.Устинов, Б.Н.Ельцин… Столь представительный арсенал визави не мог, естественно, не искушать их обладателя на написание подробных и глубоких мемуаров. И Олег Дмитриевич, не оставляя чисто научных изысканий и работу в родном ФЭИ, однажды (уже в преклонном возрасте) взял и засел за написание этих самых мемуаров. Пришлось начинать с самого начала – екатеринославского детства, учёбы в ФЗУ, Днепропетровском университете, комсомольской работы… Длинная жизнь вполне тянула на внушительную эпос о судьбе простого советского физика, шагнувшего из провинциальной постреволюционной нужды, из грохочущих машинстроительных цехов сквозь окопное военное лихолетье в настоящую большую науку. В ней физик Казачковский плодотворно и честно проработал три четверти века, будучи отмеченным однажды главной Премией, так почитаемого им Владимира Ильича.
Но только лишь кабинетной наукой неукротимый темперамент выдающегося патриарха обнинских ядерщиков никак не ограничивался. Казачковский постоянно балансировал между наукой и администрированием. Первая тянула, второе оттягивало. Долгие годы профессор Казачковский смотрел на любимую им ядерную физику сквозь призму ассигнований на оборудование, строительство жилья и детских садов для сотрудников ФЭИ или НИИАР, сквозь проблемы отопления жилфонда, газификации, докладов в обком и выделения автобусов для поездки своих сотрудников в подшефный хвастовичский колхоз на картошку…
И, тем не менее, каждую из пяти своих книг мемуаров Олег Дмитриевич озаглавливал всякий раз начиная с одного и того же, священного для него, слова – «Физик»: «Физик на войне», «Физик за границей», «Физик в нашей жизни», «Физик о войне и мире», «Физик на службе атома». Последняя лежит сейчас передо мною на столе с автографом автора…
Конструктор космических аппаратов Георгий Бабакин
На стене в моей рабочей мастерской, где теснятся инструменты, вилы, грабли, метлы, а также триммер «Штиль» и газонокосилка «Партон» – короткая полка с книжками и всего одно фото. На первой – пушкинская «История Петра», томик Руставели, два шикарных тома из Ленинского ПСС – периода Первой мировой, книга бесед с Мерабом Мамардашвили и юбилейный буклет предприятия, где в его калужском филиале всем этим хозяйством я в свою нынешнюю пенсионерскую бытность заведую – НПО имени выдающегося самолетостроителя страны Семёна Алексеевича Лавочкина. Но с фотографии в мастерской на меня смотрит не он, а его приемник – тонкое аристократическое лицо, слегка усталый взгляд, на груди звезда Героя Соцтруда и маленький золотистый кругляшок – Ленинская премия. Георгий Николаевич Бабакин – человек, о котором сегодня мало кто помнит.

Фотопортрет
Бабакина попал мне в руки почти случайно. На фирме шла очередная компания по уничтожению старых документов с грифом «ДСП», и среди потертых рулонов чертежей, отживших свой век служебных записок и истлевших докладных нечаянно обнаружилась большая стопка старых черно-белых фотографий. На них один и тот же человек («тонкое аристократическое лицо, усталый (да, нет, пожалуй, ещё и не совсем усталый, а добродушный и живой) взгляд») в разные периоды жизни: молодой в летней футболке с маленьким сынишкой в обнимку; всё еще молодой и жизнерадостный с родственниками на даче; уже в более солидном возрасте среди военных с генеральскими звездами за изучением хитрых космических приборов; серьезный за столом в президиуме какого-то важного научного сборища; где-то в далеких 60-х на улицах Европы на фоне городского фаэтона, запряженного осанистой лошадкой. Плюс – несколько рисованных, чувствуется, ещё на старых кульманах, схем выхода на лунную орбиту первых наших межпланетных кораблей. Наконец – ещё одно фото, совсем старое: интеллигентное мягкое лицо молодого военного в фуражке, прапорщик-артиллерист. И подпись на обратной стороне – Николай Бабакин
. Отец будущего покорителя межпланетных расстояний…
В руках разом оказалась блестящая и громкая история окончательного преодоления человеком пут земного притяжения с выходом на магистральные пути к другим планетам. Точь-в-точь, как грезил много лет назад совсем уж рядом с моей, напичканной лопатами и старыми космическими фотографиями мастерской, – в не менее заставленной станками, верстаками и велосипедами самый смелый предсказатель скорых межпланетных путешествий полуглухой учитель школьной физики Циолковский. «Москва – Луна, Калуга – Марс», – предначертал он как-то наскоро в своих блокнотах предположительные первые маршруты прочь из земного притяжения. И не ошибся.
Если сказать, что юный монтер московских радио и телефонных сетей Георгий Бабакин с детства мечтал покорить Марс, Луну и Венеру, то это было бы явной натяжкой. Ни о чем таком экзотическом этот рукастый и добродушный малый с вечным паяльником в руках и мотками телефонных кабелей под мышкой, конечно же, не грезил. Да и какие звезды, если надо как-то кормиться рабочей профессией, если из всего профессионального образования – за спиной всего лишь полугодичные курсы радиомонтеров. Если вполне удачной поначалу кажется карьера наладчика радиоузла парка в Сокольниках. Нет, никаких ракет и внеземных цивилизаций в голове у молодого радиомонтера, скорее всего, не было. И, соответственно, канонического паломничества к отцу космонавтики Циолковскому в Калугу, как, скажем, у будущего шефа Бабакина – Королева – тоже не предусматривалось.
Межпланетные путешествия захватили Бабакина гораздо позже. В самом финале жизненного пути. Увы, короткого, но благодаря именно его лунно-марсианско-венерианской одиссее осветившем весь этот путь ослепительной вспышкой гениальной конструкторской мысли. Выйдя в своё время из «лавочкинской» шинели, в коей Бабакин добывал навык конструирования крылатых ракет и систем управления к ним (самолеты к концу 50-х на фирме перестали доминировать), будущий отец межпланетных круизов сумел нам одном из совещаний приглянуться Королеву. Тот, послушав толкового конструктора, заключил: "В этом есть искра божья".
Она, эта искра, видимо, и подсветила правильный путь руководству страны, решившему в середине 60-х выделить направление дальнего космоса и межпланетных станций из необъятного хозяйства Королева в отдельное направление, поручив заниматься им многоопытной лавочкинской фирме. И – ее новому руководителю Георгию Бабакину, преемнику рано ушедшего Семена Лавочкина. Выбор в пользу Бабакина был не самый ординарный. Без громкого имени. Без научных степеней. Даже без очного инженерного образования. Только – заочное, диплом о котором будущий отец советских луноходов и марсианских зондов вымучивал в редкие рабочие тайм-ауты на протяжении 20 лет. Просто человеку некогда было растрачиваться на «бумажную возню». Конструкторский и изобретательский пыл Бабакина требовал от его носителя полной отдачи без отвлечений на «посторонние» вещи. И последние шесть лет своей жизни выдающийся конструктор ни на что другое, кроме Марса, Луны и Венеры, не отвлекался.
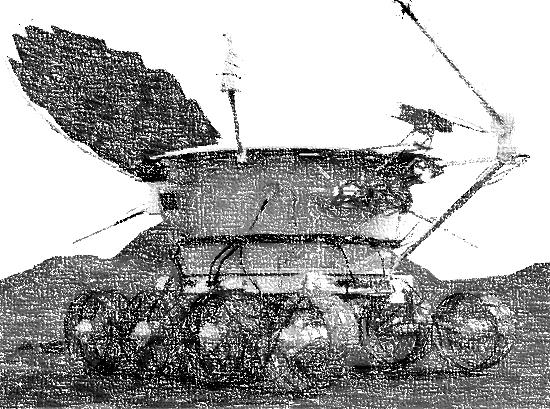
«Шестилетка Бабакина» – с 1965 по 1971 годы – выдалась в отечественной и мировой космонавтике блестящей. И в первую очередь, благодаря усилиям возглавляемого Бабакиным НПО имени своего учителя Лавочкина. Первый облет Луны, первая мягкая посадка, первый спутник, первый забор лунного грунта и доставка его на Землю, первый луноход, зонды на Марс и Венеру. Удачные пуски чередуются с неудачными. Но успешные преобладают. Триумф американских «Аполлонов», мягко прилунивших астронавтов, вполне достойно отсвечивается советскими межпланетными наработками. Выясняется, что наши лунные беспилотники не глупее и не ленивее живых астронавтов. Не менее работоспособны. И главное – дешевле.
Усилиями Бабакина и его людей отставание в лунной гонке с американцами уже не видится столь трагическим, а после заброски туда на редкость деятельного и выносливого лунохода и вовсе перестаёт беспокоить нашу власть. Та с радостью на одном из съездов партии заслушивает «Интернационал», что прислан был с поверхности Луны одним из успешных советских автоматов. Это был явный сигнал к тому, что «на пыльных дорожках далеких планет» наши следы самые заметные.
Они, эти наши следы, также первыми были обозначены на Марсе и Венере. Всего за «шестилетку Бабакина» Советский Союз совершил 15 не то чтобы успешных, а уникальных пусков к другим планетам. Пионерских. Поистине, колумбовских. Добавивших и лавочкинцам, и стране в целом новых отблесков космической славы. Впрочем, так и не позволивших забронзоветь и почивать на достигнутом главному зодчему советской межпланетной космонавтики. Бабакин, будучи уже увенчанным за свои лунные триумфы звездой Героя и Ленинской премией, даже в ранге генерального конструктора не чурался прежнего рукоделия с приемниками, паяльниками, телевизорами и микросхемами. Мог разом засесть за монтажный стол и искать неполадки в схемах космических аппаратов. В самые жаркие периоды лунной гонки сутками не вылезал из цехов. Умел ладить с людьми – не [RbD2]даром сорок лет прожил в московской коммуналке. Применял это умение на практике – не злоупотреблял приказами, а воспитывал просьбами. И вообще, в памяти коллег остался с располагающим и нежным обращением к своим соратникам по космосу – «голуба» …
Бешенный ритм советских космических проектов и гигантская нагрузка одного из главных их зодчих, Георгия Николаевича Бабакина, сделали свое дело – на 57-году жизни не выдержало сердце. В 1971 году выдающегося отечественного конструктора, человека, пробившего первые дороги к нашим космическим соседям, переоткрывшего с помощью своих космических автоматов Луну, Венеру и Марс, не стало. Путешествия по Солнечной системе с тех пошли без него. Увы, всё реже – с отечественных стартов. Подобного гигантского всплеска межпланентной активности стране нашей больше повторить не удалось. Хотя земляне в целом за это время отправили своих автоматических посланцев и к Юпитеру, и к Сатурну, и далее вплоть до Плутона, и даже умудрились оставить его где-то позади, рассчитывая одновременно прогуляться пешком теперь уже не только по Луне, но даже и по Марсу. О чем сегодня не устаёт твердить ещё один окрыленный межпланетными вояжами деятельный мечтатель – Илон Маск, появившийся, кстати, на свет ровно в тот год, когда ушел Бабакин.
Я не снимаю его портрет со стены. До последнего дня хранил и все попавшиеся мне по случаю его архивные фото. Но вот на днях ко мне в мастерскую заглянул кто-то из наших молодых конструкторов и удивленно охнул: «Бабакин! Ценнейшие старые фото. Хоть экспозицию делай. Откуда?..» Я не стал уточнять, откуда, собрал всю пачку и отдал потерянный и вновь обретенный архив нашим молодым исследователям, новому поколению лавочкинцев – на память…
Академик Лев Окунь
Когда я позвонил в редакцию сухиничской газеты «Организатор», что в Калужской области, и попросил рассказать об их земляке, академике Льве Борисовиче Окуне, то на том конце провода удивленно спросили: «А кто это?» Я сказал: «Выдающийся отечественный физик-теоретик». В телефоне хмыкнули, и после недолгого молчания последовал довольно ехидный вопрос: «А он из какой деревни?» Вот этого я как раз-то и не знал. Сухиничские репортеры, почувствовав мое замешательство, перешли в решительную контратаку: «Нет у нас такого». И – победно повесили трубку.

Испытав фиаско в Сухиничах, я уже побаивался звонить соседям – в Думиничи и Людиново. Там до войны работал отец Льва Борисовича. А во время войны – сражался с фашистами. Может быть, в районе сохранилась какая-то история об этой семье. Но подумал-подумал и звонить не стал. А написал напрямую самому Льву Борисовичу в Москву, в Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ): мол, не согласился бы он поделиться со своими забывчивыми земляками да и всеми соотечественниками тоже размышлениями о путях развития современной науки, особенно близкой ему физики. И заодно вспомнить свое сухиничское детство.
Лев Борисович любезно ответил, попросил набросать примерный перечень вопросов и поближе к разговору определиться с датой и местом интервью. Но вскоре прислал новое письмо с извинениями: в связи с тяжелой болезнью и возрастом (академик Окунь с 1929 года рождения) просил разговор отложить на неопределенное время. Я ждал. Время шло. В конце 2015 года это время кончилось: Льва Борисовича не стало. Мне показалось, что может не стать и памяти о нём там, где он родился. Там, где должны были бы по идее гордиться именем академика Окуня, но вместо этого высокомерно отпускают: «А он из какой он деревни?..»
Можно сказать, что выдающийся российский учёный Лев Окунь приобщил нас к одному из самых громких открытий современной физики. Словосочетание «адронный коллайдер» знают сегодня практически все, вне зависимости от наличия каких бы то ни было познаний в теоретической физике. Есть подозрение, что знают даже те, кто напрочь успел позабыть законы Ньютона и Паскаля. Равно как и те, кто ничего еще определенного не успел о них разузнать, – то есть дети.
БАК (Большой адронный коллайдер) сделался сегодня не только героем самых громких научных публикаций (в том числе и Нобелевской лекции Питера Хиггса), но и многочисленных произведений масскульта: коллайдер удостоился ролей в телесериалах «Лексс», «Южный парк», «Одиссея-5», «Футурама», «Теория большого взрыва», в фильмах «Ангелы и демоны», «Бросок кобры», вдохновил писателей и программистов на написание ядерных фэнтези и компьютерных игр на ту же самую тему, а художников и скульпторов – на изваяние чего-нибудь этакого непременно адронного. В частности, художника Николая Полисского – на сооружение инсталляции из дерева и лозы под всё тем же наименованием – «Большой адронный коллайдер». Правда, в отличие от прототипа, деревянный БАК был построен не в Швейцарии и не на берегах Угры, где маэстро пребывает, а в Люксембурге. Казалось бы, сплетенный из лозы «коллайдер» – все, что земля Калужская может сегодня положить на алтарь современной физики. Однако это далеко не так.