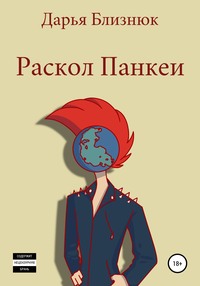полная версия
полная версияУбогие атеисты
– Я и так многим обязан, да и вообще ещё не готов узнать свою судьбу. Я её это… побаиваюсь, что ли, – спасается Чмо.
– Понимаю, душка. Но когда-нибудь ты решишься, – «утешает» его ворожея.
– Угу, – почти шарахается Чмо, после чего проклёвывается молчание, и чета безмолвно сидит друг напротив друга. Чмо ёрзает от неудобства и встаёт, чтобы отнести тарелку в раковину, однако лосины уж слишком подчёркивают непристойные выпуклости. – Ах, я бы сама помыла, но, понимаешь, у меня же… но-о-огти, – опять вздыхает бестия. Чмо моет за собой посуду, пока она продолжает сказ: – Раз ты остался без крыши над голово-о-ой, то живи у меня. Будешь помогать с уборкой, обучишься гаданию… И вообще, я запрещаю тебе возвращаться! Это будет слишком унизительно. Ты должен знать себе цену. Твоё возвращение будет названо «приполз на коленях», а тебе зачем их самодовольная победа? Тем более когда я готова обеспечить тебе жизнь в достатке, душка.
Если честно, Чмо не желает оставаться в этой вульгарной квартире и связывать себя долгом перед колдуньей, но ещё сильнее ему претит возвращение к Готу и Фитоняше, поэтому он любезно принимает продолжение, подспудно боясь расплаты.
Курчавая ведьма заводит его в зал с мебелью сигнально-красного цвета. Жёсткий диван стоит посреди стены, по бокам от него торшеры. На тумбе валяются бусы из сушёного граната. В углу одиноко лежит кирпич. Шторы похожи на стекающую по стенам кровь. Чмо шарахается от агрессивности комнаты, но хозяйка сообщает, что теперь она принадлежит ему.
«Но ведь в ней совершенно невозможно сочинять! – мысленно восклицает Чмо, – и нет Матвейки…»
– Зачем ты хранишь кирпич? – задаёт один из многочисленных вопросов, которые пронизывают его своими крюками, как рыбу.
– А, это для самозащиты. Вместо перцового баллончика, – отмахивается женщина с до сих пор неизвестным именем.
Но оно не имеет значения. Потому что Чмо удерживает вовсе не она. Его удерживает Гордость. Которая ни за что не отстанет просто так. Ни за что не отпустит. И не отвяжется, пока не дождётся просьб и молений о возвращении.
Искусство как изврат
Гот стоит на своём участке, раздаёт буклеты. Эта секта уже мозолит ему обведённые чёрным очи, и он решает хотя бы поверхностно оценить её суть. Какой-то духовный учитель призывает к тишине, спасающей от конца света. Ничего нового. Гот даже возмущается тем, что является посредником между религиозным бредом и людьми. Почему бы ему не проталкивать свою идею? После ухода Чмо у него сложилось целое представление об искусстве и о том, как его правильно понимать.
Гот бросает лакированные листовки в железный мешок уличной урны и возвращается в родной хаос. Там кутается в растянутый кардиган, потом находит блокнот с эскизами, ещё потомнее – свободные страницы, не занятые формами рта, и пишет:
«В эпоху постмодерна, когда общество устаёт от традиционных форм и взглядов, а молодёжь стремится выделиться из толпы, заявить о себе, приходится сталкиваться с довольно смелыми, яркими и сомнительными “произведениями искусства”. Чтобы быть оригинальной, богема вынуждена изощряться и выходить из положения хитрыми причудливыми способами. И возникает вопрос: где, собственно, искусство, а где извращённые элементы пустого шоу? Как вообще соотносимы искусство и изврат? Можно ли изврат всегда называть искусством? Могут ли любые проявления искусства считаться извратом? Или только определённые новаторские идеи перегибают палку и переходят грань возвышенного?
Итак, чтобы ответить на эти вопросы, вначале дадим определения “искусству” и “извращению”.
Искусство – это форма творчества, способ духовной самореализации человека посредством чувственно выразительных средств: звука, пластики тела, рисунка, слова, цвета, природного материала и так далее.
Получается, что искусство – это всегда сублимация, выплёскивание эмоций, отражение своей души, выражения впечатлений. То есть искусство – понятие эмпирическое. Если следовать этому определению, то техника и качество произведения не имеют значения. Но разве можно назвать обилие зарифмованных матов – выражение чувств через слово – искусством? По-моему, нет.
Извращение – (лат. perversiō “переворачивание”) в высшей степени неестественное поведение, полное искажение, уход от нормы, постановка “с ног на голову” (Толковый словарь Ожегова).
Фактически, извращение не противоречит искусству. Одно понятие не исключает другое и, более того, искусство даже предполагает извращение. Искусство способствуют мыслить нестандартно. “Ставить пощёчину общественному вкусу”. Но бывает и следующая ситуация – изврат искусства.
Это уже интересней. Как же можно извратить созидательное, высокое и зачастую даже терапевтическое? Разрушением? Вандализмом? Но ведь и в этом присутствует эмоциональная вспышка, эффект, творение хаоса. Тогда, предположим, нравственное обеднение. Полный распад личности. Духовную слепоту. В такой ситуации на искусство не остаётся и намёка, но намёка не остаётся и на извращение. Уничтожены оба полюса.
Так существует ли граница, за которой искусство превращается в вульгарность и безвкусицу? Есть ли потолок? По-моему, искусство – это прямая, которой нет конца. Искусство вольно принимать любые формы. Нет строгого контроля, нет чёткой границы между искусством и извращением. Более того, искусство всегда есть извращение. Но извращение не всегда искусство. Извращение как бы вмещает искусство в себя. Даже горящее здание с выпрыгивающими оттуда людьми будет живым искусством. Оно будет называться “Крики” или “Шашлыки”, и всякий признает, что идея – огонь…»
Гот писал бы хоть до возвращения Чмо, но запястье сводит, и он откладывает писчий предмет. В нём появляется твёрдое намерение положить начало течению мысли «Искусство как изврат». Притянуть приверженцев, прополоскать им мозги и наконец вживить в них тот факт, что степень изощрённости является единственным критерием шедевральности.
Чем извращённей творец, тем он гениальней.
Жизнь как искусство
Пол-лица Гордости измазано горчицей, но она считает, что её веки покрывают тени цвета шотландского виски.
Пол-лица Чмо обсыпано сиреневыми блёстками, но Гордость называет это пыльцой фей. Щёки и лоб Чмо измазаны хайлайтером так, словно он представлен через линзу фотошопа – сияющий и свежий. Чмо приходится мириться с порядками и жить на правах Белоснежки. А ещё писать стихи-заклинания. Стихи-заговоры. К примеру, наговор на водку в качестве лечения от алкоголизма звучит как:
«По усам текло,
Я почти оглох.
В рот ни попало,
Здоровье настало».
Заговор перед едой для похудения как:
«Крошки целебные,
Вы похудебные,
Очень стройнебные,
Словом, волшебные!»
Приворотное зелье, которое является классическим и обязательным в обиходе колдуньи, как:
«Полюби прекрасны губышки,
Полюби преясны глазоньки,
Полюби пречёрны власушки,
Полюби предобро сердушко».
Но как это грубо – использовать поэзию в бытовых коммерческих целях! Какое подавление, какая тоска! Чмо не может отдыхать в красной комнате. Он словно Дюймовочка в царстве Крота. Словно Маленький Мук в домике старухи. Чмо не может терпеть и созревает для того, чтобы выплюнуть своё мнение.
– Это не искусство! Не поэзия! – пискляво скандирует Чмо.
– Душка, будь умным мальчиком, – не отвлекаясь от обряда, произносит Гордость. – Ты сам определяешь, что есть иску-у-усство. Если назовёшь наши заклятия искусством, никто не посмеет возразить. Творец сам нарекает, что есть что.
Чмо признаёт мудрость суждений. Он и сам недавно распевал о том, что любые повседневные действия являются искусством. Отчего же его убеждения пошатнулись?
– Я не хочу производить фальшивки. И никого обманывать. У искусства совершенно другие функции. Оно преследует другие цели, – виляющим, словно машина пьяного водителя, почти срывающимся голосом возражает Чмо.
– Да? И какие же цели, – отрезок тишины, наполненной вошканьем, – преследует искусство? – поднимается остроугольное, похожее на вытянутую каплю лицо.
– Оно отрезвляет, выдёргивает из обыденности. Напоминает о скоротечности жизни, мимолётности дня. Оно шокирует, дарит духовное наслаждение…
– Избавь меня от общих фраз, – разочарованно отмахивается Гордость.
Насупившись и не найдясь с ответом, Чмо проскальзывает в красную, точно шапочка, комнату и пытается выцепить зародыш озарения. Он сосредоточенно пялится на воображаемый поплавок, готовый к моменту, когда идея, наконец, клюнет, и леска дёрнется. Чмо думал, что его осознание вспыхнет резко и отчётливо, но происходит оно медленно, плавно и почти без его участия.
Чмо располагает на тумбочке два одинаковых абсолютно белых листа – невинных, непорочных и не запятнанных. Берёт карандаш величиной с мизинчиковую батарейку и пачкает мягким грифелем центр бумаги. Только на одном листе он пишет слово «Искусство», а на втором «Не искусство». Встаёт. Смотрит на них со стороны. Понимает, что записи его верны. И вся соль в его выборе. По сути, изумляется Чмо, от творца требуется только решение. Но, подмечает он, только вместе два листа производят эффект, заставляющий схватиться за щёки. Лишь вместе обладают силой. Лишь вместе позволяют себя оценить, лишь в сравнении постигается смысл.
Это простое открытие настолько потрясает Чмо, что он тупо таращится перед собой. Потом пробует применить этот закон к другим сферам жизни. Каждый выбирает, быть ему или не быть. Развиваться или закисать. Прощать или обижаться дальше…
– Я выбираю не писать. И это тоже является искусством. Отсутствие текста столь же значимо как его наличие. Я выбираю жить, и это тоже искусство. Я выбираю смерть, и это тоже искусство. Потому что Я. Так. Сказал.
…На следующий день Чмо прибирается в комнатах. Заправляет кроватки и натыкается на журнальчики с мятыми корешками и поднятыми, словно руки статуи Свободы, членятами. Хуята занимают каждую страничку, и Чмо делается дурно. Хуёнок, снятый крупным планом, исчерчен выпуклыми венами, хуёнок, запрокинутый, словно серп, мнётся под пальчиками Чмо. Целый хуище подстерегает его на следующем развороте. Полный лес рук статуй Свободы. Чмо со страхом и стыдом отбрасывает порнографию, но теперь её наличие мерещится везде.
– Душка, тебя привлекли мои журналы? – раздаётся липкое сопрано Гордости, и Чмо воспламеняется, точно лужица бензина. – Согласись, они занимательные? – как ни в чём не бывало спрашивает женщина.
– Пожалуй. Мне они вообще случайно попались под руки, – заикается Чмо, глотая окончания слов, точно…
– Не смущайся мужской анатомии, душка, – глубже, чем надо, советует Гордость. Советует так, словно это только прелюдия, за которой последует важное откровение. – Лично я помешана на порно. И дня не могу продержаться без дозы пенисов. Была бы воля, отрастила на ком-нибудь целую связку… – заигрывающе хихикает.
Чмо нервно переключает взгляд на что-то максимально нейтральное, уносящее его из этой неудобной ситуации.
– …Не пугайся, душка. Ты похож на девочку сильнее меня. А я ищу более сильного партнёра, рядом с которым чувствовала бы себя слабой и более женственной..
Чмо хочет её остановить, оградить себя от чужой истории, перестать слушать. У него же есть свобода и право не слушать. Почему ему высказывают то, о чём он предпочитает не знать?
– …Ведь я на самом деле мужчина… – с интонацией пьяной шлюшки произносит Гордость.
И глазки Чмо, как профессиональные альпинисты, лезут на лоб. Взбираются на покатую гору. Оказывается, столько времени Чмо проживал с трансвеститом. Впрочем, он смутно догадывался об этом по растянутым лосинам и великим малиновым блузкам. Маскировка была настолько яркой, что выдавала скрываемое нутро.
– Ух ты… – только и выдает Чмо.
– Меня очень радует твоя толерантность. Твоё понимание. Твоя гибкость. Знаешь, я не люблю всех этих принципиальных гомофобов, – пускается в излишние пояснения переодетый в женщину мужчина.
– Спасибо, – почти мяукает Чмо.
– Я наблюдала за тобой. За твоими стихами. Они мне много чего шепнули о тебе. Я мило общалась с ними. Пока ты спал или снимал пенку с бульона. И так я тебя разгадала. Ты типа как прошёл мою личную проверку. Ты и вправду человек искусства. Представляешь, люди говорят, что не будут делать вид, будто трансвестизм – это творчество и всё такое… – продолжает сыпать снег на голову Гордость.
– Но я дрэг-квин! Я – своё портфолио. Результат усилий и трансформаций. Я сама по себе арт-объект. Скульптура и скульптор сразу.
Чмо огорошен. Он даже не подозревал, что за ним вели тайную слежку, проверяли гипотезы, соотносили его убеждения со своими.
– …Но твоя правда – не фальшивая. Говоришь, хочешь творить? Хочешь помогать людям? Грустишь, что тебя не слышат? Тогда, душка, я готова стать твоим рупором. Я помогу тебе с организаций акции «Жизнь как искусство» или с чем-то вроде этого, – предлагает она.
– Я не знал, что такой прозрачный, – чешется Чмо.
– Чепуха! Все люди просвечивают. Надо просто уметь снимать с них макияж. Фантазировать. Прощупывать. Ладно. Не заморачивайся тонкостями психологии, – огромный жабий рот растягивается в улыбке.
– Гадаешь по такому же принципу? – разрешает себе усмехнуться Чмо.
– Ах, ты! – в шутку надувает кулаки Гордость.
– Забудь. И это… Спасибо тебе. За кров. За готовность помочь. Я и вправду был бы признателен за рупорство. Только мне нечего дать взамен. Для алхимии и баланса, и…
– Не беспокойся. Я и так отобрала у тебя друзей. Вернее, я украла тебя у них, – исправляется.
– Точно. То есть понятно. То есть, наверное, да. Так и есть, – бормочет Чмо, понимая, что сделка завершена, и он превращён в Мессию. В нового Иисусика Христосика. Только готов ли он повесить себя на крестик?
– Значит, договорились. Я буду заниматься рупорством, а ты поэтством, – тем временем подытоживает Гордость.
Часть 2
Пропагандист
Гот рассказывает о себе на Тик-Ток и собирает лайки, как ягоду или грибы. Гот говорит, что никого уже не пробьют изображения человеческих черепов и песочных часов. Это скучно. Оно протекает мимо, не задевая и не будоража. Чтобы хоть как-то воздействовать на зрителя, его надо накормить отвращением. Извратить что-то привычное и заурядное. Швырнуть ему под нос шмат гнилой плоти, вместо приторного крема с ореховой крошкой сунуть заплесневелое непонятно что и заставить это тщательно пережевать, проглотить и попробовать переварить. Судя по количеству лайков, с Готом согласны. У Гота собирается большая аудитория, которая караулит каждое новое видео. И Гот регулярно радует своих маленьких вандалов-учеников. Он записывает лекции, ведёт уроки. Преподаёт теорию искусства разрушения.
– …Я объявляю войну безопасному искусству! Все оправдания про сублимацию – блеф! Глупая отмазка, чтобы сидеть на заднице и никого не затрагивать. Чтобы влиять хоть на что-то, нужна радикальность… – автоматически произносит Гот, и сенсорное сердечко взрывается от беспрестанных нажатий.
Зрители с удовольствием делают массаж сердца, пусть и крохотного, и плоского, и не умеющего любить. Сердца, совершенно не похожего на сердце.
– …Чем греховней плод, тем жарче борьба за место за столом. Чем выше штраф, тем выше потребность устроить свалку в общественном месте. Но даже кучу мусора можно наречь искусством. Композиций. Скульптурой, напоминающей о гниении и смерти, – произносит Гот.
– Искусство неотделимо от извращения, – произносит Гот. Эта фраза – его девиз. Его лозунг. Его эпиграф.
И мелкие хулиганы ломают качели, разбойники похуже разбивают витрины, уверенные в себе творцы сжигают собственные дома. Юные Гоголи.
Гот становится очень влиятельным и популярным деятелем. Его речь аккуратно разрезают на цитаты, выписывают их в дневники, набивают татуировки под рёбрами и на запястьях.
«Искусство неотделимо от боли», – говорит чей-то бок.
«Прекрасное в изврате», – сообщает чья-то ключица.
Какой-то гравировщик высылает ему пару подвесок, которые можно соединить, приложив их друг к другу. На одном кулоне написано «Разрушение», на другом «Красота». На одном написано «Хаос», на другом «Совершенство». На одном написано «Бог», на другом «Богема». Все те антонимы, что внезапно стали синонимами.
Гота зовут в другие города, чтобы он мог дать публичное выступление. Организаторы подобных мероприятий не дают ему спать, потому что где-то в другом уголке мира вовсе не два часа ночи.
Готу предлагают проплатить аренду, чтобы он мог открыть свою галерею. Его готовы спонсировать бренды, продающие косметику или бытовую технику. Людям нравится его инициатива. Гота нисколько не удивляет, что плакаты в духе «Я занималась вандализмом и умерла» не пользовались спросом. Людям охотней видеть «Я занималась вандализмом и стала свободной. Независимой. Брутальной». Что ж, Гот готов напоить их подобными афоризмами. У него их целая коллекция. Ему не жалко угостить каждого кусочком.
Теперь Готу не приходится втюхивать брошюры на улице. Теперь Готу не приходится питаться паутинкой яичной. Теперь Готу не приходится спать на полу. Теперь Гот покупает для Боли нормальный лоток и нормальные миски. Теперь он обеспечивает себя качественными материалами. И качественной косметикой. Он пишет повторный автопортрет. Тушью. Помадой. Тенями. У Гота очень богатая палитра.
Теперь Гот может позволить купить себе дорогой шампунь и бальзам-ополаскиватель. Купить мыло с ароматом розы и мёда. Заполнить холодильник морепродуктами. Гот считал, что ему нравится аскетический образ жизни, но у него просто не было выбора.
Гот переполняется верой в себя, в Богему, и решает самостоятельно разработать дизайн мебели, которой обставит комнату. Кровать в виде огромного разинутого рта. Шкаф в виде солидного гроба. Готу ещё нескоро наскучит его везение. Его богатство.
Фитоняша покупает стереосистему, колонки. С азартом примеряет одежду, как она пропела, подыскивая свой стиль. Теперь её выбор не зависит от скидок и распродаж.
– Как ты думаешь, когда нам станет скучно? – спрашивает его девушка в новых стрипах.
– Никогда, – механически отвечает Гот, рисуя тушью волосы. Крысиную шёрстку.
– Как ты думаешь, когда переизбыток вкуса убьёт вкус? – спрашивает его девушка, которая часом раньше осведомила, что на днях приедут устанавливать пилон.
– Ещё никогдашней, – уверенно решает Гот.
Это его успех. Заслуженная слава. Надо же им побыть на гребне волны. Раскинув руки, выплюнув крик, обнявшись с солнцем. Получив честно полученный витамин D.
– Как ты думаешь, когда случится передозировка вседозволенностью? – спрашивает девушка, выбрасывая просроченные листья салата.
– Она случается каждый день, – разворачивается к ней Гот.
После того как они свалили все грехи и обиды на Чмо, отношения наладились. Пошли в гору. Опытные альпинисты. Всё осталось в прошлом.
Гот кутается в растянутый кардиган по привычке. Очень вредной привычке. Кардиган – его вторая кожа. Дополнительный защитный слой.
– Как ты думаешь, лучше надеть купальник жвачного или бордового цвета? – интересуется девушка.
Потом появляются цвета абрикосового джема и клюквенного киселя. Цвета черёмухи и черешни. Чернослива и кураги. Палитра Фитоняши тоже не является скромной.
Проповедник
– Города – это большие музеи. Весь мир – музей произведений искусств. Достаточно просто жить, чтобы творить. Можно писать четырёхстопным ямбом, можно увлекаться дольниками или искать новые ритмы, как Маяковский, который ходил по улицам, мыча в такт шагам. Всё это зависит от выбора поэта. Но есть ещё один, куда более важный выбор и куда более важный ритм. И зовётся он сердцебиением. Действительно, лучше этого ни один поэт ничего больше не сможет создать, потому что жизнь выше любых слов. Жизнь сама по себе и является высшей формой искусства. Жизнь – поэзия, и стук сердца – её ритм, – толкает речь Чмо.
Его заботливый трансвестит транслирует его слова своим клиентам, и у Чмо скапливаются приверженцы. Как проценты в банке. Как болячки к старости.
Чмо начинает получать письма, в которых неизвестные анонимы признаются в том, что отреклись от идеи самоубийства. Что они смогли себя полюбить.
«Вы пожалели меня, и я почувствовала, что не одна. Что кто-то любит меня. Именно меня. Поняла, что не хочу заниматься вандализмом, щипать бока, резать руки и опускать голову в аквариум. Что я совершенна», – читает Чмо со слёзкой в краешке глазика.
«Ваши строки “Умираешь – умирай, возраждаючи” помогли сбалансировать на грани. Поддержали в момент отчаяния. Спасибо. Вы не стихи сочинили, вы написали продолжение моей жизни», – читает Чмо с другой слёзкой в краешке другого глазика.
Это что-то вроде записок от поклонниц. Словно школьные признания в любви. С той лишь разницей, что в этом ему признаётся целый мир. И тот факт, что Чмо в силах уберечь хоть кого-то, заряжает его смыслом. Эти письма – его топливо. Способное запустить вечный двигатель. Чмо взращивает в себе новые стихи. Чмо – инкубатор стихов.
– Со мной опять случилось вдохновение, – усердно высовывает язычок Чмо.
– Вдохновение – это симптом очень опасной болезни, – клейким голосом отвечает Гордость.
– Какой же? – поднимает головку вундеркинд.
– Слыхал про маниакальный синдром? Мания ещё никого не доводила до добра. Даже одержимость помощью или поэзией способна свести с ума, – сгущает краски Гордость, наклеивая на волосатую голень восковую полоску.
– Брось, – мило хихикает Чмо.
Гордость выбрасывает мохнатые полоски и уходит в парикмахерскую. Оставляет мальчишку за главного.
Возвращается спустя четыре часа в образе взрослой Мальвины. Теперь кольца её волос лазурного цвета, и Гордость сразу обвешивается украшениями из бирюзы. Беспрерывно говорит о натуральности и силы камней, их влиянии на психику и сон.
– Как я тебе? – корчится у зеркала Гордость, но она называет это «красуется».
– Челюстноотвисательно, – честно признаётся Чмо. – Но тебе идёт. Это очень… эпатажно.
На следующий день они отправляются в наркологическую клинику с дурацкой программой стихов. Чмо волнительно, он ёрзает на сиденье. Мальвин занимает водительское сиденье, и ветер треплет его волосы.
– Этим людям не нужны поэты. Им нужны психиатры, – говорит директор, завидев парочку.
– Вы уверенны, что не ошибаетесь? – мягко не соглашается Чмо.
Глупый волонтёр. Смазливый доброволец.
В сквере для прогулок их встречает рассеянная публика. Какого-то вялого парня придерживают за талию, чтобы не упал. Но он всё равно падет. И телом, и духом. И Чмо начинает. Стучаться в двери, не ведущие никуда.
– Брови изогнуты, как арахис,
Каждый лелеет и нянчит страхи,
Каждого паника поломала,
Каждому паники страшно мало, – по памяти повторяет Чмо, и голосок его дрожит, словно сверху наложен эффект электро.
– Каждый по-своему, но прекрасен,
В сумерках молится: «Грязи! Грязи!»
Кажденький голенький под одеждой,
Кажденький серенько-пыльно-бежевый, – щебечет Чмо.
– Каждого с ложечки кормят горем,
Каждого спрятали в стаю коек,
Души забрали на перевязку,
Всех обманули глазки, – речь всё бессмысленней и бесполезней. Чмо уже не смотрит на грустные смайлики слушателей. А слушатели тянутся к Чмо. Лезут к нему, как ручные коты.
– Мне скучно. Тоскливо. Никаких впечатлений. Никакого вкуса. Нет аппетита жить, – стонет девочка с прямыми рыжими волосами и худыми ручками.
– Очень пресно. Если я выйду отсюда, то обязательно сорвусь, – делится с ним прыщавый мальчик.
– Как можно мыслить позитивно, когда есть такой веский повод себя пожалеть? От него невозможно отказаться! Побыть жертвой куда интересней. Жизнь становится насыщенней, а ты автоматически хорошим, – признаётся парень постарше.
– Меня замучила паранойя, – всхлипывает девчонка в толстовке цвета какао, с натянутым на спутанные волосы капюшоном.
– Умоляю. Помоги, – говорят серые глаза.
Тоска впрыснула в них какой-то особый тусклый пигмент. Но как Чмо поможет? Его стишата плоские и далёкие. Какое же слово сможет проникнуть внутрь и укорениться там навсегда, как чернила при нанесении татуировки? Какое универсальное лекарство вылечит меланхолию? И кому сдалась лекция про вандализм и искусство жизни?
– Бедные наркотята, – воркует он. – Любого наркотёнка нужно любить, гладить и заботиться о нём, пока он не превратится назад в котёнка, – говорит Чмо, по его мнению, очень умную вещь. – Найдите любовь. Займите себя. Забейте всё время срочными делами. Выработайте дисциплину. Вызовите отвращение к тому, что раньше манило. Отвращение будет чем-то вроде иммунитета, – говорит Чмо в публицистическом стиле.