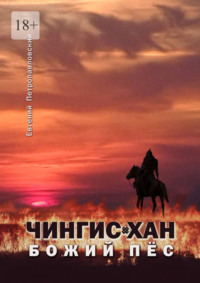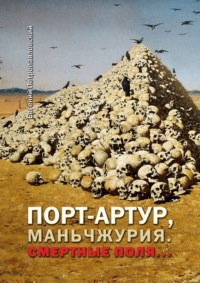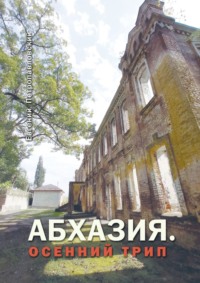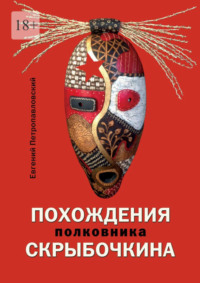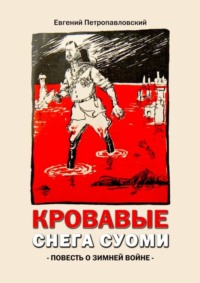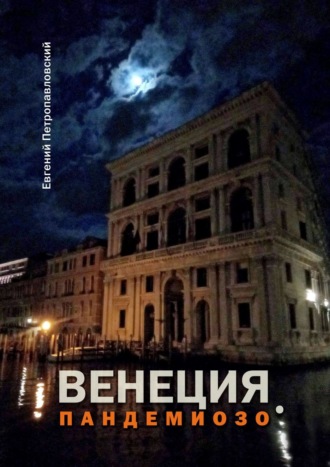
Полная версия
Венеция. Пандемиозо
В дни карнавалов традиционным развлечением венецианского плебса были так называемые «еврейские бега»: среди иудеев отбирали самых тучных и заставляли их бежать наперегонки в полуобнажённом виде. При этом – под хохот толпы – бегунов подбадривали, бросая в них гнилыми помидорами, а подчас и тухлыми яйцами.
Гетто представляло собой параллельную вселенную, которая могла бы послужить образцом исторического релятивизма. Даже карнавалы здесь устраивали отдельные, не совпадавшие с венецианскими – в дни праздника Пурим: с масками, карнавальными костюмами и прочими атрибутами весёлого разгула. По большому счёту здешние обитатели чувствовали себя гораздо защищённее, чем в других странах средневековой Европы, где нередко устраивали гонения на иудеев, сопровождавшиеся грабежами и погромами. Да и кровожадная инквизиция не дремала. Венецианские же власти не допускали проявлений религиозного фанатизма и произвола толпы, не покушались на свободу вероисповедания местного населения. Словом, жизнь в гетто по тем временам считалась вполне вольготной; в его границах евреи были предоставлены сами себе – все важные вопросы решались органами самоуправления, и городские власти предпочитали ни во что не вмешиваться.
Здесь имелись музыкальные и танцевальные школы, театр и консерватория, местные любомудры занимались книгопечатанием и переводами древних манускриптов, а искусных еврейских музыкантов приглашали в дома многих знатных особ на Риальто. Венецианское гетто являлось одним из крупнейших центров иудейской культуры и довольно спокойным островком среди бурных волн средневековой истории. Неудивительно, что сюда на протяжении веков переселялись сефарды и ашкенази, и левантийские евреи; здесь жили по законам Торы и строили синагоги, рождались и уходили в мир иной, женились и размножались. С годами численность иудейского населения росла, а территория гетто была ограничена высокой каменной стеной и каналами, это привело к постройке здесь высоких зданий – своеобразных средневековых небоскрёбов, насчитывавших до восьми этажей.
Более всего мне представлялось любопытным взглянуть именно на эти венецианские небоскрёбы. И я таки добрался до них – однако не сразу…
Выдвинувшись от вокзала Санта-Лючия по улице Rio Terra Lista di Spagna, мы через некоторое время свернули с неё и стали бестолково блуждать по запутанным улочкам Каннареджо…
Да, так оно и случается по закону подлости, когда кажется, что цель уже близка. Мы бестолково кружили по сумрачно-маловразумительным улочкам и переулкам, и скоро поняли, что сбились с намеченного маршрута. И не захочешь, а вспомнишь поговорку: надо было запасти терпения не один воз, а целый обоз… Навигатор вёл нас то туда, то сюда, то ещё чёрт знает куда, а гетто оставалось недостижимым.
Вдобавок Анхен и Элен – как это порой случается с женщинами – ни с того ни с сего принялись выговаривать нам за вчерашнее.
– Ещё один такой перфоманс, и я от вас уйду, – говорила Анхен. – Буду гулять по Венеции сама.
– Нашли место, где выпендриваться, – вторила Элен подруге. – А ещё деятелями культуры себя считаете. Вот забрали бы вас в полицию! Я даже представить не могу, какой штраф с нас могли потребовать за ваше представление!
– Да не оштрафовали бы нас, – пытался я их успокоить. – Мы ведь, по сути, никаких законов не нарушили.
– А если бы даже и штрафанули – ничего страшного! – радовался свежим воспоминаниям Сержио. – За такое не жалко. Я бы заплатил с дорогой душой, у меня денег-то много! Зато это был звёздный час Валериана!
Впрочем, читатель не в курсе, я ведь об этом пока не рассказывал.
Пожалуй, пора.
…Вчера, когда мы плутали по центру города, и в наших фляжках закончилось дезинфицирующее средство (а купить граппу в местном продмаге мы ещё не успели), Элен и Анхен в районе площади Сан-Маурицио увидели очередную достопримечательность: сильно наклонившуюся над каналом «падающую» колокольню церкви Санто-Стефано. И убежали фотографироваться возле неё. Надо сказать, очень кстати убежали, поскольку я решил извлечь из рюкзака неприкосновенный запас – двухсотграммовую пластиковую бутылочку из-под газировки, в которую был налит самогон Василия Вялого. Так-то на прогулках мы его не употребляли из-за чрезмерной крепости. Но теперь я решил, что пора.
А пока я доставал самогон, Сержио прочёл над массивными дверями здания, под которым мы стояли, вывеску: «Museo della Musica Venezia» – и, бросив нам: «Да ну вас, надоело пить!» – зашёл в помещение. Мы с Валерианом поддались стадному инстинкту и последовали за ним.
Позже, прогулявшись по интернету, я выяснил, что здание, в котором размещён музей музыки, – это церковь Сан-Маурицио (Святого Маврикия, если по-нашему). В ней проходит постоянная выставка музыкальных инструментов, причём экспонаты периодически меняются. Но в пору нашего посещения сего заведения мне это было невдомёк, да и по фигу, если честно. Попав туда наобум, я, что называется, плыл по течению, не стараясь ничему соответствовать.
В просторном музейном зале не было ни души. А на стендах и на специальных подставках, повсюду – мать честная! – струнные инструменты с многовековой родословной. Некоторые под стеклянными колпаками. Мы медленно пошли по кругу, читая надписи с фамилиями мастеров на табличках: Амати, Страдивари, Гварнери… Нечто напоминавшее гусли (правда, они имели своё, венецианское название: Salterio) … Инструмент наподобие небольшой арфы… Несколько подобий гитар с причудливыми корпусами и тремя дополнительными струнами… И – скрипки, альты, виолы да гамба, мандолины итальянских мастеров, начиная с пятнадцатого века. С ума сойти.
Невесть сколько мы могли глазеть, разинув рты, на все эти музыкальные сокровища, но тут из подсобных музейных недр появился человек. Одетый в тёмный ремесленный лапсердак, невысокий сутулый дядька с лицом печального пацука бодро прошаркал мимо нас – и, деловито подхватив со стенда один из гитароподобных инструментов, вознамерился отправиться восвояси. Однако Сержио не был бы самим собой, если б не пожелал с ним пообщаться.
– А можно хотя бы одним пальцем прикоснуться к инструменту? – спросил наш неугомонный друг с благоговением в голосе.
Итальянец, разумеется, не понимал по-русски, однако протянутый палец, по всей видимости, натолкнул его на догадку. И он сердито мотнул головой:
– Но, но! – далее последовала фраза из доброго десятка слов, среди которых я понял только «restauratore».
– Это реставратор, – сказал я Сержио. И на ходу сочинил перевод:
– Он говорит, что ты своим пальцем потрогаешь – и хана будет инструменту.
А потом меня осенило. Я двумя быстрыми движениями свинтил крышку с бутылки и протянул её дядьке с лицом печального пацука:
– Вирус, дезинфесьёне.
Затем пояснил убедительным голосом:
– Руссо граппа!
По всему, реставратору следовало возмутиться и погнать нас поганой метлой. Или некондиционной мандолиной. Однако вопреки моим ожиданиям он принял подношение и – я обалдел – выхлестал за один присест всё двухсотграммовое содержимое бутылки. Вот она, международная любовь к халяве, все мы люди, все мы человеки слабые. Правда, теперь настала очередь обалдеть потомку латинян, ведь шестидесятиградусный самогон Василия Вялого – это вам не тирамису кушать. Реставратор замер на месте, как прошитый колом, одна его рука судорожно сжалась (в ней предсмертно захрустел сминаемый бутылочный пластик), а другая, наоборот, стала медленно разжиматься. Я подхватил готовый рухнуть на пол раритетный инструмент и сунул его Симановичу:
– Давай, лабай что-нибудь, быстро!
– Не-е-ет, я на этом не могу, – протянул он. – Если б нормальную гитару…
– Не капризничай, играй через не могу! – присоединился к моему требованию Сержио. – Это твой единственный шанс!
И Валериан оценил неповторимость момента.
И ударил по струнам.
Не возьму на себя смелость высказываться о качестве музыки, я ведь не специалист. Однако пел он зажигательно, хоть и недолго. Что-то из матерного репертуара кубанских рокеров – примерно в таком духе:
Приезжайте к нам на хутор,Все мы парни холосты!Как увидим девку тута —Волокём ея в кусты!Не Вивальди, конечно. А всё равно слуху было приятно это смешение отечественного ворованного воздуха с веницейской атмосферой. Я даже позавидовал Валериану (увы, писатель обречён завидовать выразительному инструментарию музыкантов и живописцев) … К сожалению, реставратор быстро вернулся в чувство и осознал, сколь бесцеремонный кунштюк с ним совершили. Его реакция на перемену смысловой доминанты оказалась закономерной: сердитым движением он выхватил у Симановича драгоценный инструмент и, пошатываясь, направился прочь. Между прочим, вдрызг смятую бутылочку из-под самогона тоже унёс с собой, как если бы та прикипела намертво к его пальцам.
Естественно, мы тоже не стали задерживаться в «Museo della Musica Venezia».
Обидным было, что вчера-то Элен и Анхен не терзали нас нравоучениями: то ли радовались, что дело обошлось без административно-денежных или – упаси бог – пенитенциарных последствий, то ли просто сочли выдумкой наш рассказ о встрече с искусством, когда мы покинули музейные стены и нашли своих спутниц подле «падающей» кампанилы Санто-Стефано. Скорее второе. А сегодня, выходит, поверили задним числом. Подумали-посовещались и решили поверить – оттого теперь ворчали всю дорогу.
А тут ещё нам еврейское гетто никак не удавалось найти. Мы блуждали в районе канала Каннареджо, несколько раз возвращались к перекинутому через него Понте-делле-Гулье – мосту с обелисками, – словно кружили по заколдованному лабиринту, ревностно охранявшему от чужаков прошедшие времена. Подле моста стояли два колоритно разодетых гондольера, похожих фэйсами на Дон Кихота и Санчо Пансу: оба – в подобиях полосатых тельняшек с длинными рукавами и в соломенных шляпах с неширокими полями и невысокими тульями, перевязанными синей и оранжевой ленточками. Зычными голосами они зазывали на романтическую прогулку всякий раз, когда мы проходили мимо, но с каждым разом надежда на их лицах заметно притухала.
– Экие сердяги, – посочувствовал я Кихоту и Пансе. – У них руки чешутся поработать вёслами, а клиент в сети не идёт.
– Сердяги, да не сермяги, – заметил Валериан.
– Понятное дело, что не сермяги, с их-то заработками, – согласился я.
Некогда считавшиеся бедняками, ныне гондольеры в Венеции – довольно привилегированная каста, и заработки у них вполне приличные: около полутора сотен тысяч евро в год. В гильдию гондольеров нельзя попасть со стороны, как, например, в таксисты или в водители автобусов-трамваев-поездов-самолётов. Гондола передаётся по наследству от отца к сыну и стоит как неплохая однокомнатная квартира, а число гондоловожатых строго ограничено и составляет немногим более четырёхсот человек. Соответственно – ни конкуренции, ни демпинга, ни дуэлей на вёслах из-за уведённого туриста; стоянки для отлова клиентов и маршруты плавания распределены городскими властями, всё чинно, мирно и денежно. Словом, до недавнего времени венецианским лодочникам можно было только позавидовать. Но не теперь, в пору разносторонней индукции вирусных ожиданий, высосавших из города всю золотоносную туристическую породу… С другой стороны, кому сейчас легко? Разве только нам, коронаотрицателям из далёкой Русколани, коим нет никакого дела до болезненных европейских перетыков. Органический функционал Венеции, давно превращённой в полутеатральный паноптикум для развлечения заезжего люда, засбоил, застопорился – быть может, приказал долго жить, а нам-то что, нам прикольно: меньше народа – больше кислорода. Мы не сомневались: что угодно может здесь случиться с кем угодно, только не с нашей компанией, Парки ещё не скоро устанут прясть для нас пятижильную (или, может быть, пятихвостую, это под каким углом посмотреть) путеводную нить.
…Чтобы задобрить сердитых дам, в баре возле моста мы купили им по коктейлю с медицинским названием «шприц» (вообще-то везде пишут «спритц», но такое словцо сумеет выговорить без искажений разве только немец) … Затем, вернувшись сюда в очередной раз, – снова купили. И это возымело благотворное действие.
Между блужданиями порой мы непроизвольным образом рассредотачивались по сувенирным магазинчикам. Сразу чувствовалось, что покупатели в них давно не появлялись, ибо нас везде встречали как родных. Продавщицы выбегали из-за прилавков с радостными возгласами:
– О! Туристи! Туристи!
И предлагали умопомрачительные скидки. А может, ещё что-нибудь: я не уверен по причине слабого владения итальянским. Как бы то ни было, в этих магазинчиках мы тоже ни в чём себе не отказывали: грех было не извлечь пользу из обстоятельств, случайно сложившихся для нас столь благоприятным образом. Хорошо, что дело ещё не успело дойти до полноценного карантина, и мы имели возможность беспрепятственно бродить по улицам притихшего города.
Между прочим, слово «карантин» пришло в мир из Венеции. Это производная от «quarantа» (куаранта), что в переводе с итальянского означает «сорок». Именно столько дней во время эпидемий чумы должно было простоять на якоре каждое судно, прибывшее из других земель, прежде чем ему позволяли подойти к берегу – разумеется, если к тому времени среди экипажа не обнаруживалось заболевших. В противном случае зачумлённую команду высаживали на крохотный островок Лазаретто, расположенный здесь же, в лагуне. На нём затем и хоронили умерших. Таким образом, все медицинские лазареты последующих эпох – этимологические прапраправнуки упомянутого «чумного острова», от которого до площади Святого Марка рукой подать: что-то около четырёх километров.
…Allora, мы шарахались по городу, периодически выходя к каналу, и мало-помалу утрачивали надежду отыскать гетто. А потом Валериан над одной сумрачной подворотней вдруг узрел табличку с непонятной надписью.
– Похоже на иврит, – сказал он.
– Похоже, – согласилась Анхен.
И мы направились туда.
И попали наконец в еврейское гетто, словно кто-то незримой рукой сорвал перед нами завесу времени, дабы позволить настырным пришлецам заглянуть в глубины прошлого.
Вот они, венецианские «небоскрёбы». Давно не крашеные, плотно прижавшиеся друг к другу, насчитывающие не одну сотню лет своего существования и не имеющие ни малейшего сходства с великолепными дворцами, поныне украшающими берега Большого канала. Бедностью дышат их стены, бездолье выглядывает из бессчётных окон. Здесь многодетные иудейские семьи веками ютились в тесных комнатах-клетушках с низкими потолками. Да, именно ощущение тесноты и неуюта в первую очередь возникает у того, кто стоит подле этих строений, задрав голову, дабы представить, каково это: фланировать по здешним улочкам вечерней порой под руку с дамой в ожидании, что вот-вот кто-нибудь из окна шестого или седьмого, или восьмого этажа выльет тебе на голову ночной горшок или ведро с помоями. Полагаю, не зря Теофиль Готье обозвал венецианское гетто зловонным подлым местом. Да и не только он – многие не скупились на эпитеты сходного толка.
– Представляю, какое амбре стояло тут, если долго не было дождей, – говорю безадресно.
– Ну да, – соглашается Анхен. – Канализации тут, наверное, не было.
– Конечно, не было, – подтверждаю я.
– Ничего, канализация в жизни не главное, – авторитетным тоном заявляет Сержио. – Зато иммунитет у них был отменный. Наверняка лучше нашего.
– Разумеется, ведь выживали только люди с крепким иммунитетом, – соглашается с ним Валериан. И, приняв позу горниста, делает несколько глотков из фляжки. Которую у него тотчас отбирает Элен:
– Симанович, ещё не вечер. Ты почему пьяный?
– Так я ведь бухнул, – отвечает он.
Мы все смеёмся, и Элен тоже делает глоток из фляжки. После чего, скривившись, восклицает:
– Фу, это же совсем не граппа!
– Совсем не граппа, – подтверждает Валериан. – Это самогон Василия Вялого. Мы решили сегодня его допить: не везти же домой, в самом деле.
– Эгоисты, – сердится она. – А нам что пить?
– Да я не хочу, – говорит Анхен.
– А я хочу «шприца»! – заявляет Элен.
– Ладно, я тебе куплю, – обещает Валериан.
И мы снова трогаемся в путь…
Похоже, мне следует сделать небольшую ремарку по поводу пресловутого коктейля, раз уж он столь понравился женскому составу нашей экспедиции в землю незнаемую. «Спритц» придумали австрийские военные в середине XIX века, когда Венеция входила в состав Австро-Венгрии (отсюда и столь языколомное название). Он состоит из игристого вина просекко, аперитива апероль или кампари и содовой. Плюс ломтик апельсина и лёд.
…На кампо Гетто Нуово с обшарпанно-разноцветными зданиями и чахлыми деревцами по периметру наша компания надолго не задержалась. Анхен, правда, пыталась мимоходом отыскать на стенах домов старую каменную плиту, на которой разъясняется наказание, причитающееся каждому еврею-выкресту, если тот продолжает тайно соблюдать иудейские обряды, – пыталась, да не нашла (позже выяснилось, что плита осталась позади, невдалеке от Фондамента ди Каннареджо). За этим последовали новые блуждания: смурные кварталы, пустые кафе, таверны и сувенирные лавки, самогон Василия Вялого, снова смурные кварталы вперемешку с разговорами о том, сколь унылым было существование в затхлых каморках еврейского гетто, «шприц» на вынос из очередной местной забегаловки, магазинчик карнавальных масок, джелатерия, в которой Элен и Анхен купили себе по стаканчику мороженого, каналы, впадавшие в тёмное море минувших веков, и узкие изломанные улочки, по одной из которых мы наконец вышли к причалу Сант’Альвизе.
Здесь была небольшая уютная набережная Giurati, с двух сторон зажатая стенами зданий, на ней стояли деревянные скамейки, а главное – оттуда открывался великолепный вид на Венецианскую лагуну. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться: мы не смогли отказать себе в удовольствии остановиться здесь на полчаса. Сидели на скамейке среди абсолютного безлюдья, как последние люди на вымершей от пандемии планете, подкреплялись прихваченными из дома бутербродами с пармской ветчиной, моцареллой и боккончини, изредка отпивали из фляжек; дышали пряным, пропитанным влагой воздухом и наслаждались видом заката над лагуной.
– Вчерашнее будущее наступило сегодня, – торжественно провозгласил Валериан, стряхнув с джинсов хлебные крошки.
– И позавчерашнее, – добавила Элен.
– И позапозавчерашнее, – продолжила этот ряд Анхен.
– В общем, всё сошлось в одной точке, – подытожил я. – Мы находимся на вершине… нет – на острие времени, и все путешественники минувших веков обрели своё воплощение в наших персонах.
Само собой, по такому случаю Валериан не преминул встать и продекламировать нечто лирически-философское, соответствовавшее пейзажу и настроению. Это было стихотворение Олега Виговского:
Прибой накатывает упорноНа берег моря. Устало, хмуроКамни считают волны – как зёрнаЧёток мулла, читающий суры.Волны смеются, греховную тяжесть —Земную тяжесть! – с камней смывая.Лёгкой, причудливой белой пряжейВзлетает к небу пена морская,И падает вниз, и бесследно тает,И ветер летит быстрее птицыНад морем, над берегом – и не знает,Придётся ль, удастся ль остановиться,Забыв движения окаянствоИ времени злобу, что дни и ночиВселенной окостеневший панцирьРезцом веков и мгновений точит,Предавая забвению всё постепенно,И оставляя итогом конечнымТолько слова о том, что бренно.Только догадки о том, что вечно.Allora, Валериан декламировал стихотворение Олега Виговского, простирая над береговой чертой то десницу, то шуйцу, а я смотрел вдаль, и мысли мои были не здесь и не там, за горизонтом, нигде конкретно и всюду сразу… А затем я представил себе, как без малого шестнадцать столетий тому назад, весной 452 года, на этом берегу стояли люди и тревожно вглядывались в воды лагуны, усеянные парусами рыбачьих судёнышек. На парусах, на воде и в небесах плясали багровые отсветы пожарищ, а отплывшие от материка судёнышки были битком набиты латинянами и потомками венетов, которые, в страхе побросав пожитки, бежали от Бича Божьего.
Так прозвали Аттилу жители Гесперии. В прошлом году он уже вторгался в имперские пределы, но это было в далёкой Галлии. Полчища свирепых гуннов, ведомые Бичом Божьим, сметали всё на своём пути; они опустошили половину провинции и предали смерти тьму народа, пока их не встретил на Каталаунских полях магистр Флавий Аэций во главе римских легионов и союзников-федератов. Там, в туманной Галлии, свершилась Битва народов – последнее великое сражение, в котором Рим сумел дать отпор варварам. И Аттила был вынужден убраться восвояси.
Но вот он пришёл снова. На исходе зимы перевёл орды гуннов через Альпы и объявился под стенами Аквилеи, одной из неприступнейших крепостей Гесперии, которую не удалось покорить ни Алариху, ни Радагайсу. После трёхмесячной осады гунны взяли город штурмом, а затем разрушили до основания, не оставив в живых ни одного из его жителей. За Аквилеей последовали Алтинум и Конкордия, а теперь настала очередь Патавии (Падуи): это она полыхала вдали. А конные разъезды гуннов рыскали повсюду, добираясь до самых берегов лагуны: они грабили и убивали, и сгоняли людей в стада, чтобы увести их в рабство, и поджигали окрестные селения.
…Те, кто стояли здесь, на месте нынешней набережной Giurati, тревожно вглядываясь в приближавшиеся паруса, были потомками людей, которые полвека тому назад переселились на острова лагуны, чтобы спастись от нашествия вестготов Алариха. Простые рыбаки и добытчики соли, они жили скудно и понимали, что с прибытием сюда большого количества людей борьба за существование станет ещё труднее. И вместе с тем разве возможно не протянуть руку помощи тем, чьи жизни повисли на волоске над бездной? Тем, кому осталось уповать лишь на милость господа?
А по берегу лагуны проезжал отряд варваров. Завидев удалявшиеся паруса рыбачьих судёнышек, подобные лепесткам диковинных водных растений, они принялись насмехаться:
– От нас убегают.
– Не убегают, а уплывают. Ничего, когда-нибудь им всё равно придётся пристать к берегу. Выйдут из своих лодок – а мы уже там их поджидаем: то-то будет радостная встреча! Никуда не денутся.
– Конечно, никуда не денутся. От нас не спастись.
– Отчего же. Могут и спастись: пусть превратятся в рыб и живут в море, ха-ха-ха!
– Да-да, это верно, только в море они и смогут почувствовать себя в безопасности, ха-ха-ха!
Нет, беглецы, конечно же, не превратились в рыб. Но кое в чём гунны оказались правы. Несчастные переселенцы оказались хваткими и приживчивыми; год за годом они осушали озерца, гатили заросшие камышом болота, насыпали дамбы, мало-помалу отвоёвывая у лагуны участки суши, и строили, строили, строили. Миновали столетия, и островитяне сумели воздвигнуть город, прекрасный и величественный. Город, который иногда сравнивают рыбой. Вероятно, потому что при взгляде с высоты (я сам в этом убедился, когда увидел Венецию в иллюминатор самолёта) он в самом деле изрядно смахивает на гигантскую рыбину, вынырнувшую из тёмных вод и мирно греющую бока на солнце…
На причале Сант’Альвизе – остановка вапоретто. Но мы не воспользовались речным трамвайчиком: решили вернуться домой пешком, только не прежним, а каким-нибудь другим маршрутом. Так сказать, для полноты погружения в коллективную сопринадлежность к местной архаике.
И снова потянулись спонтанно-изгибистые улицы с тесно сдвинутыми стенами, каналы с перекинутыми через них горбатыми мостиками, набережные с пустыми остериями и сувенирными лавками, неожиданные повороты в тупиковые дворики, пропитанные атмосферой чужой замшелой повседневности, остатки самогона Василия Вялого, низкие арочные проходы между кварталами, приплюснутыми друг к другу наподобие собранных в кучу обрывков каббалистических инкунабул, «шприц» на вынос из очередной забегаловки, ощущение нереальности и строки Петра Вяземского из стихотворения «Венеция», всплывающие на поверхность моего сознания сквозь сумерки ушедших времён:
Город чудный, чресполосный —Суша, море по клочкам, —Безлошадный, бесколёсный,Город – рознь всем городам!Пешеходу для прогулкиСотни мостиков сочтёшь;Переулки, закоулки, —В их мытарствах пропадёшь…Интересно, случалось ли князю Вяземскому посещать этот район города. Думаю, вероятность невелика. Хотя Наполеон – ещё в бытность свою генералом – ликвидировал ворота гетто, однако после прихода австрийцев они были восстановлены, и окончательно их демонтировали только в 1866 году. Да и все окрестные кварталы считались едва ли не трущобами. А между тем Пётр Андреевич страдал депрессивным расстройством; его угнетали густолюдье и суета, смешение богатства и нищеты, туристы-англичане и хриплоголосые певцы-попрошайки, «побродяги, промышляющие гроши» и «разной дряни торгаши» – всё это он увидел в Серениссиме, посетив её при австрийцах. Нет уж, при таком душевном настрое поэт вряд ли пожелал бы сюда наведаться. С годами он вообще воспринимал мир во всё более безотрадном свете. Лишь «при ночном светиле» старый князь был готов полюбить Венецию, а её дневное обличье Вяземский описал следующим образом: