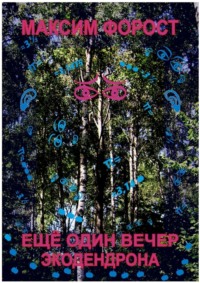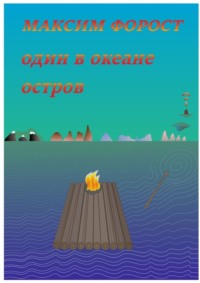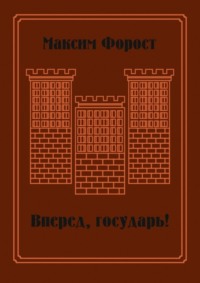Полная версия
Расцветая подо льдом
– Привет, – смутился Грач. Руна оказалась такой красивой. Даже глаза подведены чем-то фиалковым.
– А я стучу-стучу, думала нет никого. Такое зло взяло, веришь ли! Нарочно же пришла…
Край её сарафана затрепетал и заструился на ветру, очерчивая ноги. «Нет, он не голубого цвета, – увидел Грач, – а бирюзового. Накидка синяя, в цветах…»
Он очнулся. Нарочно пришла? Сама – в кои-то веки.
– Да я тут. Где мне быть? – заторопился, не зная, что сказать.
– Спал что ли? – обрадовалась Руна и взялась подтрунивать: – Спал! Эх, соня… – ласково подтрунивала, не злобно. Грач немедленно простил ей.
Смеясь, Руна прошла в горницу. Грач уловил запах принесённых ароматов, похожий на запах цветущих вишен и яблонь. Запах кружил ему голову.
«А ей идет, когда веки подведены фиалковым. Вот, и глаза уже не серые, а впрозелень. Значит, больше не злится».
Руна наморщила носик, принюхалась. Грач испугано втянул воздух. В горнице пахло брагой.
– Вижу-вижу, – прищурилась Руна. – До обеда заспался, лыка не вяжешь, – поддразнивала она. – С Бравлином новую кузницу отмечали, признавайся?
– С ним, – повинился Грач. – Только он просто зашёл, о жизни потолковать. Грустно ему…
– Да-а? – Руна посокрушалась. – Старую кузню жалко? Слушай! – она уже перебила саму себя. – К нам Асень пришел!
– Асень? – обрадовался Грач потому, что Руне от этого радостно. – Наверное, это здорово…
– С утра все встречают, с ума сходят, на головах стоят. Праздник же! Он же вечером петь будет. А знаешь где? У нас на Велесовом лугу. Представляешь себе? А ты знаешь чего… – Руна теребила красивую свою накидку, всю в цветах. – Ты приходи вечером на луг… Все соберутся, мама сказала, чтобы я тебя позвала.
– Правда? – ухватился Грач. – А сама, что ли, собиралась?
– Сама… – смутилась Руна. – Ну, собиралась… Как же я забуду!
– Если и ты там будешь, то я приду! – вскинулся Грач.
Руна даже опешила от его горячности. Опять запахло вишнями и яблонями. Опять принял Грач желаемое за сбывшееся, мечту – за уже осуществлённое.
– Приду, – поклялся он, – что бы ни случилось.
Руна только усмехнулась, подержала его за руку и ушла. Грач, проводив, вернулся от калитки окрылённый, с кружащейся головой, с мечтами и туманом в глазах и мыслях.
Чудесный день! Сегодня непременно осуществится самое несбыточное! Руночка пришла, позвала, пригласила его разделить её радость. А радость – это жизнь. Да, да, она пришла позвать разделить с ней жизнь! Ведь если Руна зовёт – то не судьба ли это? Не знак ли?
«Несомненно, это знамение, – говорил он себе. – Что-то сегодня произойдёт. Всё, о чём давно мечталось, теперь сбудется. Свершилось! Так я скажу сегодня вечером».
Что-то светлое, тёплое, чуть обжигающее приливало к груди с каждым вздохом. Оно заставляло трепетать, волноваться, вздрагивать. Он склонил на бок голову, прислушался к странным своим мыслям. Словно огонёк горел внутри, колыхая крылышками. Он приник к огоньку и услышал:
Дерзай, мой друг, дерзай! Тебе однажды мнилось,Что волею небес она тебе дана.Дерзай, мой друг, дерзай! И что бы ни случилось,В твоей судьбе навек останется она.Дерзай, мой друг, дерзай! Одну на целом светеТы потерять не сможешь нигде и никогда.Дерзай, мой друг, дерзай! Ты пред собой в ответе:Любовь – ничто, лишённая отваги и труда.– Что за нелепица, – он оглянулся по сторонам. – Какие отвага и труд?
Горячие крылышки тут же сложились, и огонёк замолчал.
– А не плохо вышло, Руне бы так написать, – он забегал по дому, собирая бумагу с чернилами и рассчитывая спрятать письмо в шкатулке с подарком под подкладкой. А когда сел, то оказалось, что в спешке загасил огонёк, и слова куда-то исчезли.
«Руна, – кое-как вывел он на бумаге. – Я давно хотел сказать тебе. Это важно для нас обоих, для тебя и для меня. Я люблю тебя…»
Ну вот, главное, наконец, сказано. Записку отдать легче, чем выговорить то же самое, глядя в глаза. А столько трепетало в душе совсем недавно. Написать ли? Написать ли, что она самая лучшая, милая и прекрасная девушка из всех, кого он знал в своей жизни? Да нет. Разве этим скажешь, что жизнь без неё бессмысленна, что счастье только в ней и видится? Да где же тот огонёк, что теплился в душе несколько мгновений назад…
Свароженька, Óгнюшко, любимый сын Солнышка, ты светишь-сияешь, звёздочкой мерцаешь. В очаге и на свечке, и в моём сердечке, – так говорила мама, когда зажигала огонь.
«Ты – смысл моей жизни, – с трудом приписал он. – Я люблю тебя, – повторился, – и хочу, чтобы ты это знала», – закончил он и… оставил письмо без подписи.
Он перечитал письмо, сложил ввосьмеро и спрятал в шкатулку под подкладку – так, чтобы торчал лишь уголок, краешек. Это для того, – утешил он свою трусость, – чтобы письмо не бросалось в глаза, но было бы найдёно потом, не сразу. Не при всех.
Грач закрыл подарок. Кончено! Сегодня вечером это свершится.
Склонил на бок голову – и тут же ушедший было огонёк заговорил с новой силой:
Пройдёт немало лет – глубоким старикомТы будешь вспоминать её глаза; улыбку;Её весёлый смех, журчащий ручейком;А с ним – нелепого признания ошибку.– Отчего же ошибку? – возмутился Грач.
Пусть тяжек был удар. Пусть кровоточит рана.Любовь – как острый нож в целителя руке.…Любовь – как лунный свет: выходит из тумана;Блеснёт; и пропадёт чешуйкой на реке.– Вот ещё! – оборвал себя Грач и заколотил рукой по колену. – Сглазишь, сглазишь! Прекрати…
Вечером, когда тени стали расти быстрее, Грач побежал в Залесье. Драгоценную свою шкатулку он бережно прижал к груди, держа её как оберег, как талисман от чужих взглядов. Руну он хотел встретить заранее, еще до Велесова луга, где соберётся много народу, но дом Власты оказался уже заперт, и Грач заторопился.
Кажется, все плоскогорцы сошлись сюда. Кто-то расселся на захваченной из дому кошме, кто-то – на брёвнышках, а иные – прямо на снег под сугробами.
– Навий сын! – нарочно прошипел один старик с палкой.
«Не навий, а вилин», – Грач ухмыльнулся, стараясь не подавать виду. Он вытянул шею, высматривая Руну. Мелькнул, кажется, бирюзовый сарафан, Грач шагнул туда, но на пути мешались пять или шесть пацанят, раскрывших рты на чернявого изгоя. Можно было прогнать их («А ну, пацаны, дорогу!»), но рядом, подбоченясь, стояла их мамаша, тётка руки-в-боки. Тёткины пухлые губы ворочались и бормотали что-то совсем недовольное: «Глядите-ка – чёрный весь, волосами-то. Как упырь! Вылитый грач…»
Он предпочел обойти их семейку. Тоненькая фигурка в голубом, показавшаяся знакомой, пропала, Грач закрутил головой и увидел Руну в другой стороне.
– Позвольте, – он отстранил деда с палкой и уверенно пошёл к ней. – Привет, Руна! – окликнул шагов за десять. Та обернулась.
– Ой, привет! – она была вся такая праздничная, смеялась, её розовые губы играли, а тёмно-русые волосы слегка растрепались.
Снова запахло цветами вишен и яблонь. Грач вдохнул этот запах и протянул Руне шкатулку.
– Это с праздником, – выговорил.
– Спасибо! – она обрадовалась и изумилась, открывая шкатулку. – Ой, как красиво.
– Примерь, пожалуйста! – потребовал он нетерпеливо. – Хочу посмотреть, как это на тебе.
Она извлекла вещички и примерила, красуясь перед Грачом. Серёжки пришлись в пору, они качнулись возле шеи среди каштановых прядей. Браслетик лёг на тонкое запястье и сомкнулся, другая рука ласково погладила его… А вот колечко годилось только на мизинец и было чересчур узким. Грач смутился, мизинец – не безымянный… Впрочем, Руна, кажется, не обратила на то внимания.
Он выбрал им место на брёвнышках, провёл туда Руну, они сели. Он слева, она справа. Грач протянул за её спиной руку и обнял. Руна не вздрогнула, не воспротивилась. Как будто так надо. Она только мельком взглянула на него – с полувопросом или с полуулыбкой. Горячей рукой он почувствовал под тонким лазоревым ситцем её горячую спину, ощутил каждый позвонок, каждое ребро. Гордость и озноб подкатили к горлу. Они были у всех на виду, и Грачу, кажется, взбрело в голову, что с его изгойством покончено.
Шум и говор пробежал по рядам. На оставленную посреди луга площадку выходил Асень. Тесёмка на лбу перехватывала певцу волосы. Голубые глаза светились солнечным огнём. Не испытывая чужого терпения, он поднял гусли – и не звуки, а словно бы свет полился от них.
Вещие пальцы поплыли по струнам, и тотчас не стало ни шелеста листвы, ни щебета птиц. Всё затаилось. Всё в мире отдало себя струнам и вещим рукам. Пальцы певца словно излучали из себя чудную, сказочную музыку. Может, и не было теперь в мире ничего кроме звуков? Лишь солнце засветило ярче, сообщая мощь свою этим рукам на струнах, а те, чаруя мир, вливали в сердца и души чистоту небесной и вселенской гармонии. И не осталось здесь ни тебя прежнего, ни соседа твоего, ни всех собравшихся, а всё стало – иное, напитанное чем-то доселе неизведанным.
Асень пел! Те, кто не слышал, говорили, что устами его пело Солнце. Да полно! Асень пел о самом простом – о Роде Людском, о любви и добре, о счастье, нелживости и искренности чувств. А те, кто слушали, внимали так, как внимает солнцу подсолнечник, и пропускали через сердца каждое слово. Асень смотрел в вышину, словно искал среди розовых облаков слова для своих песен. И каждый знал, что этот день не забудется и останется в душе навсегда, какие бы заботы не навалились. Пусть память и потускнеет, как немытое стекло, но всё же не изгладится.
Асень умолк, прижав к струнам ладони. Он выжидал, глядя не вдаль, а на кого-то за спинами плоскогорцев. Стрелки подошли недавно. Они стояли позади коневодов ровной боевой шеренгой. Асень поднял к губам рожок и заиграл. Многие вздохнули, другие, не стыдясь, отёрли слезу. Кое-кто оглянулся, стрелков заметили. Златовид был не при мече и не в кольчуге, но в чёрной епанче, с луком за спиной и с плетью-арапником у пояса.
Кто-то заёрзал, другой заинтересовался. А Златовид сжал руки на поясе, где должен висеть меч, и устремился в гущу сидевших. Стрелки порушили боевой порядок и потянулись за вожаком. Асень продолжал играть, и Златовид вдруг замер посреди поляны, промеж сидевших на кошмах и брёвнышках. Асень играл. Отчего-то запахнуло дымом и прелью. Может, так пахли дорожные плащи стрелков…
– Играет, старается, – выговорил Злат. – Долюшка-Судьбинушка, как же он играет!
– Это от нелюдской крови, – Скурат пожевал бороду. – Навья, вилина, алконостья. Нечистая кровь в нём поёт.
Верига вскинулся что-то добавить – едкое, дерзкое, но глянул на Златовида и замолк.
– Заткнитесь вы все, – с болью выдавил Злат. – Я-то в третий раз его слышу. Он – чуден, – Злат с силой зажмурил глаза, встрепенулся и справился с собой. Засвистел, захлопал в ладоши – так на Смородине пастухи отару овец погоняют.
А древний Асень вдруг сделал что-то, чего никто не понял. Поднял зачем-то ком снега, слепил снежок и подбросил высоко-высоко. А пока тот летел и не упал ещё, принял на руки гусли и заиграл:
Весной подснежник расцветёт —Как сердце от любви.Расступятся и снег, и лёд —Зови весну, зови!Зови весну, зови!С весною гости к нам спешат:Тревога, жар, тоска,Сомненье, стыд и робкий взгляд —О как любовь сладка!О как любовь сладка!Радим с Купавой целый мирСобрались известить,Раз в их крови любовь горит —Зачем её таить?Зачем её таить?– Жарко, – еле слышно сказала Руна. Чуть пошевельнулась и мягко, лишь кончиками сняла руку Грача со своей талии, отстранилась. – Жарко, – объяснила она не словами, а одним дыханием. У Грача заныло сердце. Он подумал, что знакомая песня не сулила ему ничего доброго.
Любовь во взглядах и в словах.Уж назван свадьбы час.Никто в те дни еще не знал —Пир омрачит слеза.Пир омрачит слеза.На солнце панцири искрят,И ждут богатыри,Когда к сраженью протрубят,Чтоб биться до зари.Чтоб биться до зари.Той распри позабыт исток.Кто – ближний? Кто – чужой?Остался в поле друг, браток —Ну как найти покой?Ну как найти покой?– Покой? – чей-то голос неузнаваемо изменился.
Грач оглянулся и увидел Златовида.
– Да есть ли он теперь – покой-то? – Златовид глядел, но не на Асеня, а как будто внутрь себя. Одни только пальцы на поясе беспокойно шевелились. Точно защиты искали.
«Радим, она – чужая кровь».«Купава, он – не наш…»Ах, песнь стара и стих не нов,Так было и до нас!Так было и до нас!Прикажешь разве не любить?Ведь сердце не рекрýт.Им лучше с глаз людских уйти.Да! Лучше в лес уйдут.Да! Лучше в лес уйдут.Дозволено изгоям житьВдали от всех – в глуши,В лесах, где вечный снег лежит.Дрожи, изгой, дрожи!Дрожи, изгой, дрожи!– Сидел бы себе дома! – раздалось над ухом. То давешний старик с палкой подобрался сюда и грозил Грачу. – Изгой, изгой… – Грач сжался, закусил губу и попробовал снова обнять Руну. Та лёгкой тенью скользнув, отстранилась. «Ничего. Вечером она найдёт письмо, – подумалось, – и всё решится. Скорей бы…»
Купава плакала тайком,Радим лишь хмурил бровь.Кололи снег, рубили дом —Согреет ли любовь?Согреет ли любовь?Но чудный дом в лесу стоит —Там нет огня в печи.А дом согрет теплом любви.Светлы её лучи!Светлы её лучи!Я видывал тот дом в глаза —Он радовал мой взор.Олени, зайцы, волк, лисаЗаходят к ним на двор.Заходят к ним на двор.Русалки заглянýт порой,Иль старый лесовик,Иль путник забредёт такой,Что ходит напрямик.Что ходит напрямик.– А я предупреждал, – тихо вразумлял Злата Скурат. – Зря ты ему петь позволил. Он и русалок, и лесовика помянул, лешего, то есть. Чистую кровь нам беречь надо, а он про лесной дом поёт. Позволительно ли? Путник, что напрямик ходит – кто ещё такой? Так это он сам или его гонец. А к кому гонец, если не к старцу Нилу?
Желтоволосый вожак молчал. Только кулаки на поясе сжимались и разжимались.
И чудо было среди льда —Велик любви той жар! —Бежит гремучая вода,Где прежде снег лежал.Где прежде снег лежал.Весна пришла в морозный край!Растаял вечный снег.Там звонко-громкий птичий грайОшеломляет всех,Ошеломляет всех,А говорящие ручьиМне спели эту весть:Мои Купава и РадимКогда-то жили здесь.Когда-то жили здесь.Когда песня оборвалась, и звон гуслей затих, а шелест листвы снова стал различим, тогда многие вслед за Асенем ещё шевелили губами – договаривали последние слова.
Странно расходились люди: вроде и переглядывались, но ни о чем не спрашивали. Вечером расходились, уже затемно. Асень кинул за спину рожок, убрал гусли, улыбнулся в темноту и исчез. Куда – не видели, темно было. Заметили только, как уходили стрелки и как Златовид ёрзал, хоть и держался гордо, якобы ничего не случилось.
На входе в Залесье Грач догнал Руну.
– Это опять я! – он подскочил сзади.
– Чего людей-то пугаешь? Совсем уже, – она вздрогнула и в раздражении попеняла. – И так темно кругом.
– Ну, как тебе мой подарок? – Грач забыл стыд. – Понравился, довольна? – настаивал он.
– Красивый, – пришлось девчонке признать. – Я очень рада…
Грач тут же сник: «Эх, не нашла ещё! Жаль. Ну, значит, до завтра. Тем лучше», – пронеслись спутанные мысли. Он вернулся на хутор и заставил себя лечь. Спать не хотелось. Хотелось забыться – провалиться в сонный колодец. Он не сумел. Катался по лежанке, внушая самому себе, что завтрашний день окажется счастливейшим. Ну, да! Ведь не может же он оказаться таким неудачником, чтобы проиграть всё, что имеет: мечту, счастье, надежду. Нет, этого не может быть. На завтра он предвкушал успех. Впервые не готовился, что скажет. Верил, что слова польются сами собой.
Когда утром очнулся, не мог понять, спал ли в ту ночь или нет. Солнце поднялось высоко. Он прикинул, что мог бы уже собираться, стал снаряжать Сиверко. А снарядив, бессмысленно водил его по двору, всё откладывая и откладывая свой выезд, томясь ожиданием, когда же солнце заберётся повыше леса.
– Ну, пошёл, Сиверко! – дождался, вконец истомившись.
В лесу на просеке в глухой тени до костей пробирал холод, волнами поднимавшийся с земли от снега. Грач зябко поёжился. Куда как теплее смотреть вверх – на солнечные макушки и суетящихся в ветвях птиц. Грач загадал: пусть первая птаха перелетит ему дорогу справа налево. Тогда Руна найдёт его письмо, прочитает и всё свершится…
– Ай! Ну, зачем, кто просил тебя лететь слева направо? Дрянь маленькая, хоть и с крылышками…
Просека уже кончалась, ещё чуть-чуть и дорога вольётся в Залесье. Червячком заползла в сердце тревога… Эх, да что уж там! Сделанного не воротишь. Сам же хотел этого, теперь не откажешься.
Руна уже чем-то занималась возле изгороди. Снег, что ли, откапывала, чтобы вьюн рос быстрее? Грач попридержал конька: хотел неслышно подъехать, чтобы та не обернулась раньше времени – боялся стушеваться, встретившись глазами.
Руна услышала всадника и обернулась. Что-то нежное и лаковое показалось Грачу во взгляде.
– Цветик, привет! – она улыбнулась. Она поправила волосы, сколотые заколкой в форме черепашки.
– Привет…
– Смотри-ка, вьюночек помёрз, нижние листики скукожились, – Руна по утренней прохладе была в тёплой медвяно-жёлтой кофте, расшитой листьями и травами. Ей было к лицу – она юна, красива.
– Да, вьюнок помёрз, – сказал Грач. – «Не нашла еще. Как жаль. Поторопить?» – Рун, – позвал он. – Ты подарок мой часто берёшь?
– Подарок? – смутилась Руна. Его настойчивость выглядела невежливой. – Беру, конечно.
– А ты почаще бери, – попросил он. – Ладно? Я… я для тебя старался. Может… может найдешь что-то, я надеюсь, приятное.
– Да? – переспросила Руна.
Грач приободрился, осанисто вытянулся, сидя в седле. Вот, жаль, подумалось, что письмо написано. Вот сейчас он так в себе уверен, что мог бы и сам объясниться. Но… раз письмо написано, то пусть всё идёт, как затеяно.
– Повнимательней посмотри, договорились? – посоветовал он. Руна взглянула на него так, как будто он не здоров.
Грач сделал круг по Залесью. «Я знаю Руну, она сейчас бросится искать, что же там любопытного. А когда найдёт, то растеряется. Выйдет ко мне не сразу. Смутится и будет говорить сбивчиво. Вот тут-то я подхватываю, и говорю, говорю, не переставая…»
После первого же круга Руна встретила его с запиской в руках. Листок был расправлен и весь в частую складку. Руна вышла в проулок, а калитку за собой закрыла – Грач это заметил.
– Ну, я нашла! – заявила она со смехом и встряхнула запиской. В её волосах была всё та же заколка, на плечах – та же кофта, вот только цвет её показался Грачу не таким уж и сладким.
Грач соскочил с коня.
– Я очень рад… – дыхание перехватило, он глубже вдохнул: – Поверь, мне есть, что добавить, посмотри на небо и на облака! Их я могу позвать в свидетели того, что ты на самом деле многое для меня значишь…
Руна замотала головой так, что даже волосы, тёмно-каштановые её волосы растрепались:
– К сожалению, я должна, – она настойчиво перебила его, – я просто обязана огорчить тебя и сказать «нет». Понимаешь, Цветослав? Нет! Не сейчас и никогда, – она поёжилась, кутаясь в медовую свою кофту.
…Как это красиво! – любовался Грач. Зелёные травы и листья по медвяному полю… Как хотелось, чтобы мечта стала правдой…
– Я знаю, Руна, я этого ожидал, – Грач собрался с духом. Наверное, он мог бы ещё долго нести про облака и небо. – Вот только, Руна, всё, что я к тебе чувствую, от этого не переменится…
Руна с укором замотала головой и второй раз перебила:
– Цветослав, я же тебе объяснила! – она неодобрительно всплеснула руками. – Мне было бы, конечно, приятно, если бы за мной ухаживал такой парень. Но у меня уже есть, – сообщила она радостно и не без самодовольства, – есть любимый! Это же Златовид. Разве не знаешь?
Вдоль оград зеленела, но еще не цвела сирень. Первая пчела облетела заколку-черепашку и медвяную кофту и с налету бухнулась в снег. Грач поддел её носком сапога.
– Я, собственно, догадывался, что это так, – он сам удивился, до чего же охрип его голос.
– Вот видишь! – ухватилась Руна. – А у нас с ним всё так серьёзно, мы гуляем, он меня любит и… и вообще!
Ну вот. Что тут спорить. Пора уезжать. Грач тронул за повод Сиверко. Неумолимый язык требовал чего-то, что подвело бы итоги. Нет бы расстаться попросту – ну, всё, мол, пока…
– Говорят, за рекой Смородиной живут рыцари, безнадежно влюблённые даже в жён своих королей…
– А я так не могу! – взорвалась ни с того ни с сего Руна. Грач остановился. Он видел, как глаза её, до поры серые, подёрнулись желтизной с прозеленью – той самой, что так особенно томила и влекла Грача. – Тайком от всех, от людей, от матери – нельзя любить тайком. Это противоестественно, пошло и нездорово.
– Почему тайком-то? – Грач поразился.
– Да потому что! – отрезала Руна. Овладела собой и, подняв руки, стала поправлять волосы. – В такой ситуации, – заколка-черепашка была зажата в её губах, – тебе лучше пересмотреть своё ко мне отношение!
Грач нахмурился: разговор повернулся какой-то крайне неприятной стороной.
– На твоём месте – отчитывала Руна, – ну, окажись я в твоём положении, я бы непременно посоветовалась с кем-либо об этих… твоих… чувствах. Ты с Бравлином дружишь! Вот с ним и посоветуйся. Понятно?
Тон Руночки раздражал. Слышалась в нём напускная многоопытность.
– Спасибо за совет, – обронил Грач.
– А какого ещё совета ты ждал! – ахнула Рунка. – Ты думал, я закричу: «Ах, Цветик, как это хорошо, я так рада!» Скажу тебе, что в этом отношении было бы лучше, если бы ты ко мне не писал. Твоё письмо меня огорчило! Что скажут люди, ты подумал? Хочешь, чтобы про нас говорили? Мол, ещё в детстве жили, рядышком ночевали – видать было кое-что, то самое, раз поженились!
«Рунка, Рунка, – поморщился Грач. – Куда же тебя понесло? Что же – я и полюбить тебя не вправе? Разве многого прошу? Я же уступаю с каждым словом. Уже ни согласия, ни взаимности не жду. Но самоё право-то любить оставь мне. Не марай, не топчи его».
Ничего этого не сказал Грач вслух. Не к месту это было, напрасно. А отстоять чистоту чувств попытался:
– Подожди, Руна, ну, подожди! А как же все песни, сказки? Купава и Радим – они же с детства друг друга любили…
– Ой, ладно тебе, придумал ещё! – Руна отмахнулась. Наверное, она казалась себе весьма убедительной. – Когда всё это было-то.
За окном её дома звякнуло. На подоконник вскочила подаренная собачонка и мелко затявкала. Руна досадливо поморщилась, иду, мол, иду. Не хватало ещё, чтобы к окну подошла Власта. Выйдёт поздороваться – придётся, не встречаясь глазами, объяснять и состоявшийся разговор, и теперешнее своё настроение…
– Ладно, Рун, – он успокоил топтавшегося Сиверко, расправил стремя и, готовясь подняться в седло, опять всё испортил: – Одно скажу: после этого разговора всё останется как было, и я…
– Ну, уж и нет! Как было, всё остаться не может, – в запальчивости, будто отстаивая что-то главное, заявила Руна. – Цвет, я, конечно, понимаю, что в твоём положении – после суда над тобой – у тебя не было девушек, вот ты и решил…
– Да, ты права, молодец, – он вскочил в седло.
– Ну вот – обиделся! – успела сказать Руна.
– Нет-нет, что ты. Всё в порядке, – бесцветно обронил Грач, вместо плети рукой подстёгивая Сиверко.
Всё быстрей и быстрей. Уже ветер свистел в ушах, а Грач всё поддавал жеребчику сапогами. Улицы и дома мелькали по сторонам. Тётка с ведром шарахнулась и закостерила его вслед. Стайка девчат и пареньков россыпью полетела с перекрёстка. Схватиться бы, сцепиться бы сейчас с кем ни то хоть на кулаках, хоть на арапниках. Но только чтобы до крови, чтобы до звона в ушах, чтобы зубы вон. Так бешено и остервенело дрались тогда – в те самые годы, до суда, как сказала бы Руночка. Без правил дрались, без пощады, проигравшему – смерть и позор. Не с ясной головой дрались, с одурманенной…
Грач углядел, что в раже делает второй круг по Залесью. Вот-вот и откроется всё та же улица и дом Руны. С яростью рванув повод, Грач сбил жеребчика с ноги, тот закрутил головой и на бегу вскочил за чьи-то ворота, на чей-то двор.
«Надраться бы сейчас, чтобы искры из глаз и дым из ушей», – пожелал Грач.
Из дома, у которого встал Сиверко, тянуло знакомым горьким, но терпко-сладким запахом. Здесь жила тётка Щерёмиха, известная тем, что тайком варила маковый дурман, от которого тянуло в блажной хохот. Грач въехал в калитку, едва ли не на огород – благо широко, лишь сапогом царапнул по стойке. Чёрная остроносая баба медленно подняла голову.
– Щерёмиха, что у тебя есть? – гаркнул он. – Чем травишь – беленой, взваром мухомора?
Щерёмиха медленно подошла. Щурясь на солнце, взялась за его стремя и заглянула в лицо из-под чёрного платка.
– Э-э, парень, – укорила, – да у тебя голова не на месте.
– Тебе-то что, Щерёмиха? – хорохорился он.
Та фыркнула и вытащила откуда-то из-под плахты, из-под бабьего шугая флягу.
– На-ка хлебни, – посоветовала. – Отрезвляет.
Грач хлебнул, сколько мог. Резко обожгло горло, в голове зашумело, он подавился, закашлялся. Щерёмиха отобрала флягу.
– Хватит с тебя! Заешь, – сунула ему холодную пареную репу. – Давай, Грач, давай! – сама развернула коня к воротам и хлопнула по седлу. – Рано тебе сюда, не дожил. Езжай отсюда. Езжай, езжай! – выпроводила. Потом крикнула вслед: – И голову береги! Очумелый…