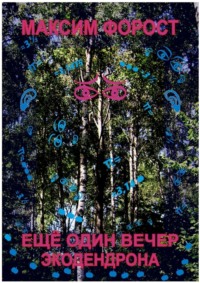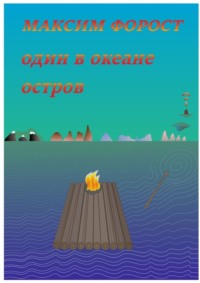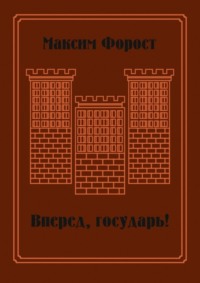Полная версия
Расцветая подо льдом
– Даже знаю, которая, – добавил другой.
Зверёныш задохнулся: прилюдно его назвали то ли охвостьем, то ли прихвостнем. А он, телохранитель и «ближний» самого Вольги, обязан смолчать. Седоусый боец вышел из строя с палицей в руке:
– Я разрешу этот спор. Знаю как! – и с размаху опустил на золотую чашу тяжелую палицу, которой крушат железные доспехи.
Брызнули в снег драгоценные камни, чаша зазвенела, осела, промялся золотой бок. Дружинник бил и бил, сминая золотых зверей и травы. Края давно проломились, безвидная жёлтая стружка торчала из сплющенного комка. Седоусый, усмехаясь, вытер пот и втоптал в снег цветные камешки.
– Вот так я поступал с врагами за Степью. Теперь из этого можно отлить монеты.
В наступившие затем вечер и ночь Язычник был словно не в себе. Впервые лёг спать с оружием, но не спал, а вертелся и вскакивал к окнам, как будто и здесь, в княжьем дворище, могла быть измена. Зверёнышу, денщику и телохранителю, велел спать при дверях, не раздеваясь и с мечом под рукой.
– Это из-за певца, – трясся Язычник, указывая куда-то пальцем. – Асень сводит людей с ума! Стоит ему запеть…
– Вольга! – позвал от дверей Зверёныш. – Ты просто устал. Это всё весна. Весна – очень трудное время.
– Он что-то такое спел, и все они осмелели, – не слушал Язычник, – все стали дерзить. Что он им спел, ты не помнишь?
Зверёныш захотел отвлечь Язычника:
– Про Асеня есть сказка, Вольга, говорят, он якобы живёт вечно…
– Может, он колдун? – Язычник бросился к окну, ему опять что-то померещилось. – Он так поёт – как кровь в жилах бежит.
– За окном всё тихо, Вольга, сядь и остынь. Ничто тебе не угрожает. Дружинники просто… гордятся собой, им это приятно. Это весна, Вольга, всего лишь весна.
Язычник постоял, качая длинным чубом. Потом сел на кровать, скинул с неё меч.
– А ты рассудителен, – оценил он, вглядываясь сквозь темноту в Зверёныша. – Что ты там говорил, какая сказка? Развлеки.
Зверёныш помолчал. Он жалел, что поддержал разговор про Асеня. Не всё теперь рассказывать-то хотелось…
– Да не сказка это – гиль, чушь, брехня. Брешут по деревням, будто бы тот Асень – брат самому Нилу-кудеснику, и, якобы, есть у них на двоих четыре Царь-Камня. А один из Камней – будто бы камень Власти. Да, враньё это всё… Спишь, Вольга?
– Нет, – Язычник вздохнул. – Откуда ты, Зверёныш? Где бывал? Мне порой кажется, ты говоришь гораздо меньше, чем знаешь. А сколько тебе? Восемнадцать?
Зверёныш во тьме криво улыбнулся и не ответил.
На следующий день Вольга снова вывел дружину на загородные поля. Строй стоял в молчании. Неразделённое добро за ночь припорошило снегом, и солнце больше не играло в голых серых деревьях.
Язычник был хмур, но подозрительно сдержан. Тяжеленная палица на темляке висела на левом запястье, хотя левшой Вольга не был.
– Что ж, это значит, мы перестали быть вольницей, – Язычник нарушил молчание. – Вольнице законы не писаны – что ей до записанной правды? А мы, значит, хотим теперь по закону, по заслугам. Мы больше не ватага, мы – войско.
Медленно проходя вдоль строя, Язычник остановился перед седоусым.
– Вот ты, – сказал он. – Какие твои заслуги. Напомни-ка!
– Я не последний боец, – выговорил седоусый. – Не трус и не изменник. За спинами не отсиживался.
Вольга жёстко усмехнулся и протянул руку:
– Ну-ка, – из ножен седоусого он вытянул правой рукой саблю. – Что это? Твои заслуги? – бросил он презрительно. – Вся посечена, вся в ржавчине…
– Та ржавчина – от вражьей крови! – возмутился боец. – Я был за Степью, воевал под Иремом, я… Я товарищей выручал! – седоусый задыхался от гнева, а Язычник пренебрежительно хохотал. Вдруг он выкинул саблю в снег, прямо бойцу под ноги.
– Ну-ка, подними! – приказал он. – Сейчас же!
Седоусый побледнел, стиснул зубы и наклонился за саблей, подставив Вольге затылок. Язычник вскинул левую руку, правой перехватил палицу и, взмахнув, обрушил её на шлем седоусому.
Тот охнул и повалился на бок. Шлем и кольчужная сетка на затылке вдавились в разбитый череп. Пальца раскинутых рук скрючились и застыли. Весь строй молчал, только у Зверёныша бешено колотилось сердце.
– Вот так ты поступил с моей чашей, – закончил Язычник.
Случившееся на загородных полях долго носилось по деревням на реке Смородине, обрастая всё новыми словами и подробностями. Как это красиво, когда некто доказывает правоту силою своих мышц. Разве не достойно это стать песней, преданием, летописью! Что? Не так? О чём же тогда слагать легенды?…
В тот день на Велесовых лугах Грач видел Руну со стайкой подруг и приятелей. Хотел поговорить, да толком не сумел – мешали посторонние. Руна была чересчур счастлива и теребила на руках заморское животное. Сказала, что это подарок Златика, что для неё он купил это у офеней. Лысый зверёнок походил на крысу и макаку, потявкивал и, кажется, звался собачкой.
– Дитя малое! – бросил Грач, но Руна не услышала.
Одна из подруг странно посмотрела на Грача, не ревнует ли? Грач ревновал, но Руна не поняла, а только мило улыбалась и тискала своего уродца.
Его резная самодельщина ни в какое сравнение не шла с подарками Златовида. Грач убеждал себя, что Рунка и впрямь ещё дитя, что чего-то зрелого, серьёзного у неё и быть-то не может ни со Златом, ни с Веригой. Он вообразил, как начнёт с ней объясняться, а она примется фыркать, хлопать глазами и морщиться от раздражения. Ему стало нехорошо. Стыдно и неловко.
К вечеру вконец разбитый он еле добрался до дому. Свалился на лавку, уставился в дощатый потолок. За окном кто-то завозился, в стойле всхрапнул Сиверко, стукнули в дверь.
– Кого-то леший принёс, – пробормотал Грач, поднимаясь, чтобы открыть.
– Можно к тебе? – за порогом, смущённо потирая ручищи, стоял кузнец Бравлин.
– А… Заходи, – Грач растерялся. – Только я не закончил. Там кое-что осталось, – заспешил он, полагая, что Бравлин пришёл за лужёными котелками.
– Ну, здравствуй, – Бравлин неловко прошёл в горницу, сел к столу, на угол. – Не, я не за работой. Просто так зашёл, – он поглядел вокруг себя, на стены. – Ну, как живёшь-то?
Кузнец в первый раз пришёл на хутор поболтать о жизни.
– Ничего. Есть бражка. Будешь?
– Откуда ж у тебя? – поднял нос Бравлин.
– Наварил. Власта ячменём одарила.
Грач принёс кувшин с брагой и два глиняных стакана. Сели.
– Ой, Цветославик! Тяжко мне, понимаешь? – Бравлин взвесил стакан в руке и одним разом отхлебнул половину.
Грач не то чтобы понимал, но ожидал продолжения.
– Слышь, Цветослав? Соглашусь я, всё-таки! – кузнец признался как на духу. – Что на это скажешь? – потребовал. – Что гадом я стану – так?
Грач, чтобы уйти от ответа, налил из кувшина ещё.
– А правильно скажешь – не по совести это! – клял самого себя Бравлин, а Грач помалкивал. – Но ведь, как доходно это, как выгодно… Златовид этот… с Вольхом ихним… А вот не я ихнюю войну придумал, слышишь ты, не я и решаю, кому мечи ковать. Вот, понял? Не, я к Роду Людскому ничего не имею… – заверил он и опять потребовал: – Ну! Чего скажешь-то?
Грач хлебнул браги, переждал, пока перестанет щипать горло, и выдавил:
– И я ничего не имею…
– Я и говорю! – перебил Бравлин, поудобнее уселся и сам налил себе стакан. – Не-е, и не говори, раньше мы лучше жили! При Братстве все были равны. А Братство старалось, чтобы все дружили и чтобы всем жилось счастливо, – хмелея, кузнец делался всё болтливее.
А Грач выслушал, глотнул из стакана, да взял и спросил:
– Куда же твоё Братство подевалось-то?
Бравлин осушил стакан и буркнул:
– Померло! И все мы помрём, – заявил так, будто собрался помереть завтра же. – Чего это Злат так на них взъярился?
Досадуя, Бравлин толкнул стакан по столу, расплескал и, расстроившись, стал вытирать рукавом пролитое.
– Наплюй, – посоветовал Грач и переставил стакан на сухое.
– Чего сразу наплюй-то?… – хмелея, не понимал Бравлин. – Род Людской-то это ведь кто? Они же как мы – лисунки, навии, берегини, – он чего-то показывал на пальцах. – Возьмет, скажем, парень за себя навию, так та родит ему либо сынка-человека, либо девку-навию. Заведено так!
Грач не спорил, кузнецу хотелось выговориться. Бравлин пил залпом, но на середине стакана вспомнил что-то важное и замычал:
– М-м-м! А из-за Асеня? Из-за Асеня – что? Чуть Сланьку не зарезал. Ну, певец, ну, гусляр – чем не угодил-то ему? Хотя скажем… Асень-то – первый друг кудесника Нила. Слыхал, что про него говорят? – Бравлин, осторожничая, понизил голос.
– Я слышал, что он с ума сошел.
Кузнец заговорщицки передвинулся на край скамьи, потом пересел к Грачу и зашептал в самое ухо, дыша хмелем:
– Не-е, говорят, хоть Нил и старый, а не помрет, пока не передаст силу кому-то другому. А силы за ним большие. В народе сказывают: Камни Царские… Ох, ведь как умён он, как умён!
– Ладно, сказки-то пересказывать! – Грач отодвинулся от хмельного кузнеца.
– Сказки? – тот решил было обидеться, но передумал: – А и то верно! Но с Нилом-то ещё и Ладис знался. Помнишь Ладиса? Помнишь, как он всё у нас взбаламутил?
– Помню, – вздрогнул Грач и напрягся.
– Загубили Ладиса! Жалко, хороший был парень, умный, войною не порченый. А говорил-то как, говорил: «Слободы за лесом выстроим. Без посадских повинностей заживём…» Что? Зажили? А всё потому, что Братство скинули. Эй, ты чего? – он замер. – Ну-ка, не кисни, Цветослав! – велел бодро. – Не ты же его укокошил, Ладиса-то…
– Да как же не я? – заспорил Грач. Он тоже опьянел, в голове начинало кружиться.
– А вот не ты. И раньше, говорю тебе, лучше жили! – кузнец сурово подытожил.
– Когда раньше-то? – протянул Грач.
– Когда нас не было. В старину! – решил Бравлин. – Песню помнишь про Купаву и Радима? Вон, когда дружно жили:
Я видывал тот дом в глаза —
Та-та, та-та, та-та…
Русалки заглянут порой,
Иль старый лесовик.
– Всё, больше не помню, – сбился кузнец. – А ты?
– А я, – поморщился Грач, – больше другие слова запомнил:
Дозволено изгоям жить
Вдали от всех – в глуши,
В лесах, где вечный снег лежит.
Дрожи, изгой, дрожи!
– Вот, зара-аза! – протянул Бравлин. – Выходит, и до нас не сладко жилось, – Бравлин, опершись на стол, поднялся. – Пойду я! Спасибо, Цветослав, за угощение.
Он отошёл к двери, помедлил.
– Не ты один, – сказал он вдруг. – Все мы здесь – изгои. В снегах, в глуши…
Кузнец тяжко вздохнул и вышел.
Глава V
Белым-бело на Плоскогорье! Бело от яблоневого и вишневого цвета, бело от искрящего по земле снега. Асень, славный певец, поднялся на Плоскогорье! Кто поёт слаще? Кто играет нежней? Чьи песни чудесней? Мальчишки разнесли по улицам весть, что Асень чуть свет поднялся на Плоскогорье.
Асень – он будто из легенд, а не из жизни. Он будто герой своей же песни. Явился в снега посреди яблоневого цвета. Разбил шалаш на выгонах за Навьим лесом – там, где мальчишки пасут жеребят. Они-то и кинулись гурьбой вокруг Навьего леса.
– Да угомонитесь вы, бешеные! Видали вы его, – засуетились матери, вытаскивая дочерям из сундуков всё самое лучшее.
Видать-то видали, да давно, в детстве, а это уже не считается, потому как не помнят они, а значит это неправда. Повсюду шум, колготня, сумятица. Старики под сто лет повылезали из домов и скрипучими голосами вещали, как сами парнями сбегали слушать Асеня. Им в уши кричали, что, они сон с явью путают, что не мог певец столько прожить, и то, якобы, был другой Асень. А старики злились и грозили палками. Молодняк вечно полагает, будто мир стоит столько, сколько они его помнят, и ни годом больше.
Асень смеялся. Вот он – вышел из шалаша, молодой и древний, страстный и тихий, буйный и мирный. Молва по миру ходит, будто солнце подарило ему глаза, море – уши, а деревья – язык. Лгут иль не лгут старики? А ведь и впрямь он высок и крепок, и он же чуть сгорблен и сед. Белая борода острижена и курчавой волной покрывает щёки, а из-под усов смеются губы. Глаза голубые, юные, лучатся весельем и счастьем. Певец протягивает руки плоскогорцам, приветствуя их. Гусли и рожок у него за спиной вздрагивают и норовят сами скатиться по плечам певцу в руки.
А в Плоскогорье цвели вишни и яблони. Даже здесь, за лесом, мерещился их запах…
– Ах, Асень! Милый Асень! Здравствуй! Оставайся же теперь с нами. Тут и живи, – упрашивают его ласковые девки, добрые жёнки да кое-кто из стариков.
– А я с вами, – смеётся певец, – сегодня я с вами! – и голос у него чист и звонок, мягок и добр. Как будто намешаны в нём шум деревьев, пенье птиц и журчанье ручья.
Из малышни – тот, кто посмелей – коснулся его, потрогал. Удивительно, певец живой и тёплый – всамделишный! Кто-то дёрнул Асеня за руку, увлекая: «Ну, пойдём же, пойдём!»
– Да куда же я от вас денусь! – отзывается певец ласково, и опять точно шумит в голосе листва, бегут ручьи и щебечут птицы.
Окруженный плоскогорцами Асень зашагал туда, куда увлекали. А вышло так, что набежало больше посадских, чем слобожан, певца обступили, задние толкали, и все невольно повлекли его вперёд – на дорогу в слободу, к Залесью.
Старый певец шёл споро да всё время поглядывал поверх голов, будто примечал несуразицу – и белый снег, и буйную зелень. С дерева, с птичьего гнезда посыпалась на сугроб труха, Асень лишь хитрó усмехнулся и покачал головой.
Навстречу выросла толпа из Залесья, встала, заколыхалась людьми, как трава на ветру. Посадские расступились и отпустили Асеня. Тот вышел один, на общее обозрение. Так стоял и посмеивался, пока из-за спин слобожан выбирался Златовид со стрелками. А слобожане, озираясь на Злата, гудели и возмущенно роптали, их ропот волнами отражался от толпы посадских.
Стрелки были вооружены. Злат встречал певца с охраной. Охраняли его сразу пятеро: двое с боков, трое встали полумесяцем сзади. У всех под руками сабли, а желтоволосый вожак – в броне, в кольчуге, с поножами и налокотниками, без шлема. Руки обхватили крыж обнаженного дэвского меча – того самого, без желобка для стока крови.
Так и замерли у всех на глазах. Пахло цветами вишен и яблонь. Запах пьянил и кружил головы. Плоскогорцы роптали из-за испорченного праздника. Злат ёрзал, елозя острием палаша по снегу.
– Да брось ты, Златка, – кто-то подал голос и заткнулся.
Только Асень склонился будто в поклоне и, посмеиваясь, почерпнул с земли снегу.
– А птички гнёздышки свили, – сказал невпопад.
Желтоволосый вожак оскалился и фыркнул, отчего стал поход на зверька, не слишком крупного, но загнанного и злого. Асень мял в руках снег, пока весь ком не растаял и не растёкся водой по локтям.
– Не к добру это, – забормотали старики, – когда снег летом…
Злата аж передёрнуло, он шагнул с левой ноги, поднял меч справа, держа его в обеих руках над собою. Но тут же заорали плоскогорцы, и Злат помедлил опускать палаш. А певец, умыв заснеженными руками бороду, выступил и прошёл между стрелков, легко задев кого-то.
Посадские и слобожане на радостях потекли следом. Злат бессильно развернулся на каблуках, взрыхляя снег, и стеганул палашом по снегу – только белые брызги полетели – да судорожно передёрнул губами. Все это видели. Только не поняли, давится ли он злым плачем или скверным образом ругается.
Одни пацаны ничего не поняли или вовсе не заметили. Всё дёргали да дёргали певца-гусляра за кафтан:
– Когда запоёшь-то, а? Будешь петь – или что?
– Спою-спою, – клялся Асень. – Что бы ни случилось, спою! – и то ли стонущий ураган, то ли смеющийся ветер раздались в его голосе.
В тот день пахло свежескошенной травой. Влажная, чуть-чуть кисловатая свежесть струилась в воздухе, и Зверёнышу отчего-то мерещилось, что так – травой и мокрым железом – пахнет свобода. Казалось, эта свобода вот-вот пропадёт, отнимется и надо успеть надышаться. Он вытянул шею, оглядел всё окрест и поискал, нет ли опасности – Язычник отпустил его с десятком бойцов в дозорный отряд, чтобы предупредил в случае беды, а сам с полусотней дружинников следовал в полёте стрелы сзади.
Зверёныш непрестанно оглядывался: Вольга ехал в гуще охраны и почему-то без шлема, смурый и мрачный, а в самом хвосте, тянулся тот гонец, что притащил дурную новость. Зверёныша передёрнуло: ой, не ко времени собрался Язычник в полюдье собирать мзду. Гонец на взмыленной лошади наехал на них сегодня утром, долго пил воду, мыча и тыча рукой по ходу пути, вниз по Смородине, потом выговорил свою весть. Оказывается, уже три дня, как Язычниковы ушкуи, промышлявшие в устье реки, захвачены буянскими опричными боевыми кораблями. Ушкуи сожжены, все молодцы перерублены. Вольга стал мрачнее тучи, но не повернул назад, а поехал дальше.
Зверёныш не выдержал. Бросил дозорных, развернул коня и припустил к Язычнику. Язычник хмуро поглядел, но разрешил ехать рядом. Чагравый – сумрачно-пепельный с карим переливом – жеребец Язычника ступал тяжело и весомо.
– Послушай, Вольга… – замаялся Зверёныш.
– Ну-ну, – Язычник скосил глаза. Последние месяцы только один Зверёныш мог запросто говорить с ним. Старые дружинники уже не близки ему.
– Повернём домой, – решился Зверёныш. – Все этого хотят. Ну его к лешему, твоё полюдье. Не искушай Судьбу-Долюшку, мстительная она.
Язычник покивал и пробасил хмуро и недовольно:
– Обойду три погоста, куда добытое свозят. Зайду в мою сечевую ставку, что у речных порогов. Там прошлогоднее добро свезено. Людишек соберу, коли разбежались. Тогда домой.
– Вольга, – напомнил Зверёныш. – Гонец-то сказал, что опричники как знали, где твои ушкуи прячутся.
– Это калиновские старосты меня продали! – разгорелся Язычник. – Жив буду, ворочусь – никому не прощу! Пятки железом прижигать буду. – Чагравый жеребец всхрапнул, вздыбился, замотал гривой.
– Но ведь знают, знают буянцы, как ты в полюдье пошел и какой дорогой едешь! Вернемся, а? Пока живы все.
Язычник удержал жеребца, смирил его, глянул опять искоса, вздохнул:
– Слышь, Зверёнок, – грустно-грустно позвал Вольга. – А без полюдья чем я людей одаривать буду?
Бойцы Вольги-лучника двигались неторопливо, ленясь, точно служили вожаку не по любви, как прежде, а по обязанности.
– Эту твою ставку буянцы уже нашли и разорили, – предрёк Зверёныш, – и погосты расхитили, какие нашли…
– Или твой гонец буянских опричников на пятках притащил?! – взъярился Язычник.
– Нет, – Зверёныш на миг перепугался от такой выдумки. – Нет, он клялся, что было тихо. Клялся, что во весь дух мчал. Ночью мчал – не спал, и не было за ним погони.
– А Путьша-то где? – вдруг подъехал Ярец. – Где Путьша? – прошевелил толстыми губами.
Язычник рванул повод, вздыбил чагравого, остановил отряд. Кони под седоками заплясали, кружась на месте. Кто-то взялся за сабли: слева открылось поле, справа – незнакомый лес. Путьшин дозорный отряд вопреки правилам ушёл вперёд за косогор и не вернулся.
– Он не должен так делать, – забормотал Зверёныш, тревожась, – он не должен исчезать из виду.
– Всё! – прохрипел какой-то дружинник. – Попали.
Из леса двумя рукавами, без свиста и гиканья, со стуком железных доспехов, вырвались, огибая их сзади и спереди, опричные буянские сотни. Все кони по-строевому одномастные, бурые, все воины в бронзовых панцирях, в шлемах с высокими гребнями.
– Засада! – бессмысленно завопил кто-то.
Буянцы окружили, охватили отряд. Люди Язычника сбились в кучу вокруг вожака. Везде сверкали буянские панцири, вились алые всадничьи плащи. Язычник страшно медленно тащил меч из ножен. Его дружинники как во сне падали, взмахивая руками, будто пробуя взлететь. Кони, неготовые к бою, ржали и не слушались. Их зачем-то стегали по ушам, а кто-то кричал:
– Вольгу заслоняй! Вольгу в середину!
Нелепая мысль пронеслась у Зверёныша: «Почему он это позволяет? Почему не кричит: „Отродясь за спинами не прятался!“?»
Зверёныш не умел драться. Забивать батожьем лежачего – это одно, встретить бой с оружием – совсем иное. Его нечаянно, без злого умысла, вытеснили на край, прочь от Язычника и ближе к мечам буянцев. Зверёныш вытянул саблю и, повинуясь скорее рассудку, чем воинской сноровке, взмахнул ею в воздухе, когда увидел перед собой буянца – горбоносого, буробородого и с глазами карими и холодными как бронза. Зверёныш не знал, как нападают, когда враг безжалостен, на коне, с мечом и щитом. Кто-то ударил его – не этот буянец, другой, сзади, не в голову, а по плечу.
Боль пронзила кости, он выпустил саблю и потерял равновесие. Падая с лошади, он вниз головой разглядел, как мало людей вокруг Язычника и как его, оглушив, тащат с коня буянцы. Мир несколько раз перевернулся, меняя местами небо и землю, и взорвался.
Без сознания он пробыл недолго. Боль скоро вернулась. Шум и скверная брань ворвались в уши, кругом топотали и ржали разбежавшиеся кони, кто-то говорил, словно нудно читал по списку. Зверёныш хотел перевернуться – он валялся на земле со скрученными за спиной руками, а перед лицом торчал чей-то грязный сапог. Он поднял голову, успел заметить коней и брошенных поперёк сёдел связанных Ярца и Путьшу. Путьша, кажется, был обрит – голая голова была мокра и вся в свежих ссадинах.
Буянец грязным сапогом перевернул Зверёныша – мир опять опрокинулся и закружился. Буянец оказался не воином, а опричным чинушей в хитоне, в плаще с капюшоном и с чернильницей за поясом.
– «Рост имеет высокий, глаз наглый, волос золотой, скалится, гордясь, руку к мечу тянет, когда бы меча при нём и не было», – читал он из хрустящего скрученного трубкой списка. – Ну что, верно этот?
– Этот, этот, – подтвердили. Сотник в золочёных доспехах прошёл в поле зрения. Чинуша что-то черкнул в списке и кивнул в сторону:
– Готовьте его, – и отошёл, перекручивая список и сличая других.
Кто-то живенько подбежал к Зверёнышу, звякнул вёдрами, и ковш ледяной воды выплеснулся ему на лицо, на лоб и темя. Зверёныш охнул и закрутил головой, моля:
– Не надо, не надо…
Перед лицом мелькали руки и сапоги, его жестко схватили за волосы, вздёрнули голову и заскребли тупой бритвой, крякая и откидывая вон клоки жёлтых волос.
– Не верти башкою-то, не верти, – посоветовали. – Ухо отхвачу – тебе же одна морока будет.
Дохнуло дымом. Рядом раздували походный кузнечный горн. Ноги и левый бок лизнуло волной жара. Выкрутив шею и выпучив глаза, Зверёныш увидел подле себя кузнецов и связанного, но живого Язычника. Вольга, зачем-то вывалив язык, следил, как готовятся заковать его в цепи. Кто-то жилистой рукой, глумясь, ухватил его за клок волос на темени и за усы:
– Повязали гада! Так брить его, что ли?
– Да брей, чего уж тут, – отозвались безразлично. С полведра воды выплеснулось в лицо Язычнику.
– Погоди, постой! – одумался прежний безразличный. – Голова-то с чубом приметная, а ему, поди, плаха светит. Голову без чуба на колу не узнают. Не брей, не надо.
Зазвенел молот – гулко, с переливом. Язычник засипел сквозь зубы, слушая, как заковывают ноги. За ноги подтащили к горну и Зверёныша. Ножом срезали путы, стянули сапоги, задрали штанины. Холодное железо прильнуло к коже, кузнец клещами согнул его в хомут.
– Не жмёт, эй? – окликнули. Зверёныш не знал, что это было к нему. – Душой тебя спрашиваю: цепи-то надолго тебе… Эх, рогожки потом подоткни, кандальник. Натрёт… – бормотал сердечный тюремщик.
Зверёныш сжал зубы. Звонко ударил молот, расплющивая в проушине хомута заклёпку. Ударная волна пробежала по костям. Зверёныш завыл, но сам же и подавил вой. Стук и звяк повторились. Стальной стук бил в голову, словно огонь и лёд лили на бритое темя попеременно. Сталь звенела, и молот бил без конца. Свежей травой уже не пахло. Пахло дымом от горна. Ещё была сталь, только сталь, звон цепей да ещё стук без конца.
Стук повторился. Настойчивый, упрямый. Грач простонал во сне и повернулся. Хватило сил проснуться и сесть. Голову давило обручем, во рту горько и сухо. Вчера просидели с Бравлином, сегодня сказывались последствия. Грач покачал головой, но тут упорный стук повторился. Стучали в окно и возле окна.
«Кто-то прошёл на двор, пока я спал», – подумалось.
– Цветослав! Ну, ты дома – нет? Я знаю, ты здесь, – раздалось требовательно и капризно.
«Руна!» – вскинулся Грач. Из-за окна лился зрелый полуденный свет. Грач вскочил как ужаленный, запахивая лежанку и натягивая штаны.
– Сейчас всё брошу и уйду! – пообещала Руна твёрдо и обижено.
Он бросился к двери – небритый, взлохмаченный, но налетел боком на стол с кувшином и парой стаканов, спохватился. Заметался взглядом. Войдет же, увидит, что скажет! Схватил кувшин и, не найдя, куда сунуть, сунул под лавку. Выбежал в сени, распахнул дверь.
– Руна, я тут! – не переводя дух, выкрикнул.
Руна, не торопясь, появилась. Вышла из-за стены, от окна – спокойная, нарядная, в голубом ситцевом сарафане и цветной накидке.