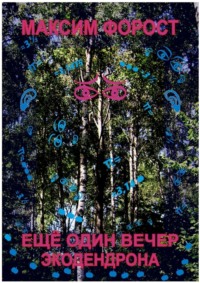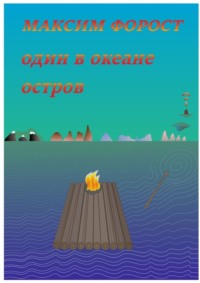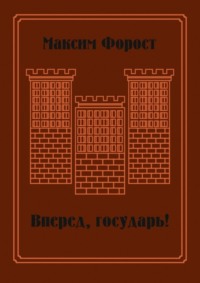Полная версия
Расцветая подо льдом
Ему было легко, весело. Гуляя, Златовид молодецки играл плечами и встряхивал золотистыми волосами, ветер шевелил ему волосы.
Ветер шевелил ему желтоватые волосы, а он подумал: «Легкокрылые кони – это надо же сказать такую глупость!»
– Вообще-то, – сказал Зверёныш шёпотом, чтобы звук не разбегался по реке, – крылатый конь – это редкая масть. Благородная. Крылатый это когда у каурого или саврасого чёрные «крылья» – оплечья по шерсти.
– Как у того? – спросил Язычник, показывая вдаль.
Смородина в нижнем своём течении тиха и нетороплива. Казалось, воды её – туги и упруги. Осенний холод бежал по воде и ветром шелестел по камышам в прибрежной заводи. В камышах, как охотники, в лёгких лодочках таились молодцы Язычника – по четверо-пятеро в каждой из дюжины лодок. Вверх по реке медленно плыли от Калинова Моста три струга под свёрнутыми расписными парусами.
– Как тот? – повторил Язычник. – Тот крайний – это крылатый?
Зверёныш вытянул шею, вгляделся предельно острым своим зрением и мотнул головой:
– Не-е. Но тоже ценится, барышники таких любят. Это – саврасый в масле.
Язычник повернулся, качнув лодку, и недовольно зыркнул.
– Ну, в масле – это так говорится, – протянул Зверёныш. – Грива и хвост у него черны как уголь, а сам аж лоснится… как мокрый песок.
Струги шли без ветрил – ветер для парусов слабый. На рядах скамей сгибались и разгибались гребцы с длинными, скрипучими в уключинах, вёслами. Уже послышался плеск вёсел о воду, заунывные припевки гребцов, фырканье коней в стойлах. Купцы-лошадники возвращались из Калинова Моста на Буян-остров. Зверёныш различал лица приказных, торчавших на кичках – площадках на корабельных носах, сразу за резной длинношеей лебедью.
– Прилично купцы затоварились, а, Зверёныш? – оценил Язычник. – Как тебе бурые?
– Это – караковые. Бурые – это карие в краснину, а караковые – в черноту. К тому ж с подпалинами, ну, с прожелтью на мордах. Почти что мухортые. Масть – так себе, но стати – правильные, ценные.
– Вот так – да? – не ожидал Язычник и опять сверху до низу оглядел Зверёныша. – А тех на втором струге как назовёшь? Светлых, белёсых до желтизны.
– С бледной серотой и темной гривой – половосерые, – прищурился Зверёныш. – А белёсогривые, желтоватые – то соловые. А вон та – изабелловая, – он оживился, – буланая в краснину. Она как соловая, только гуще, и грива чёрная. Такие богачам нравятся, они их дочкам своим берут!
– Откуда ты взялся, Зверёныш? – Язычник усмехнулся. – Ты из Степи? Лицом, вроде, не похож. Откуда родом?
Зверёныш отвернулся. Отвечать не хотел.
– Где я рос, кобылье молоко с материнским мешают. А лошадей крепче людей берегут. Коневод я.
– Конево-од, – протянул Язычник и языком прищёлкнул.
Струги с лошадьми подошли близко. Как раз – на челнах им путь пересечь. Язычниковы молодцы завозились. Тихо, стараясь не плеснуть, приготовили вёсла. Извлекли мечи, подняли луки.
– Ладненько, – оценил кто-то из старых Язычниковых работничков. – Бойцов у них мало, из людей так себе – сарынь одна.
– Сарынь? – бросил Зверёныш, глядя только вперёд, на корабли.
– Голытьба, сволочь разная, – одними губами пояснил Язычник. – Сарынь – по-здешнему.
Гребцы на кораблях тужились, гребли с оттягом, не торопясь. Язычниковы молодцы изготовились, напряжение возросло.
– Пора!
Кто-то засвистел лихо и по-разбойничьи. Лодки вырвались из камышей, заскользили ровненько наперерез стругам. Вода заплескалась. «Раз-раз!» – заработали вёслами дружиннички. Зверёныш зачарованно не сводил глаз с пёстрого свёртка паруса на мачте и тискал потную рукоять сабли.
– Вёслы! Вёслы суши! – горлышком сложив ладони, прокричал Язычник.
Приказный на первой кичке забегал, размахивая руками, что-то закричал. На кораблях переполошились. Расстояние таяло. Взмахи гребцов спутались, ритм потерялся. На первом струге подняли вёсла, но вода несла струг вперёд, к разбойничьим лодкам. На втором сильнее загребли по левому борту, норовя уйти вверх по реке, но не развернулись, одумались, взялись грести скорее, да время уже пропало. Лодки Язычника их окружили.
– Ушкуйники! Ушкуйники! – бестолково кричали на стругах. Над бортами мелькали лица, нёсся храп испуганных коней.
– Вёсла прочь, вёсла! – ругались налётчики. Торчащие вёсла мешали лодкам пристроиться к борту.
– Прочь от вёсел, сарынь! – закричал тот старый работничек. – С дороги, все на кичку! – рукой он даже показывал голытьбе, куда им убираться. – На кичку, сарынь! Сарынь, на кичку!
Гребцы, кто ещё сидел, повскакали с лавок. Весла либо попадали в воду, либо прижались к борту. На втором струге замешкались. Кто-то в доспехах побогаче грозил Язычнику саблей.
– Давай, – приказал Язычник. Лучники с лодок выстрелили раз и другой. На корабле закричали. Два тела, кувыркаясь, упали в воду. Зверёныш оскалился, видя торчащие из спин древки.
Сарынь загомонила, кинулась гурьбой на кичку. Лодки пристали, воины заскакивали снизу на борт, бранясь, рубили тех, кто замешкался. Зверёныш соскочил с борта на лавку, любопытства ради ткнул саблей скорчившегося под лавкой гребца. Тот жалобно закричал, задёргался. Стало противно. С борта спрыгнул Путьша и добил его, дурно хохотнув. Переглянулся со Зверёнышем, и тот оскалился – в бою надо быть злее, чтобы тебя за вожака считали.
Налётчики дрались на корме у конских стойл. Купцы и приказные в кафтанах да с лёгкими сабельками пытались сопротивляться. Вольга-лучник тяжеленным мечом сам срубил двоим головы. Куда лёгким саблям до меча! Зверёныш и не заметил, как бой окончился, купцы сдались. Вокруг кричали, гремело железо, выли раненые. Победители волокли купцов по полу, мешали живых с мёртвыми.
Кто-то завопил: «Не губи!», кого-то с бранью потащили из трюма. Защищая, верный холоп кинулся на Ярца. Тот оторопел, заслонился, а после выставил меч и ткнул неуёмного холопа в живот. Тот повалился на бок, и прятавшихся в трюме женщин вытащили. Купцову семью, что ли?
В стойлах на корме ржали и бились лошади.
Тяжёлым шагом Язычник пересёк палубу. Шлем с нащёчниками и наносьем прятал его лицо. Перед ним валялся скрученный руками за спину купецкий староста, его буянская тога перемазана чёрно-красным. Поморщившись, Язычник снял шлем.
– Узнал меня?
Староста поднял голову.
– Хе-е, – протянул, скривившись, и сплюнул кровью в сторону.
– А я-то как услышал, что Салтанка под осень купцов пошлёт лошадьми затовариваться… – Вольга-лучник не договорил, замолчал хмуро. – Расплатимся? Кто там у тебя, показывай.
В трюме пряталась девчонка лет двенадцати с золотыми серьгами и, видимо, её нянька, молодка с пухлой грудью. Молодка-то была из местных, говорила понятно, а девчонка что-то лопотала по-своему, наверное, по-буянски. Староста захрипел, кашлянул и вдруг выпалил:
– Пусти её! Вольга, слышишь? Это же дочка Салтанова. Я ей и за няньку, и за дядьку, я ей как родной.
Язычник мотнул чубом, потёр горло – бычью шею намяла горловина кольчуги:
– А давешним годом моих молодцов Салтанка отпустил ли? Выкуп за них принимал ли? Живы они иль померли на плахе-то! – Язычник, опираясь на меч, вогнал его в палубу. Аж доска треснула.
Девчонка что-то забормотала. Зверёныш вслушался, но ни слова не понял: кар-кар да гыр-гыр и всё. Кормилица только глаза переводила с неё на Язычника.
– Вольга, – пленный староста пытался привстать. – Знаешь, за что тебя «язычником» кличут? Чужой ты здесь. И языком чужой, и повадками чужой, и веришь во что честным людям не полагается…
– Врешь, сука, – Вольга был страшно спокоен. – Я тем, кто слово не держит, языки из пасти рву.
Пленный сглотнул и привстал-таки, распрямив спину. Лицом побелел – это Зверёныш заметил. Он, кажется, уже ко всему приготовился.
– Этих, – показал Язычник на девчонку с кормилицей, – за борт. В воду.
– Пусти-и!!! – взвился пленный, но ему заломили руки, опрокинули на доски. Девчонка закричала по-тарабарски. Воины схватили её и няньку, та закричала надсадным визгом:
– Не её! Меня, меня губите!
Обеих скрутили веревками, плюясь и бранясь на себя от досады, выкинули в воду. Река гулко плеснула, поглотила их. Только сарафан пузырём поднялся и тоже потонул.
– А ты, холоп, – Язычник нагнулся к старосте, – с сарынью на берег плыви и не смей потонуть. Салтанке всё, как было, расскажешь. Запомнил ли?
Сладка мест Язычника. Ох, и сладка! С чем бы её сравнить-то? Только сама обида, лелеемая в сердце, бывает столь сладкой. Нет, не легкокрылый полёт на конях, не сны и мечты юности – только обида и месть так сладки.
Грач целыми днями сидел и вырезал Руне подарок. Звенья браслетки выходили одно к одному – ровными, гладкими. А на душе точно кошки скребли. От последнего разговора со Златом осталось чувство – вроде мутного осадка в бутыли с прогорклым маслом. Злат не просил, нет – Злат велел ему заняться молодняком.
Грач принялся просто так, играя, резать ножом кусок липы. Получалась игрушка – всадник, укрощающий вздыбившуюся лошадь. Не сразу понял Грач, что всадник похож на Златовида верхом на отбойной розовой кобылице. А когда понял, то резанул ножом по лицу всадника, изуродовал его и бросил в печь.
Он взялся разгребать на дворе снег, но только испортил, погнул о мёрзлый сугроб лопату. Бросил работу, стал слоняться по хутору. «Ведь Изяса, – думалось ему, – дозволили растерзать за одну лишь бабку-берегиню». Чего ждать ему, вилину сыну? Вечером в дверь постучали.
Кто-то прошёл, перелез через закрученную на ночь калитку. Грач отворил дверь. В дом, неловко оглядываясь и зачем-то поправляя руками шапку, протопал посадский конюший Гоеслав.
– А пустишь ли гостя, хозяин? – Гоеслав пытался изобразить улыбку, но не столько поджатыми губами, сколько дряблыми, повисшими щеками. За шесть лет Гоес и близко не подходил к изгойскому хутору.
– А здрасьте, – пробормотал Грач.
– Ладный ты дом выстроил, – пытался вести разговор Гоес. – Э-э… Сам всё справил?
«Община помогала!» – хотел огрызнуться Грач, но сдержался. Гоеслав и так это понял по его виду.
– Ты это… – конюший понимал, что сказал глупость, но не знал, как исправить дело. – Сесть можно?
– Садитесь, – Грач обронил равнодушно. А Гоеслав остался стоять.
– Ты это, Цветослав! – начал, наконец, Гоес. – Уполномочен тебе сказать, что истекшие шесть лет ты вёл себя примерно, не вызывая нареканий, – Гоеслав замолчал, припоминая приличествующие случаю выражения. – Не взирая на тяжкие условия, ты показал себя старательным кустарём… – он умолк, подбирая слова.
«Прощают, – Грач заложил руки за спину. – Златовид был прав».
– Хоть я тебя тогда… Ты это… А Златовид, гм, Кучкович с тобою дружен! Он говорил, что помочь, мол, обещал бы… Ты передай. Согласны мы. Обсудить и… всесторонне взвесив, принять общим решением.
Конюший вытер пот с лица и засобирался. Он всё сказал. Оставаться здесь больше не зачем.
– Так ты давай… Работай, трудись, – добавил, стоя уже на пороге.
«Вот прямо сейчас, на ночь глядя, и побегу к Златовиду», – подумал Грач вслед Гоеславу. Но все те слова, такие вымученные и выдавленные через силу, были столь нелепы и нехарактерны для конюшего, что Грачу томительно оказалось ждать до рассвета.
Он не выдержал. Запер Сиверко и просекой побежал в Залесье к бывшему дому Изяса.
Глава IV
На следующий день Грач углядел всадников из Залесья едва ли не на середине просеки. Злат вошёл в избу, почти пританцовывая, как спущенный с коновязи жеребчик. Его верноподданные Скурат, Добес и Верига переглядывались и хмуро озирали дом. Злат отцепил от пояса ножны с палашом, присмотрелся и повесил на видном месте, на вбитый в стену гвоздь. Отошёл на шаг и одобрительно кивнул.
– Мы у тебя похозяйничаем? – то ли спросил, то ли разрешил сам себе Злат. – Лавки переставим, чтобы людям сесть как надо.
Грач пожал плечами. Скурат с Веригой заскрипели по полу тяжелыми дощатыми лавками.
Первым явился кузнец Бравлин с подмастерьем. Шагнул в горницу, вдохнул, чтобы на весь дом поздороваться, да что-то засмущался. Уселся на лавку у стены, сложил ручищи на коленях и уставился перед собой на палаш, часто моргая и не шевелясь.
– Что, мастер, нравится? – негромко спросил Златовид. – Смог бы такой же сработать?
– Смог, конечно! – с готовностью гаркнул кузнец и опять смутился. – Только не наша это работа, – добавил потише. – У нас змеев не делают. Это дэвская работа, таких за Степью полным-полно. Их ратники сотнями притаскивали!
– Ве-ерно, – похвалил Злат, но как-то кисловато. Не понравилось ему, как определил кузнец, откуда палаш мог взяться.
В сенях затопали, отряхивая снег. Вошли Гоеслав и Млад, а за ними, чуть замешкавшись старый воин Ратко.
– Добрый-добрый день! – Злат вышел навстречу. – Как погодка?
– Зима, право слово! – проворчал Гоес. – И снег, и тучи…
Посадские прошли, расселись на лавках поближе к Бравлину.
– Такая вот жизнь, – обронил Гоес.
– Тяжелая? – живо уточнил Злат, стоя к нему боком и глядя себе под ноги.
– Да есть, от чего потужить! – согласился Гоес. – Я говорю, вот как той осенью ни одного коня не продали, так и с весны купцы жмутся. В Степи, сказывают, кони дешевле да лучше! За что только воевали… Конюх Мироша Чурилыч говорил уж, небось?
– Понимаю, – кивал Злат, – понимаю.
– А ты пожалей, пожалей его, Златовидка! – раздалось напористо. Гоеслав аж вздрогнул.
В дом входили слободские конновладельцы – Венциз и его брат. Венциз отдал кому-то шапку, кажется Вериге, топнул ногой, сбивая с сапога снег, и прошёл на середину горницы:
– Здрасьте вам всем! – (Старший брательник его держался у него за спиной).
– Да что же мне, в убыток хозяйствовать, себя обделять, что ли? – заворчал Гоес и вдруг вскочил, тыча в Венциза пальцем: – А ты, ты мне, в родной посад – в общину, где голоштанным бегал! – коней втридорога продаёшь! За чубарого в яблоках столько запросил – на те деньги бархату сорок локтей купить можно!
– Мои кони ценные, – точь-в-точь как Изяс, перебил Венцизслав. – Мои – упряжные, тяжеловозы.
– Да на твоём дворе, – вскипел посадский конюший, – на твоём дворе все кони краденые!
– Как так! – Венциз аж задохнулся.
– Краденые, краденые! У меня, у него и у него краденые, – Гоеслав ткнул поочередно в себя, в Млада и в Бравлина.
– Врешь, конюший! – Венциз поднял кулаки. – Кто хотел, тот и уходил из общины! Честный дележ был! Я как все жребий тянул. Сам в слободе конный двор ставил, у тебя помощи не просил. Никому не должен! А что после Рати не верховые, а упряжные кони понадобятся, это тебе и Ладис говорил, покуда жив был. Он тебе, тебе первому житья не давал. Это ты, ты натравил на него вот этих, которые тут сейчас… – Венциз в запальчивости махнул рукой на Златовида и Грача, да вдруг прикусил язык и втянул голову в плечи. Исподтишка глянул на Златовида.
Златовид, чуть скалясь, улыбался, держа руки на поясе и покачиваясь на носочках. Грач медленно покрылся испариной, по спине побежали мурашки, ноги одеревенели. Венциз крякнул и поднял к затылку руки, чтобы поправить шапку. Шапки не было, он пригладил волосы.
Все молча глядели в пол, только староста Млад неуютно покашливал. Венциз зачем-то посмотрел на Грача и поморщился. Грач напрягся, можно подумать, его считают главным виновником того, что случилось. Он перехватил взгляд Златовида. Злат презрительно усмехался.
– А ты, брат, загнул, что сам свой двор ставил, – пробурчал, спасая положение, Гоеслав, – не про тебя это: тебе пузо мешает!
– А пузом и тебя не обидели, – не спустил Венциз, оба перешли на личности.
– Да у тебя тоже матерний дед – водяной! – не унимался Гоес. – Домовой шалит, леший в чащу заводит, а водяной топит. Топит!
– Врёшь!
– Ша, ша, ша! – остужая, подскочил Златовид.
– Не водяной, так жихарь!
– Врёшь! Врёшь!
Златовид зыркнул на Скурата. Рыжебородый пихнул в бок Венциза, с силой надавил и усадил его на лавку подле Гоеса. Сам сел между ними. Ругаться через его голову стало неловко, перебранка погасла.
– Мы же собирались говорить о Плоскогорье, – упрекнул Злат и голос у него вдруг сделался жёстким. – Я пришёл не с пустыми руками. Но принёс не подарки. Принёс напоминание о долге! О долге человека, чистого пусть не по крови, но по духу, – стрелок уставился на Венциза, конновладелец под его взглядом съёжился. – Долг! В исполнении долга – ваше спасение. Вождь стрелков всеславный Вольх Вещий купит ваших коней – верховых, упряжных, любых. Стрелкам нужны кони. Потому как много месяцев уже идёт война с теми, кого зовут нечистью.
Над головой Златовида висел на стене тяжёлый палаш с почерневшей от пота рукоятью. Плоскогорские старшины и конновладельцы молча подняли на него глаза.
– Я пришёл не один. Со мной пришла весть о войне. Лобасты подняли мечи в горах. Лешаки взялись за топоры на Смородине. Из городов им платят серебром жихари и богарты, что торгуют вином и опьяняющим зельем. Обидам нет числа, а память им – многие поколения. Водяной всего лишь топит, но берегини, русальи и вилы совращают наших бойцов на блуд, чтоб чистые люди выродились, чтобы некому было биться.
– Вон отсюда… – выдавил Грач. Это Златка напоминал ему, что он – вырожденец и полунечисть, что его мать будто бы совратила отца. – Вон отсюда… – выдавил он, но никто его не услышал, и он проглотил оскорбление. Грач не встал, не ушёл, не хлопнул за собой дверью. Ведь это его дом, покидать-то свой дом он не собирался.
– Вы помните? Полвека назад они жили на этой земле, – Злат топнул ногой, – вот, в Навьем лесу, – он показал рукой за окно. – Они платили за соседство злобой, а наши лошади не подпускали их на пять шагов. Вы помните, как наши деды вступили в Опричное Братство и выгнали нечисть из Плоскогорья?
– Было, это было! – заволновался старый опричник Ратко.
Златовид перечислил все ссоры и столкновения с лесным и водяным народом, всякого рода вилин морок, навью порчу, ведьмины круги, дурной глаз, пагубу скота, наведённый сап, насланный ящур, накликанный падёж. Венциз-коневод ушёл в себя, словно рак в раковину, и выглядывал диковато, выжидая, чем дело кончится. Бравлин неуютно мялся, бестолково разглядывая ладони.
Уже вечерело, огня в темноте никто не зажигал. Златовид говорил о подхваченном знамени и о крепких руках, охраняющих покой в низовьях Жаль-реки и Пучая, говорил о битвах в горах и лесах, а Скурат расписывал поход к Чёрной Грязи некоего Гвездояра. Оказалось, Злат принимал участие в приступе Калинового Моста – тот город был полон нелюдских слобод. А ещё Злат говорил о марше вверх по Смородине и о лешаках, вооружённых булавами и секирами.
– Лешаки – злые… У них – топоры, секиры, пращи с камнями. Мне говорили, что перед боевым топором меч – ничто, я не верил, а теперь знаю, – Златовид вдруг охрип, и слова стал выговаривать нечётко. – Они нас ждали… Кто-то предал, завёл в засады. Но те убиты – те, на кого я думаю… Полк поредел, а их больше, много больше, чем нас. Гвездояра нет, полк разбит, а я – тут. Я тут, а Вольх ждёт, когда вы исполните свой долг.
Вдруг его губы искривились, и Грач понял, что Злат не играет. Злат глядел мимо всех в угол горницы. Пережидая спазм, он бесцельно поправлял перевязь. Потом постарался взять себя в руки и что-то сказать – кажется, про Путьшу и Ярца, про местных парней, но только кадык прошёлся вверх-вниз по горлу.
– Гм, – издал Гоес, – понятно… А Ярец – хороший был мальчик… Ну, и Путьша тоже.
Злат вскинулся, упёрся глазами в Венциза:
– Да будь у нас кони – мы бы лешаков порубили. К коню ни одна нечисть не подступится! Вот потому-то Вольх и купит коней – много, дорого, любых! А за парадных – особо заплатит. Они нам, когда победим, пригодятся. Эй, Бравлин! Нужны подковы, сбруя, доспехи и оружие! Бравлин, можешь нанять работников. Станешь нашим оружейником, – назначил Златовид.
Кузнец вздрогнул и забормотал что-то невнятное.
– Кожевники нужны, – предположил Млад и умолк, испугавшись.
– Нужны! – неожиданно поддержал Гоес. – От них же сёдла и упряжь.
Всему Плоскогорью было известно, что община общиной, но старший конюший имеет негласный доход от частных шорников.
– Кожевники тоже годятся, – решил Златовид. – Опытные мастера-то хоть есть?
– Все мастера в Залесье, – перебил Венциз. – А лучший – Севрюк, коновалов родич.
– Севрюк? Я запомню. Севрюк… – отметил Злат. – Нам не только сёдла, нам для всадников сапоги нужны.
Коневоды зашумели, перебивая друг друга. Нашлись и сапожники, и скорняки, и медники – делать удила и трензели, и деревщики – тачать для стрелков стрелы, и точильщики – затачивать для стрел наконечники.
«А слаще мести и обид – одна только власть бывает. С ней даже слобода медоваров не надобна, пусть они хоть всей артелью расстараются…»
Без шлема, но с мечом у пояса, не задерживаясь, шёл по горницам Язычник. Клок волос вздрагивал на его темени. Свет мерцал в зеркалах и на гранёной плитке, туманился по шёлковым обоям и пропадал где-то в тени на высоком потолке. Ещё одни тяжёлые двери раскрылись. Следом за ним вошёл и Зверёныш. Держась за правой рукой Язычника, он изображал оруженосца.
– Роскошествуют они тут, – презирая, бросил Язычник. Свет из стрельчатых окошек неуверенно метался по полутемной зале. – А вот я – воин. Сплю, кладу под голову седло.
– Тут в пору князю жить, – протянул Зверёныш, оглядываясь.
– Он и жил, – откашлялся Язычник. – Его это дворище было. Теперь тут совет посадников.
Их встретили. Высокий человек с бородкой назвался тысяцким. Ещё шестерых крепких мужей тысяцкий назвал «градскими старцами».
– Старейшины лучших в городе семейств, – пояснил он, и «старцы» горделиво качнули чёрными бородами.
– Чего посадники не явились? – оборвал Язычник.
Тысяцкий приосанился и надменно сказал:
– Я уполномочен сообщить, что наш господин-город Калинов Мост берёт тебя, Вольгу-лучника, на службу. Но злодей и вор Язычник пускай за стеною останется.
– Кому-то я тут не нравлюсь? – Вольга-Язычник выдохнул, отцедив воздух сквозь зубы, а Зверёныш даже руку на саблю положил от его голоса. – Посадникам моё золото не по вкусу пришлось? Или мало оружия мои люди им показали?
Тысяцкий недовольно поворотил нос и, сдерживаясь, неторопливо выговорил:
– Лучшие люди города постановили, чтобы ты жил не здесь, не на прежнем княжьем городище, а там, за городом, и чтобы людей держал при себе не более пятисот, и чтобы кормился от артелей медоваров и рыбников, но не сверх положенной меры. Весною лучшие люди дозволят тебе распахать поле, какое укажут.
– Укажут? – Язычник не вытерпел. – Лучшие люди – да кто это, чем они лучшие?
Тысяцкий закатил глаза, попросил Долю-Судьбу о терпении и выговорил, глядя поверх головы Язычника:
– Купеческие сотни суконников и шелковников держат иноземную торговлю и связи с Буяном-островом. У них – деньги, люди, корабли, пристани и товары. Они велят тебе, Вольге-лучнику: в город ты не вступаешь, а дозорами и разъездами бережёшь дороги и подступы. Сверх того ты обязуешься извести на Смородине и Чёрной Грязи речной разбой и ушкуйников, что помимо тебя до сей поры имеются.
Язычник выслушал, а Зверёныш не понял, что отразилось в его глазах. Сам бы он ни за что не спорил с теми, кто так глядит.
– Это с пятьюстами людей? – тихо спросил Язычник. – Порядок в городе и его охрану – пятью сотнями бойцов?
Тысяцкий мотнул головой:
– Нет, не охрану. За тобой одни дозоры. Порядок в городе берегу я с моим ополчением. Я же – тысяцкий.
– Стало быть, я, вооружённый, – протянул Язычник, – даже при беспорядках не выхожу на улицу без твоего ведома?
Полные сил «градские старцы» закивали. Тысяцкий важно молчал. На том и расстались. Зверёныш сопровождал Язычника до выхода из палат и с дворища. Последние ворота закрылись за ними.
На мостовую, мощённую камнем, мелко сыпался колючий снежок. Вдоль улиц гулял ветер, холодом тянуло с ещё не замерзшей реки.
Прямо на улице их поджидали. Они назвались старостами промысловых соседств. Назвались по одному – медовары, рыбники, солевары. Ждали его давно. С утра, наверное, если судить по замёрзшим носам.
– Мир вам, Всеславный Вольга, здравствуйте, Вольга Вещий, – кланялись они уважительно в пояс, но без заискивания.
Язычник приостановился. Склонил бычью шею, будто в ответ поприветствовал:
– Чем сумею, помогу, – сказал, – просите. Я при золоте, при людях – если кому ссуду или защиту надо, спрашивайте. От избытка и барахлом помогу. Или рассудить с кем по правде? Мне тут… милость от посадников вышла! – он усмехнулся: – Жить за стеной города, да в кормлении поприжаться и в людях урезаться. Чего ж вы попросите?
Старосты отошли и живо промеж себя заговорили. Потом закивали головами и выпустили вперёд медовара:
– Мы тут сообща порешили, – сказал он, зачем-то потирая руки. – Ты, Всеславный, сверх посадничьей меры кормись-ка у нас. И воск, и мёд тебе будет, и рыба вон от него, – он показал на старосту рыбников, – и солонина кое-какая.