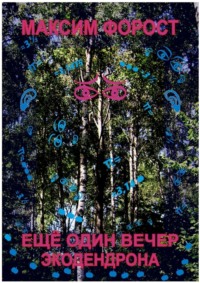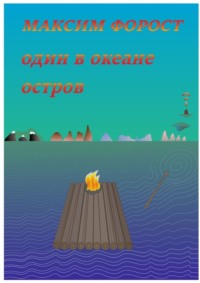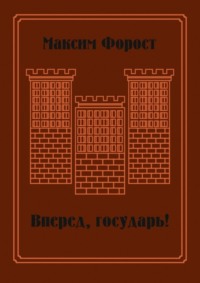Полная версия
Расцветая подо льдом
– Младик, лапушка, – заискивала тётя Власта, – отпусти-ка мне овса, милый. А, что не так, любезный?
– Не положено, – Млад нахмурился. – Община решила от слободских бирок не принимать! Раз ушли из посада – стало быть, кончено с вами.
Посадский двор зашумел, заворочался. Общинникам теперь кормов больше достанется.
– Не по совести это, не по уговору, – затянула Власта.
Звякнуло окно Посадской Избы. На холодок по пояс высунулся Гоеслав, бывший Писарь местного Братства:
– По уговору, всё по уговору! Лошадей у нас выкупили, рабочую силу с посада свели. Это ратники вас попутали! Нил с Асенем вас баламутят да Ладис им подпевает!
– Кто тут ратников помянул…
К Посадской Избе, хромая, приближался Ладис. Голос у него высокий, но будто посаженный, словно сам он до сих пор в разведке либо на марш-броске, где шум производить опасно. Сказывали, что это Ладис сманил плоскогорцев уходить в слободу. Ратники признают его за старшего, хотя он молодой и не заслуженный. Чуть-чуть подволакивая ногу, Ладис собирался подняться на крыльцо, но увидел в окне Гоеса и приостановился:
– Ты, что ли, ратников поминаешь?
Общинный писарь заёрзал, хотел спрятаться, но не стерпел и выкрикнул:
– Понавезли себе добра награбленного! Знаем, знаем мы, откуда добро у ратников. Братству всё про вас известно!
– Где оно теперь, твоё Братство, где опричники, – ратник отвернулся. Что толку с Гоесом воевать? – А про добро не угадал. Своего я врагу не отдал, хотя джинн-воин мне ногу отнять пытался. Да и чужого не взял – ни щита рассечённого, ни лука сломанного.
При слове «опричники» из-за спины Гоеса едва не выскочил в окно старый вояка Ратко:
– Разберёмся! – взвизгнул опричник. – Всех на чистую воду выведем!
– Жизни бы лучше радовались, – Ладис слегка поёжился на холодке.
– Залесью красного петуха пустим! – из-за спин взрослых вылетел тоненький голосишко Ратича, внучонка Ратко.
Слободские ни с чем расходились с посадской площади. Цветик вперёд досадующей Власты припустил к возку. Руночка снисходительно глянула на него и обещалась не выдавать.
Колёса возка постукивали по свежей, не наезженной ещё просеке, утварь погромыхивала в возке, а мысли Цветика витали где-то по сторонам. Витали-витали да на Ладиса перескочили. Всё-таки, здоровский он мужик, Ладислав-лучник. Пацаны как-то раз обступили его и давай требовать: – «Расскажи да расскажи, чего на войне было». – А он: – «Не хочу про мертвяков вспоминать». – «Ну, тогда веселого, веселого что было». – А он в сердцах возьми и брякни: «Дурной травы до одури выкуришь – вот тогда до усрачки весело. У дома дерево торчит – весело! Дом подожгли и мужика на дереве вздёрнули – ещё веселее!»
Цветик ни разу не видел повешенных. А что, это и в правду смешно? Говорят, они пляшут и дрыгают ногами. Увидеть бы…
Их дом теперь третий в слободе, если считать от просеки. Цвет соскочил на землю, едва возок остановился. На соседней улице шла стройка. Мужики впятером взволакивали на стену тяжеленную балку, а внизу стояла ватажка ребят, а среди них Златовидка.
– Слышь, мелкие, отошли бы! Зашибу, так до смерти греха не изжить, – рявкнули сверху.
Златик, глядя мужику в глаза, как стоял на одном месте, так ни на шаг и не сдвинулся.
– Ну и мальцы пошли, – буркнул мужик, сдавшись. – Ни взгляда, ни окрика не боятся.
Пацаны и впрямь пошли бешеные. Ни угрозы, ни брань в грош не ставят. Ещё и сами обложат. Старики побаиваются их и стороной обходят места, где ребятня собирается.
Златка, сохраняя достоинство, отошёл в сторону. Подмигнул Цветику, как свидетелю его победы.
– Эй, привет, придурки! – сзади раздался хрипатый голос с признаками вечного насморка. Цветославка и Злат медленно обернулись. Там стоял Путьша Кривонос и весь светился от удовольствия.
– Это ты – придурок, а я – Златовид Кучкович, – внятно объяснил Златик.
– Гм-м… Да это я так… просто… Злат, – замямлил Путьша.
Злат нарочно держал Путьшу при себе. В руководстве ребячьей ватажкой он у Златика вроде правой руки. Путьша тупо соображает, но зато жесток в расправах. Теперь что-то трепыхалось под Путьшиной курткой. Цветик не удивился бы, если это была полузадушенная крыса, приготовленная, чтоб бросить в лицо ему, Цветославу.
Путьша как раз завозился с курткой, и Цвет отпрянул, готовый заслониться руками, но под курткой оказалась не крыса, а скрученная проволокой чёрная птица.
– Что это? – Цветик от неожиданности вытянул шею. – Чёрный грач?
– Во какой! – радовался Путьша. – В силок словил! Гляжу – трепыхается. А их там налетело! Я за лесом на лугу ставлю, на зерно ловлю.
– Дай-ка сюда, – Цвет протянул руки.
– Чего тебе! Мой! Из моих рук смотри!
Цветик отобрал птицу. Грач задыхался, проволочная петля перетянула ему лапы и крылья. Он, казалось, почти не дышал. Только полузакрытое птичье веко подрагивало. Цветослав попытался оттянуть проволоку, но она остро вонзилась в тело птицы и затянулась ещё туже. Грач умирал.
– Он же домой вернулся. Он летел долго. А ты его так, проволокой, – Цветка всё же не заплакал от жалости. Сдержался.
– Ты ещё поцелуй, поцелуй его! – заржал Путьша. – Грачиный папа! Сам как грач, чёрный! Грачиный папа!
– Кривонос, – обозвал его Цветка.
Грача без разговоров забрал Златовид. Придерживая ему голову, Злат вынул из-под рубахи складной нож и выпустил лезвие.
– Ты зачем это, Злат? – Цветик чуял недоброе.
– Он же мучается? – бросил Злат через плечо. – А знаешь, как от удушья долго умирают? Мне ратники говорили. Там джинны пленных в землю закапывали, чтоб задыхались подольше.
Острие укололо грачиное горло.
– Дай я, дай я! – завертелся Кривонос. – Златик, ну, пожалуйста, дай я!
Злат великодушно отдал ему нож и полумёртвую птицу. Торопясь и сопя, Путьша зарезал грача, распоров его от самого горла до хвоста.
– Зверюга ты, – выговорил Цветослав.
– Он бы всё равно сдох, – заверил Путьша. – А ты – Грач, Грач! Иди, давай! Вон твоя Снежка явилась. Поцелуйся с ней!
Цветик невольно глянул, куда ему показали. Снежка и правда ему нравилась, хоть этого он стеснялся. Он уже трижды отнимал у Снежки пряники и дважды пугал её лягушками. Наблюдать за её испугом доставляло некоторое удовольствие – смесь неумелой жалости и неловкого сочувствия. А ещё трогательно хотелось понять, чем же эти девочки так отличаются – помимо длинных волос и передничков.
На стройке появился Ладис, а Снежка, младшая его сестрёнка, вертелась рядом. К Ладису как раз приблизилась посадская тройка – бывший братский писарь Гоес, староста общины Млад да опричник Ратко. Ладис напрягся и цыкнул на сестрёнку, отогнал её, чтобы не мешала. Цветослав поёжился. Вдруг померещилось, будто всё, что он видит, а с ним уже было – то ли во сне, то ли наяву. К нему, а не к Ладису будто бы шла посадская тройка с приговором о выселении. Странная эта мысль зависла в воздухе, и померещилось, что Цветка сам на себя со стороны смотрит. Так порой во сне бывает…
Старый опричник Ратко брезгливо взглянул на Цветку, а тот судорожно сжал в руках отнятого у Путьши мёртвого грача, ему и мёртвую птицу жаль было бросить на улице. Старик сморщился, сжал кулаки и, наступая на Ладиса, заорал на него прямо посреди стройки:
– Общину рушишь! Тех, кто тебя выкормил, кусаешь! Основы подрываешь!
На скулах у Ладиса медленно натянулась кожа, а руки его напряглись до посиневших вен.
– Сказать, старик, когда я основы подрывал? – со свистом он выдохнул. – Когда под стены Садов Ирема подкопы рыл! Рыл, да завалило меня, а когда выбрался, – он, сдерживаясь, перевёл дух, – то такие, как ты, меня полуживого допрашивали, не в плен ли сдался и как это вышло, что живым вернулся.
– Да твой полк распускать нельзя было! – взвился старый Ратко. – В острогах вас держать – от честных-то людей подальше! Бунт затеяли!
– Бунт, говоришь? Я, пока при смерти лежал, клялся: коли выживу, так всех вас, кто меня за Степь послал, до смерти порешу. Вот это был бы бунт! – выкрикнул Ладис, так что Снежка испугалась и отпрянула. – Нила, доброго старца, поблагодарите, что я встретил его, а он мысли во мне переменил.
– Отщепенец, выродок, мерзавец! – зашёлся вояка Ратко. – Ты – сукин сын и сам щенок! – развоевавшийся старик размахнулся и раскрытой сухой своей ладонью ударил Ладиса в лицо.
Не в челюсть, не по щеке, а именно что в лицо: по губам, по глазам, по носу. Ладис покачнулся, переступил, но на хромой ноге устоял. Снежка тоненько вскрикнула, Цветик в порыве метнулся к ней, позабыв, что держит в руках мёртвую птицу. А Снежка, увидав её, закричала, истошно зайдясь в плаче и отмахиваясь:
– Ой, это грач, мёртвый грач! Не надо, мамочка! Грач!
Цветославка растерялся, ошарашено понял, что все вдруг накинулись на него: Ратко шипит и с ненавистью грозит кулаками, Гоес, растопырив руки, ловит его, Ладис замахивается, Златовид предательски тычет в него пальцем, Путьша хохочет. На один миг мерещится, что он, Цветка, и есть эта скручённая птица.
Порывисто он оборачивается и видит Снежку, испуганную, в слезах. Она глядит на него и будто бы заранее знает то плохое, чем всё закончится. Цветик от неё шарахается и взглядом упирается в обреченные, смирившиеся с будущей болью глаза ратника Ладиса.
«Что вы хотите от меня?! – пытается кричать Цветослав. – Что вы смотрите?! Огнич! Огнич, где ты? Помоги мне!»
– Огнич! – Грач просыпается, а в глазах ещё мерещатся те взгляды – ждущие, требующие, укоряющие… Где он сейчас – в доме матери или у Власты? Ах, да. Он – изгой, он на своих выселках.
Темно. Он прижимает к лицу руки, чтобы в закрытых глазах вспыхнули огоньки. Осознаёт, что так и сидит у сундука, посреди комнаты.
– Ты теперь со мной, Огнич, – шепчет Грач. – Ты не бросай меня. Ты мне нужен.
Глава II
Вещей у него мало. В основном, это одежда, что и так на себе. Ещё письмо Златовида да в особом свёрточке на груди – чудо-кушачок матери и её бусы из бирюзы, это на удачу. Всаднику в дороге важнее то, что может понадобиться коню. Грач через сени прошёл к стойлу. Сиверко всхрапнул, потянулся к нему губами.
– Привет, привет, – Грач отмахнулся, по-хозяйски осматриваясь.
Здесь на стене висит сбруя, приготовленная ещё с вечера и натёртая вонючей мазью из дёгтя, воска и рыбьего жира. Тут же попона с капором, чтобы холодными ночами укрывать Сиверко, и новенький чапрак. Вот тут Грач заколебался: чапрак это покрывальце под седло, чтобы не натирать коню спину, вещь неплохая, но лишь тогда, когда скачешь от хутора до Залесья. В дальний путь лучше взять что-нибудь поплотней. Из угла Грач выдернул войлочный потник – пусть не новый, потёртый, но зато прочный.
Он обернулся к Сиверко:
– Ну, вот теперь привет, красавчик. Ну-ка, давай, показывай свои ноги!
Грач присел, чтобы осмотреть и ощупать у жеребчика сухожилия на пястях и бабках. Жеребец молод и крепок. Сухожилия у него в порядке, их даже не надо перетягивать жгутами. Растяжений не случится. Но гнать во весь опор Грач не станет и жгуты, на всякий случай, с собою захватит.
– Умник, Сиверко, молодец!
Он вывел жеребчика со двора – лучше седлать его на воле, чем суетиться лишний час во дворе. Закрыл за собою дом и ворота, и вдруг болезненно сморщился: по просеке со стороны Залесья шли Власта и Руна. У Грача даже перехватило дыхание. Руна была по-весеннему хороша, а он мучился, стараясь не глядеть на неё или же, если бы такое было возможно, смотреть насквозь, как будто она из стекла. Лихорадочно он подыскивал слова для объяснения своего поведения, но так и не подыскал их. Руна успела подойти.
– Ну? Что больше не заходишь? – спросила с вызовом в голосе. – Привет, говорю!
– Здрасте, – выдавил Грач. Сказал-то это обеим, а в глаза поглядел одной Власте. На Руну смотреть он был не в состоянии. – Собираюсь, вот.
– Да я вижу, – протянула Власта со вздохом. – Нам Златовид говорил. Когда же тебя ждать? К осени?
– Да нет, вы что! За месяц обернусь, отдам письмо и обратно, – а сам подумал: – «Неужто к осени?»
– Ой, ну, счастливо тебе. Пойду, а вы с Руной пока попрощайтесь, не буду мешать.
Грач уложил потник на спину Сиверко и вздохнул, якобы непринужденно.
– Ну? – повторила Руна. – Что не зашёл? – Так требовательно спрашивать умела она одна. – Взял бы и уехал, не сказав ни слова?
Грач потерялся:
– Так дела, работы было много… – стараясь не поднимать глаз и не дышать запахом Руны, он уложил на потник седло, сцепил под брюхом жеребчика передние подпруги, расправил задние.
– Да что ты! Чем же ты занимался? – допрашивала Руна.
– Сама понимаешь. Где сбрую привести в порядок, где седло подправить, – он постарался сказать это легко, но голос выдал его напряжение. – Коня-то обслуживать надо, как ты думаешь!
Зачем-то он натянуто рассмеялся и тут же сосредоточил всё внимание на подпругах и путлищах.
– Понятно, – Руна не разделила веселья.
– М-гм, – сказал Грач, и они замолчали.
Молча Грач надел на шею жеребчика подперсье, пристегнул верхние ремешки к луке седла, нижний ремень пропустил меж передних ног под брюхо, скрепил его одной пряжкой с подпругой. Молчать стало невыносимо.
– А ты чем занята? – спросил, через силу.
– Да какие у меня дела! Это же у тебя всегда новости! – вырвалось у Руны.
Грач спиной почувствовал, как Руна скрестила на груди руки. Пришлось сделать вид, что он разбирает запутавшееся оголовье. Захотелось, чтобы всё это побыстрее закончилось. Поэтому он разлепил губы и напомнил:
– А вы, смотрю, куда-то идете.
– В Приречье, – помолчав, с прохладцей обронила Руна.
– М-гм, – опять сказал Грач.
Ему сделалось вдруг так неловко, так стыдно и за себя, и за свои слова и поступки. Он накинул на коня оголовье, а жеребчик замотал головой и переступил с ноги на ногу. Теперь бы прикрикнуть на него: «Ну-ка, стой, Сиверко!» – да Грач постеснялся Руны. Хотелось раствориться в воздухе. Он заботливо уложил на дёсны коня грызло и удила, подтянул узду, расправил повод и с облегчением услышал за спиной:
– Ну, пока!
Он тотчас повернулся, закивал поспешно:
– Ага, теперь до осени, – и сцепил руки, чтобы ненароком не коснуться ими Руны.
Руна отвернулась и побежала в Приречье. Грачу стоило большого труда не смотреть вслед. Руна скрылась. Его конь был осёдлан. Накопившаяся досада вырвалась вдруг от всего сердца:
– Ах, да что же ты не зашёл, она ещё спрашивает! Смотрите-ка, какой вопрос неожиданный! Зар-раза, – он сжал кулаки, относя последнее слово к себе самому. – Хоть, хоть! – прикрикнул он, вскакивая в седло. – Да пошёл же, пошёл быстрее!
Просека побежала навстречу, потом полетела, потом понеслась. Ещё немного, и он примчится к Залесью. Не желая смотреть на знакомые с детства дома, Грач резко свернул на тропу, что бежала к чаще Навьего леса. Еловая шишка вылетела из-под копыт и звонко щелкнула в дерево. Скоро край Плоскогорья, опушка леса, Велесов луг, а за ними склон, круча – и прощай, родной дом.
– Сиверко ты мой, Сиверко! – Грач на скаку сам себе приговаривал. – Я столько лет мучился. От этой любви, будь она неладна. Вздыхал, на луну выл, как продрогший волк, – и всё зачем? Чтобы мне, как последнему беспутному человеку, объяснили, что я предосудителен и порочен? Разве же это заслуженно, Сиверко?
Сиверко не отвечал. Он вздрагивал спиной и привыкал к новому, жёсткому, пахнущему дёгтем седлу. Тропка под ногами бежала резво, путь был хорошо знаком. Грач не раз срезал здесь дорогу. Он еле успевал отбивать рукой ветви с мокрой зеленью да пригибаться под сучьями потолще…
– Эй, Златовид, это ты, что ли?
Приятеля Грач заметил первым. Лес кончался, скоро начинались обрывы и сразу за ними – дорога на Карачар. Златовид бежал навстречу – как раз от обрывов.
– Ну, так что, я отправляюсь? – Грач еле сдержал коня, поравнявшись.
Злат промычал что-то невразумительное и стал торопливо отряхивать одежду. С куртки и штанов посыпалась, упала на снег, став от этого ещё заметней, бурая шерсть. Злат неуклюже втоптал её в скрипучий наст.
– Со своим псом, что ли, игрался? – Грач был в седле и глядел сверху, а это, как-никак, преимущество в неудобном разговоре. – Я как-то видел его в лесу. Это же волк, а не пёс. Да?
– Да? – бессмысленно повторил Злат. – Ну, ты бывай, бывай, Цветик, до скорого! – он протянул ему руку. – Дороги тебе ровной, без ям и косогоров.
– Как скатерть, – буркнул Грач и, не коснувшись его руки, тронул повод.
За лугом, что стелился над кручей, он чуть-чуть проехался по снежку вдоль обрыва, выискивая, где безбоязненно начать спуск. Выбрал, наконец, участочек и пустил Сиверко под уклон с кручи. Конь заскользил вниз, упираясь и перебирая ногами. Навстречу полетели заснеженные всхолмья и косогоры, заросшие склоны и уступы оврагов и яров. Знакомая фигура промелькнула где-то сбоку, почти вне поля зрения. Грач на ходу оглянулся, выворачивая шею. Да кто же это – неужели Асень?
На первом уступе Грач удержал Сиверко и оглянулся ещё раз. Конь заплясал под ним, а Грач завертел шеей. Певец Асень маячил на самом верху, над склоном, и оттуда, казалось, пристально всматривался в Грача. Даже сейчас, с расстояния полуполёта стрелы, чудилось, что заглядывает он в самую душу. В груди стало горячо – именно в груди, где, наверное, гнездится душа. Асень, чувствовалось, хочет что-то ему сказать, вот он почти шагнул вперёд, вот даже приподнял руку, чтобы помахать Грачу…
– Фьють-фьють! Гоп! – над склоном раздались свист и гиканье.
Сверху, с Плоскогорья, съезжали два всадника – Добеслав и Скурат, подручные Златовида. Первый свернул под уклон, конь его пронёсся по косогору, отсекая Асеня от Грача, в руке у всадника поблескивала сабля. А второй наверху тем временем наступал на певца, вздымая кистень, плеть-многохвостку с убойными гирьками. Асень отступил, закрывая руками голову. Ещё пару шагов, и все трое скрылись из виду.
Грач тронул коня, рассчитывая, что с другого уступа что-нибудь видно. Он даже постоял там немного, растеряно крутя головой, но ничего не дождался. Только снег на склоне искрил – и тишина.
Грач шевельнул поводом, Сиверко шагнул вперёд и вниз. Дорога заскользила навстречу, разбрызгивая по склону снег из-под копыт.
К полудню Сиверко вышел на тракт, укатанный карачарскими обозами. Тракт всё ещё бежал под уклон, теперь, впрочем, отлогий да без ухабов и рытвин. Грач какое-то время по привычке подгонял Сиверко, стремясь скорее миновать все ближние леса и косогоры, но, одумавшись, стал придерживать его. Нельзя же упарить жеребчика, этак и застудить недолго. Всадник ни за что не позволит коню бежать, как вздумается. Часть времени можно гнать его вналёт, зато потом столько же времени сдерживать и вести шагом, часть времени – скорой рысью, и снова шагом и только шагом. Так и чередуют: вналёт – шагом, рысью – шагом. Такими переменками всадник одолеет за день три, а то и четыре дневных перехода.
Семеня под горку, Сиверко встряхивал Грача, а тот, не моргая, загляделся на плывущий мимо них и перламутрово переливающийся под солнцем снег. Мысли текли сами по себе, порой слетая с двигающихся губ:
– Вот, странная это вещь – любовь. Такая… неодинаковая, разная! А всё одним словом зовется: лю-бовь – коротко и даже бессмысленно. Что это такое: лю-бовь? Вот, была у меня любовь-окрыление – когда хотелось петь, кружилась от восторга голова, а сам был как пьяный и какой-то… счастливый? Ну да, счастливый. А была и любовь-ревность – вот уж, не приведи Судьба: в душе огонь, и кулаки сжимались, и, помню, сотворить хотелось что-нибудь безрассудное и злое, что-нибудь доказать, а что и кому, не помню. После и третья любовь была, совсем уж, пожалуй, нелепица: любовь-ненависть, любовь-обида – когда ревность прогорела, а пепел остался. Так он-то, этот пепел, и томил, и морочил до тошноты, а ведь всё равно – это тоже любовью было. Вот и последняя любовь есть… любовь-боль – без ревности, без обиды, просто капли крови выступают на сердце и точат его – молча, без слов, однообразно. Так больно… Зачем мне сдалась она – такая лю-бовь? То счастье, то ненависть, то обида, то боль… Славная была штука – лю-бовь, красивая…»
Вечерело. Снег всё также искрился, а Сиверко сошёл с карачарской дороги и двигался себе по долинке вдоль нижней отрасли плоскогорских лесов.
– Хоть-хоть! Побыстрее, красавчик!
Склоны и само плато Плоскогорья давно пропали из виду. Хотелось развеяться, выветрить из головы отяжелевшие мысли. Грач погнал Сиверко во весь опор, приподнимаясь, как следует, в стременах, когда конь перемахивал через коряги.
– Эх, Сиверко! До чего же мир нелеп этим летом! – прокричал Грач, старательно веселя себя. – Леса зеленеют, а сугробы всё горбятся. Чего ему не тается, снегу-то! Таял бы себе…
Он резко умолк. Ему на время померещилось, что впереди причудливо играют лучи вечернего солнца. Что-то вдали как будто обрывалось, так масло ножом отсекают. То ли свет заканчивался, то ли мир круто менялся. Сиверко сбавил ход, затрусил мелкой рысцой и вконец заартачился. Грач и сам заколебался, заёрзал, но тут же заторопился и в нетерпении погнал жеребчика, чтобы скоро осадить его на самом краю белого искрящегося мира.
Посреди лесной поляны кончался снег. Словно кто-то начертил ему пределы, плугом пропахал здесь межу. Грач не выдержал и соскочил с коня, снег привычно всхлипнул под ногами. Он переступил межу. Земля на той стороне была обычной, воздух тоже – не свежее, не жарче. Грач сел на корточки, коснулся травы и снега. Снег был холодным, мокрым и липким, трава – мягкой, тёплой и колко-шелковистой.
Вот, если поглядеть строго вдоль края снега, то видно, как неосязаемая межа исполинской дугой уходит сквозь редкий лесок всё дальше и дальше. Медленно-медленно загибается она, стремясь где-то замкнуться и окольцевать собой, как ведьминым кругом… что? Плоскогорье?
Грач слепил снежок и забросил его в траву. Снег плюхнулся в середину листвы одуванчика и на глазах истаял.
– Бр-рр-рр! – затряс головой Грач, будто гоня наваждение.
Он оглянулся. Позади по-прежнему торчал из сугробов редкий лесок, белели заснеженные овражки, косогоры и перекаты. Отсюда, с зеленой летней травы, снег этот казался рассыпанной по лесам и оврагам солью.
«Солью? – усмехнулся Грач. – Откуда она здесь? Кто её столько… наплакал?»
– Сиверко!
Жеребчик, сколько бы не мешали ему удила, уже пощипывал зелёную травку.
– Нам некогда, поехали! – Грач вскочил в седло, натянул повод.
Снова побежала дорога, снова замелькали деревья. Теперь без снега. Когда-то в этом лесу жили лесовики и навии. Лес этот считался нижней отраслью верхнего Навьего леса, хотя и был отделен от него другими урочищами. Теперь Навий лес пустой, Рода Людского здесь нет и в помине. Сиверко спокойно прядает ушами, едва заслышит то белку, то птицу. Белка и птица враз бы умолкли, окажись неподалеку хоть одна навия, или лесовик, или иной кто-нибудь из лесного народа. Живность всегда перед ними смолкает, зверьё, как и домашний скот, любит лишь человека, а иных боится – как-никак, нечисть.
В лесу смеркалось и вечерело. Становилось неуютно и страшновато. Нет, не оттого, что из-за дерева вылезет леший, а из-за оттого, что как раз и не вылезет – некому. С лесовиком договориться можно, а с медведем – попробуй-ка.
Зверя одомашнить лесовикам во век не удастся. Повелевать охотой, кочевьем или кормежкой зверя – это одно, а жить рядом с ним, ухаживать – совсем иное. Тут человечья природа нужна, чтобы зверей приручать. Зато лесной народ приручил деревья. Это правда, в порядке вещей, чтобы дерево лесовику поклонилось или по приказу перешло с места на место.
Над головой, как нарочно, со свистом крыл и с противным шорохом пронеслась летучая мышь. Грач разглядел мерзкую мордочку с раззявленным зубастеньким ртом.
– Тьфу! Вот уж кто нечисть так нечисть!
Пора подумать и о ночлеге. Грач отыскал уютную полянку или, скорее, прогал среди деревьев. Спешился.
– Мы спать будем тут, Сиверко, – сообщил Грач, расседлывая конька и вынимая из сумы попону с капором. – Считай, что мы в ночное пошли. Хочешь, травку покушай. А я сейчас костерок разведу.
Грач укрыл жеребчика попоной, набрал хворосту и палок, развёл огонь. Согрел сначала руки и полез в сумку за припасённым ужином – куском хлеба, варёной морковью и четвертью кочана капусты. Сиверко через его плечо потянулся и цапнул губами два листа с кочана.
– Уйди отсюда! – Грач оттолкнул его голову. – Для тебя полный лес травы, а ты лезешь.
Ночи стали уже недлинными, но здесь, в глубине леса, оставались тёмными. Грач торопился быстрее заснуть, пока костерок не испустил последние языки и не сдох.
– Сиверко, – шёпотом позвал он: кричать ночью в лесу было боязно. – Хорошо бы нам завтра до людей дойти, а? А то припасов не много…
Где-то в лесу хрустнуло. Грач поднял голову, но ничего в черноте ветвей не увидел. Сиверко – весь в отблесках костра – насторожился, вытянул шею, поднял морду и, подбираясь поближе к огню, утробно промычал, как иногда мычат лошади.