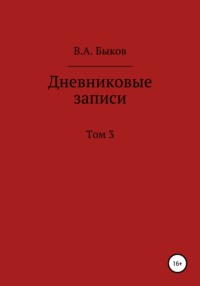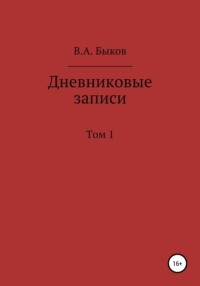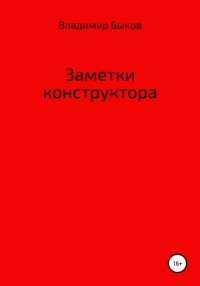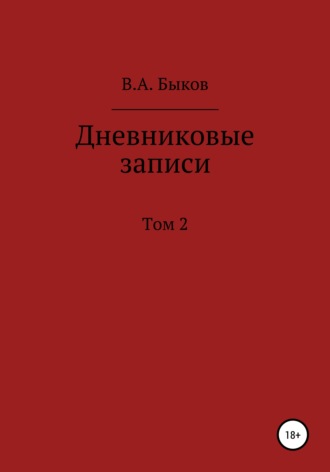 полная версия
полная версияДневниковые записи. Том 2
Сегодня же написал письмо в Уралмашевскую управляющую компанию (которое привожу ниже), и встретился с ее директором Найдановым. Разговор получился вполне конструктивный, даже приятный во всех отношениях. Хотя известно, что приятность в разговоре, еще не приятность в решениях, тем более, в делах. Параллельно передал ему копию последнего письма Чернецкому насчет дворовой автостоянки.
«Уважаемый Александр Алексеевич! Направляю некоторые соображения по проекту договора управления многоквартирным домом. Считаю, в целях повышения ответственности договаривающихся Сторон, наиболее целесообразным провести назначение Управляющей компании соответствующим решением Администрации района. Это позволит, кроме того, резко ускорить процедуру данного назначения и сократить многократно все связанные с ней оформительские и прочие работы.
Приложение:
1. Упомянутые соображения по проекту управления многоквартирным домом.
2. Проект (альтернативный вариант) управления многоквартирным домом».
1. Договор должен быть составлен применительно к управлению конкретным многоквартирным домом с конкретными пользователями его помещений. Составлен без излишней детализации того, что оговорено в действующих законодательных и нормативных актах и того, что очень просто регулируется и уточняется в рабочем порядке, а формально может быть отнесено к категории «иных» моментов, обстоятельств, требований и т. д. Кроме того, в целях сокращения и удобства пользования, составлен в едином стиле оформления однотипных по характеру пунктов и не содержать в себе повторов отдельных пунктов, одних и тех же связующих слов.
2. В договоре должны иметь место абсолютно обязательные для него положения в части сдачи дома и условий приема его в управление Управляющей компанией. Четко сформулированы принципы оплаты за имущество разными категориями пользователей. Приведено требование утверждения Управляющей компании и договора органами местной власти, что представляется важным обстоятельством в деле повышения ответственности Сторон.
3. Названный проект, в силу недостаточной моей компетенции, естественно, подлежит дополнительной юридической проработке в части терминологии, законодательных и нормативных актов, отдельных наименований организаций.
4. В целях большей четкости, единства требований и упрощения делопроизводства, настоящий проект, составленный применительно к управлению одним домом, в дальнейшем следует представлять в виде краткого договора по управлению конкретным домом (кустом домов, объединенных, например, одним общим двором) с приложением к нему отдельно оформленных «общих» типовых положений.
И представил написанный мною с учетом приведенных соображений альтернативный вариант проекта договора.
Найданов со всем моим, в общем виде, согласился, обещал все внимательно рассмотреть в конкретностях, в том числе, помочь в ликвидации нашей автостоянки.
27.10
«Матус! Получил твое письмо от 21.10. Мы с Галей хохотали до упаду над твоими «А и В», над тем, как высказывать замечания одному и отвечать на них другому, что и как надо повторять и разъяснять, что можно и чего нельзя нам из приведенного тобою всего остального. Я, сквозь смех, говорю ей: «Постоянно ловлю себя на всяческих старческо-маразматических заскоках. Но, кажется, и Матус от меня не отстает. Смотри, написал чуть не целый трактат о правилах и нормах ведения переписки, о том, что в ней дозволено и что нет».
Да пиши ты, Матус, что хочешь и как хочешь. Знай, что я не обижался и не обижусь никогда на любую критику, на любую твою реплику и уж, тем более, на их форму. Будь любезен, позволь и мне, после полувекового нашего знакомства и чуть не 10-летней дружеской переписки, не менять собственных привычек, своего характера. Не стоит нам тратить драгоценные силы и время на то, что не стоит выеденного яйца. А может я зря про это? Может ты просто пошутил.
За сочувствие по поводу моей газетной истории благодарю, хотя она и не стоит твоего возмущения. Разве человеческая глупость и ограниченность бывали когда-либо не известны миру? То же касается и «моего академика». В этой истории оказался на должной высоте один Глазков.
Жду ответа по поводу наших с Сомовым разговоров о твоей стране.
31.10
Редакционная свистопляска «выбила» меня из колеи, я забыл про свои болезни, и вдруг обнаружил, что полностью, насколько может быть здесь приемлемо это слово, здоров. Не беспокоят ни голова, ни руки, ни ноги, ни даже, практически, моя аденома. Что произошло? Скорее всего, полагаю, закончился период перехода из одного возрастного состояния в другое, из пожилого, по Горбачеву, возраста – в старческий. А проще – сдачи некоторых «позиций» и приведения организма в состояние более адекватного соответствия желаний его физическим возможностям. Но, думаю, и не без воздействия этой «свистопляски».
08.11
«Дорогой Матус! Получил письмо от 05.11, исключительно красиво отформатированное, так что я его перетащил в свой архив, изменив только шрифт на мой «Arial», однако никак не мог понять как, в какой системе, ты делаешь такие малые отступы в первых строках абзацев?
Началом твоего письма рад, как и ты моим, но только с замечанием не по форме переписки, которая не стоит того, а по меньшей, чем хотелось бы, ее результативности.
А теперь о главном, и опять не без опасений в кажущемся непонимании тобою моего.
Мою попытку, пусть недостаточно удачную, установить причину «явления», ты воспринял как набор одних следствий, и не просто следствий, а как оправдание якобы мною этих следствий Я хотел установлением причины исключить негатив, а ты (по профессии аналитик, а не какой-нибудь критикуемый мной гуманитарий, свершившийся негатив выдал за мною признанное явление.
И такое вот, случилось совпадение. Как раз в день получения твоего письма у меня на столе оказалась книжка «Еврейские страсти» двух уральских Рабиновичей, оставшихся здесь и никуда не уехавших (матери Славы Рабинович – известного поэта, члена Союза российских писателей, переводчика известной «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло; и ее сына Валерия – профессора филологии, автора книги «Западная литература. История духовных исканий» и др.). Не в пример тебе, эти чистые гуманитарии мой вопрос себе задали. Задали, правда, со своих групповых позиций и своего бытия, но все же попытались ответить на вопрос: «Почему?». Почему, следствием каких причин, каких национальных особенностей сложилась таковой история их народа? А сделав эту попытку, и констатировав по сути то же, что и я, отнюдь не пришли в твое ненавистническое состояние. Вполне у них получилось лояльная книжка с разбором многих за и против. (Смотри ниже в приложении).
Что касается меня, то тебе моя позиция на все подобные нас возмущающие явления (и не только в части евреев, а и всего остального аналогичного, в том числе, названного тут) – известна. Она в теории природой продиктованного «равновесного» существования, о котором я тебе не раз упоминал. Упоминал и в критикуемом тобою письме, из которого ты по своим правилам «выдрал» опять часть, и рассмотрел ее вне контекста, вне авторского понимания проблемы во всей ее совокупности, рассмотрел в рамках «интересов и забот» одной стороны (даже вне моей озабоченности), вне остального, что вытекает из разумного компромисса и многофакторного анализа.
Нет в природе ничего (в том числе, к слову, и Сомова) мазанного только одним цветом, нет интересов только одной стороны и нет следствий вне причин, их породивших.
Ты опять беспричинно на меня «наехал». Я… с идеологией расиста, антисемита, чуть не фашиста? Надо придумать!!!».
Приложение: Отдельные выдержки из книги «Еврейские страсти».
«… У нас масса грехов, если уж говорить о заповедях Господних, и немалых: мы не блюдем Субботу, мы сто раз поминаем Господа всуе, мы часто и безбожно творили и творим, хоть и вынуждено, кумиров – Троцкого и Ленина, Сталина и Ельцина, мы не славим Господа нашего ни днем, ни вечером и ни ночью потому, что мы одержимы грехом неверия, потеряли опору и ищем ее повсюду, что роднит нас с русским народом.
Наконец, наша неимоверная гордыня, наше подсознательное ощущение избранности перед другими народами – вот грех, за который нас не любят, и не будут любить – даже если мы забросаем Человечество цветами и благодеяниями. И оборотная сторона нашей гордыни – наш несусветный конформизм.
А эта еврейская идея избранности перед богом и перед другими народами! Кому это понравится! И вы хотите, чтобы вас после этого любили! И главное, кто несет эту идею? Люди без своей земли, без корней, разбросанные по всему миру, вечно бегающие, вечно трясущиеся за свою жизнь, сто раз проклятые и Богом, и людьми…
И все-таки, зададим себе еще раз глупый вопрос, – за что и почему нас так не любили и продолжают не любить? А то, дорогие соплеменники, что мы сильно перемещаемся в пространстве – то из России в Америку, то из сапожников в министры. Мы не знаем, и не можем знать, что там было изначально… Но факт остается фактом – впечатление создается такое, что все пространство буквально заполнено евреями и гудит от их голосов. Сермяжная правда заключается в том, что еврею действительно больше всех надо, что у него шило в штанах… Ну так что же тут плохого? Делая себе добро и думая, понятное дело, в основном о себе, евреи умудрились создать столько полезного и прекрасного, что можно было бы им простить некоторые их особенности… Можно было бы, кабы не существовало в природе чувство, именуемое завистью…».
Это из моего, Матус, набора «против». Есть в книге и много «за», но я привел специально только кое-что из набора «против», дабы подчеркнуть (отдельными высказываниями отнюдь не «расистов» и не «антисемитов») твою заведенность на видение только одного цвета, а потому ошибочного».
11.11
«Марк! Приветствую тебя при величайшем опять удовольствии от твоего долгожданного письма. То же самое делает и моя половина. Она твоих писем ждет с не меньшим, чем я вожделением. Пишешь, жаль, ты только редко.
И поскольку с последнего твоего письма времени действительно утекло много, то я позволю ныне ничего не придумывать и не сочинять, а набрать для ответа кое-что из моих накопившихся дневниковых записей сего года».
Далее так и сделал. А в заключение послал ему еще копии двух последних писем Цалюку.
12.11
Наконец-то, после длительного противостояния Матус, в ответ на мое письмо от 08.11, прислал умиротворенную записку. Признался в ней, что им с Беллой письмо «в целом понравилось» и что они «сразу же оценили его по достоинству: тональности и рассудительности»… Но тут же, со свойственной привычкой все усложнять и глобализировать, не преминул заметить, что оно «нуждается в ответе», для которого он должен «созреть». Ну, точно, будто ему придется заняться солидным проектом или докторской диссертацией.
Выразил признательность за оценку моего труда, и попросил не усложнять задачу и сочинить ответ, не ожидая полного «созревания».
18.11
Цалюк не оправдал надежд, не выдержал и опять выразил свое возмущение.
«Дорогой Матус! Ты необоснованно чисто экспромтные полузастольные соображения (да еще при наличии в них моей приписки насчет Бога), отнес к категории наших с тобой «разных идеологических позиций». Окончательные выводы полностью остаются тут за тобой. Каковыми бы они не были, я их принимаю безоговорочно, и лишь еще раз повторяю: «Дай Бог, чтобы мы оказались не правы». Мне кажется, что последняя фраза должна была бы исключать уже и тогда нечто сему противоположное. Короче, это как раз тот случай, когда надлежит любой совет со стороны, лояльно и без обид, проанализировать, взвесить, но решение принимать самому, и, конечно же, вне каких-либо громко звучащих «идеологических платформ», а только из прагматических соображений.
Бывай здоров, не переживай, не обижайся и не придавай непомерное значение человеческим слабостям».
20.11
Вчера получил второе, не выдерживающее критики, Определение Суда, по которому тут же накатал ответ.
«По вопросу Определения Ленинского районного суда от 07.11.06 года сообщаю следующее.
В указанном Определении правильно отмечено, что предшествующим аналогичным Определением от 29.09.06 исковое заявление было «оставлено без движения для устранения недостатков, указанных в определении, в срок до 01.11.06, а именно: уточнить исковые требования; представить в суд документы, подтверждающие обстоятельства, на которые ссылается истец, а также копии этих документов для ответчика». Также отмечено, что 18.10.06, т. е. ранее назначенного срока, были «представлены в суд письменные пояснения в дополнение к исковому заявлению».
Однако далее в Определении от 07.11.06 эти «пояснения и дополнения» не рассмотрены и по ним Судом не высказано никаких замечаний ни в части разъяснений, ни в части уточнений, ни в части отдельных вопросов по сути изложенного в ответе на Определение от 29.09.06. Оставлены без внимания даже отмеченные мною очевидно не соответствующие исковому заявлению отдельные судебные констатации.
А потому вынужден повторить:
а) мои исковые требования не противоречат ни одной из статей ГК РФ, приведенных в заявлении, и они могут быть рассмотрены в их заявительной формулировке;
б) в приложении к исковому заявления представлены все необходимые документы (включая требуемые копии для ответчика), подтверждающие обстоятельства, на которых основываются мои требования.
Последние являются копией документов (статей и писем) переданных по электронной почте, о чем мною было заявлено устно при передаче заявления в Суд. Все они имеются в Редакции газеты «Уральский рабочий» и известны не только Ответчику, но и причастным к этому делу редакционным сотрудникам, в частности, упомянутому в заявлении Глазкову.
На основании изложенного я не усматриваю, по крайней мере, до получения соответствующих разъяснений, оснований для отказа в судебном рассмотрении искового заявления и считаю преждевременным предлагаемое мне обращение в Свердловский областной суд».
Не могу понять судейской логики, ведь не от дурости они таким образом полемизируют со своей клиентурой. Неужели по тем соображениям, о которых мне кто-то из умных людей сказал, что надо нанять адвоката и заплатить ему те 100 тысяч, которые ты собираешься содрать с Кощеева? Тот половину из них отдаст судье, напишет твое исковое заявление по казенной форме (не важно, будет оно отвечать при этом сути твоего возмущения, или нет), и они тогда совместно (если не будет предпринято аналогичных мер, и в большем размере, с другой стороны) высудят дело в твою пользу. Я же решил действовать по той норме, которой в известном анекдоте руководствовался петух: «Не догоню, так хоть согреюсь» или применительно ко мне: «не добьюсь, так хоть развлекусь».
21.11
Цалюк в ответ на мое опять икнул, и признался в своей неправоте и излишней эмоциональности. Решил в «благодарность» за его объективность больше ничего ему не выговаривать и послать для развлечения кое-что выборочно из последних своих записей, датированных 08.10 и далее.
23.11
Сегодня четверг, в суде приемный день, и я поехал на встречу со своим судьей Галиной Александровной Проняевой. Минут через 10, после обращения к секретарю, слышу из полуоткрытой двери, соседней с ее кабинетом, голос: « Быков, заходите». Оказывается это, соединенный с судейским кабинетом, через внутреннюю дверь, зал судебных заседаний. Она уже за своим председательским столом. Я, от растерянности и своей извечной неспособности к быстрой реакции, настроившись до того на обычную беседу, собираюсь подойти к ее столу, хотя чувствую, что мне положено, в рамках судебной проформы, сесть в удалении. Она тоже показывает мне в сторону мест для «публики». Поворачиваюсь было, но, вспомнив о бумагах и проиграв, что в зале для сего дела нет судебного пристава, с некоторой задержкой, а потому противоестественно, бросаюсь с ними обратно к ее столу… И только после этого усаживаюсь за свой – «присутственный». Мельком взглянув, на бумаги, хорошо поставленным казенно-судейским голосом, абсолютно не соответствующим ее довольно привлекательной внешности, она начинает разговор.
– Что Вы опять со своим письмом, Вам, что непонятно, что нам нужны изменения искового заявления… Вот, Вы, кто по профессии?
– Инженер-конструктор, – говорю.
– Почему же я не лезу к Вам со своими советами, а Вы, не зная нашего дела, прочитав пару статей из ГК, вместо исполнения вам предписанного начинаете нас поучать.
– Простите (вспоминая про себя, как и с какой вежливостью в аналогичном случае я бы разговаривал с ней, будь она на моем месте), – но я действительно не понял, что и в каком направлении нужно менять в моем заявлении. И каким другим образом, кроме письма, я мог бы выразить свое несогласие с Вашим Определением? Ведь в моем ответе говорится только о том, что я не вижу необходимости в изменении исходного варианта моего заявления. Я действительно не понимаю, по каким моментам и по каким формальным обстоятельствам не могут быть приняты мои исковые притязания к Ответчику? Почему публикация под моим именем статьи, мне неугодной, со мною не согласованной и полностью искажающей смысл мною написанного, не может быть отнесена к категории действий, оговоренных статьей 152 ГК РФ? Почему эта последняя, как мне было сказано Вашей помощницей Оксаной Александровной, может быть применена только, к некоему «прямому» оскорблению человека? Мне же представляется, что, как и в любом негодном деле, часто наиболее ощутимыми для нас являются как раз не столь прямые последствия, сколь косвенные.
Далее в пылу полемического задора я начал махать руками, получил ее замечание, остепенился, но все равно не удержался, и пообещал, если будут приняты мои притязания, нечто вроде впечатляющего их судебного рассмотрения.
Мое эмоциональное выступление, а возможно кое-что ею запечатленное из моих писем в части недостойных для суда нелепых ляпсусов, о которых я дипломатично не упомянул, произвела на нее желаемое впечатление. Она задумалась, вновь обратила свой взор на бумаги и, после довольно продолжительной паузы перешла на «конструктивную» тональность, но вне ожидаемого мною ответа по сути мною написанного и только что сказанного, а совсем, видимо, не зная как возразить, совсем в другом ключе.
– Мне кажется, что в данном случае лучше бы использовать (непонятно почему) статью о компенсации морального вреда… неплохо бы приложить к иску саму газету с критикуемой Вами статьей (которой я успел перед этим потрясти перед ее глазами) и… подать (уж совсем неожиданно и вне ее предыдущих «определений») иск по месту жительства Ответчика, а еще лучше – адресовать его самой Редакции. В заключение, умиротворенно посетовала на саму себя: что она как бы действует противозаконно, позволяя фактически мне вновь заняться исковым заявлением, после его официально состоявшегося акта возврата.
Я не преминул воспользоваться мне наговоренным, поблагодарил за понимание моей позиции, за ее конструктивные предложения и советы, пообещал еще раз подумать, и попрощался.
Подумав же, решил оставить все, как есть, и написал ей «частное» письмо.
«Уважаемая Галина Александровна! Я с глубочайшей признательностью воспринял наш разговор и проявленное ко мне внимание в части представленной возможности уточнить исковое заявление.
Вместе с тем при более тщательном анализе Ваших замечаний я пришел к выводу:
во-первых, подать заявление мне все же следует персонально на Л. Кощеева, как Главного редактора и должностное лицо, ибо виновником данного инцидента является он лично, а не Редакция и, тем более, не ее сотрудники, которые придерживаются, к тому же, противоположного ему мнения;
во-вторых, предъявить Ответчику иск необходимо по статье 152 ГК РФ, как наиболее полно отвечающей сути настоящего дела и его по отношению ко мне последствиям.
В остальном, все Ваши добрые советы мною приняты и учтены в измененной редакции Заявления, как в части его большей обоснованности, так и дополнений к его приложениям».
Остается теперь обратить ее в свою «веру».
27.11
Мое письмо сработало. Иск принят и назначено его рассмотрение на 19 декабря.
28.11
Юбилейный номер «Литературной газеты», посвященный 100-летию со дня рождения Лихачева. Я никогда не поддавался влиянию моды или каким-либо авторитетам. Именно поэтому не воспринимал и культурологическую увлеченность Лихачева, его несколько назойливую пропаганду культуры, как главной, чуть не единственной характеристики, определяющей благополучие общества.
И вот сегодня, просматривая номер газеты, осознал, что и сам на протяжении многих лет являлся ничуть не меньшим пропагандистом той же культуры, признав ее одним из основных факторов, обеспечивающих оптимальное движение человека по жизни. Интересно, что моя «культура» не воспринималась многими, в том числе Нисковских, с такой же неприемлемостью, как и мною лихачевская.
Но, что меня умилило в совпадении подходов? – Фотография Лихачева на ступеньках крыльца, видимо, своей дачи… с маленькой собачкой, как две капли похожей на нашу Альку. Только с одним их отличием: наша была с большими стоящими ушами, а лихачевская – с маленькими и полувисящими. Поза же, выражение, приподнятая слегка одна передняя лапка – полная до удивления копия.
В этом же номере статья на близкую мне тему В. Полякова под звучным газетным заголовком «Тупики торгашества». Онаученная до невозможности, с использованием, для пущей монументальности, массы чисто философских терминов, «чудных (по автору) слов, вроде: «ретрологии, криптовласти, симулякровой и «мейнстримовской» социологии, репрезентированных идей и эзотерических сочинений…».
Статья о законах движения человека по жизни – настолько элементарно простых и очевидных, что все о них, у меня уместилось не более чем на двух страничках. У Полякова же эти, вытекающие из самой природы живого, желания и поступки людей выдаются, со ссылками на Т. Гоббса, А. Зиновьева, К. Шмидта, В. Зомбарта, М. Хайдегера и других известных философов, за некую недоступную для понимания обычного человека «эзотерическую» мистику. И чего только у них не нагорожено.
По Зиновьеву (мной часто критикуемому за несусветную наукообразность и тенденциозность) «Интеллектуальная среда загрязнена, отравлена, изуродована… И это (почему-то?) не вызывает никакой тревоги ни у кого… И как же так получилось (восклицает он), отчего люди допустили подобное?! Почему не нашлось благородных богатырей ума, способных противостоять дьявольской фальсификации бытия?».
По Шмидту «Основным грехом Макиавелли были не его идеи, а их публикация. Потому что публикация знания, которое не может не быть тайным, действует саморазрушительно». Хотя тут же отмечается (вне логики, и без видимого для мира «саморазрушения»), что еще в 17 веке оказывается «Гоббс решительно перестроился и перешел с (полезной по Шмидту) подачи советов властям на (по ему же, недопустимое) публичное разглашение секретов управления».
Далее по Зомбарту, и вне какой-либо связи с «интеллектуальной загрязненностью», о «Проблеме капиталистического духа, его природе, возникновении необыкновенно сложном, бесконечно сложнее, чем считали до сих пор… Английской торгашеской философии… Немецком мироощущении, единодушно отвергающем все то, что напоминает английское и даже европейское мировидение…»
И о многом другом в столь же высокопарных, полулозонговых, претендующих на открытие изречениях – алогичных, между собой не корреспондирующихся, порой наивных или вовсе неверных, пригодных разве только для услаждения слуха.
Какая-то немыслимая страсть к словоблудию у массы сегодня пишущих на разные «злободневные» темы. Поляков не исключение, и потому перефразируя его, можно точно утверждать, что «гегемонию» в мире захватили не «расчетливые бездушные дельцы», а, скорее, милые автору «светлые бескорыстные умы», отлично приспособившиеся к бессмысленно-звонкому сочинительству. А ведь, правда, какое благостно-бесполезно-звучащее сочетание у них красивых слов!
02.12
И вновь, как бы в подтверждение предыдущего моего резюме, но теперь о весьма объемной, в пятьсот страниц, книге Марка Солонина «22 июня, или когда началась Великая Отечественная война».
Начинает он с весьма импонирующего заявления о том, что автор «за мораторий» – «на сто лет запрет всякого публичного обсуждения истории». Только тогда, считает он, когда «воспоминания об этом состоявшемся Апокалипсисе перестанут быть кровоточащей раной в сердце народа, когда уйдут последние ветераны, можно будет общими усилиями создать правдивую, на документах основанную, историю Великой войны».
Почти полное повторение моей позиции, исключая неоднократно мной отмеченную повальную увлеченность «подлинными архивными документами». Будто для «правдивой истории» недостаточно наших собственных (естественно, объективных, а не предвзятых и однобоких) представлений о жизни. Я не против архивов и документов, я против их фетишизации. Солонин же оказался в их прямом плену настолько, что забыл про свое вступление и ринулся в обратное: искажение истории; авторскую предвзятость; придумывание (или заимствование у других такого же плана писателей, вроде Волкогонова или Суворова) разных убогих версий и построений, вне какой-либо связи их с причинами описываемых событий.