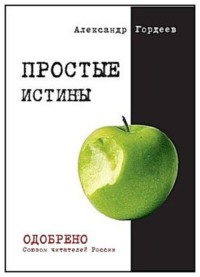полная версия
полная версияМолодой Бояркин
Кладбище располагалось за селом на пологом склоне, открытом для солнца. Уже
начинался яростный летний зной с многозвучным стрекотанием кузнечиков. У самых ворот
Николай оглянулся, потом присел на корточки и, сузив глаза от солнца, окинул взглядом все
сияющее чашеобразное пространство села. В первую очередь в глаза бросался опять же
новый мост. Когда-то, прикидывая по опорам, Бояркин считал местность не подходящей для
моста. Как невозможно было, например, в узкий оконный проем вставить широкую раму, так
и воображаемый мост не вмещался между ломами, стоящими у самой воды, с одной стороны
и слиянием широкой протоки с рекой, поросшей в этом месте тальником, – с другой.
И вот мост стоял господином. Он был мощнее всего вокруг. Он не втискивался и не
приспосабливался, а развернулся, как хотел. Дома с берега исчезли, а голубая жилка протоки,
раньше вырезающая из поля большой остров, была передавлена одной из его ног. Без
протоки знакомой картине не хватало какой-то завершенности, как инвалиду не хватает руки,
отсохшей у плеча. Николай вспомнил рассказы о том, что раньше ребятишек пугали
батхулами – беженцами, которые якобы скрывались в темном лесу около озер на той стороне
Шунды. Но это рассказывала бабушка. Во время ее молодости лес поднимался там сразу от
речки и тянулся вдоль всего берега. Бабушка любила о нем вспоминать вслух, и Николай,
слушая ее, будто своими глазами видел тот лес, подступающий к воде вислыми ветками
ильмов, под которыми дышали прохладой темные омуты. Воображались ему полноводные,
глубокие озера с высокой, сочной травой по берегам и с желтыми карасями в глубине, мягкая
земля с шелестящими листьями, с запахом хвои, доносимым ветром даже до села. Эту
картину Николай всегда видел только в воображении, но ее потерю переживал как нечто
реальное. Отец, чье детство пришлось в основном на послевоенные годы, помнил на той
стороне Шунды только кустарник, Они еще пацанами собирали там какую-то ягоду под
названием «кузьмич». «Что за ягода, не знаю, – говорил он, – больше нигде не видел. Она
почему-то только там и росла. Может быть, ее надо было в «Красную книгу» записать».
Николай же застал за речкой плоский остров, на большой площади которого стояло
поодиночке в разных местах четыре куста боярышника. Летом на выгоревшем от солнца поле
было невозможно даже сена накосить. И под пашню оно не годилось, потому что Шунда хоть
и редко, но затопляла его. Но все же и тогда интересно было в протоке, на теплых перекатах,
брызгаясь ногами, гонять мелких серебристых гольянов. Тогда еще на поле оставалось три
озерца, усыхающих в жару до грязных горячих луж. В них были пиявки, лягушки и крупные
коричневые жуки. Сверху бегали водомеры, за которыми Николай долго наблюдал и видел
даже маленькие ямки в водяной пленке от их длинных ног. Тогда было любопытно –
намокают ли у этих «таракашек» ноги. А сосед – дряхлый старик Петруня, передвигающийся
только с батожком и запутавшийся в собственной памяти, сказал как-то, что в них водятся
караси, но, сколько ни закидывал потом Николай в те озера удочку, ничего, кроме тины, да
старой травы, нанесенной туда ветром, не поймал, А Петруню в то же лето ударил родимец,
он упал лицом в ручей, протекающий через огород и захлебнулся. Возможно, он был
последним, кто помнил желтоватых озерных карасей. Теперь же на той стороне были лишь
темные пятна – потрескавшийся кубиками ил, который еще не освоила ослабленная зноем
трава. Остров, оставшийся без зелени и поившей его протоки, медленно умирал. Так было
уже не первый год, и, казалось, никому не было до этого дела. Что ж поделаешь – такие
странные мы, люди: боимся терять сразу, но спокойно теряем постепенно, хотя постепенно-
то мы теряем или утрачиваем иной раз куда больше…
Да и голубой Шунда казалась только издали, на самом деле, сколько помнил себя
Николай, вода в реке была мутной, потому что в ее верховьях драгами мыли золото. Никому
эта муть не нравилась, но все молчали: слишком уж уверенно и трудолюбиво (чего чего, а
этого не отнимешь) пережевывали берега эти плавучие громадные и дорогостоящие
чудовища.
Николай поднялся и открыл скрипнувшие ворота. И хорошее это было место для
кладбища и плохое, потому что фотографии на памятниках могли видеть с его высоты не
только Шунду и новый мост, но и серые пятна бывших озер, и сухую протоку и все
остальное. Сколько людей смотрело отсюда с фотографий на незамысловатых памятниках,
сваренных в МТС! Но больше всего было здесь задернившихся, безымянных бугорков – те,
кто лежал под ними, ушли уже из человеческой памяти и находились теперь заодно с
дождями и снегами, с ветрами, с почвой, с березами, рябинами, боярышником, с птицами,
которым по осени доставались щедрые кладбищенские ягоды.
Могила Генки Сомова, к которой Николай подошел в первую очередь, была уже самой
обыкновенной могилой – обдутой ветрами, затянутой полевой травой. Да и в памяти
стирались яркие подробности его гибели. И фотография на памятнике заменена. Сначала
была любительская – Генка стоял на берегу в светлой рубашке, с волосами, взъерошенными
приречным ветерком. Смотрел он куда-то в сторону и улыбался. На той фотографии ему
было наплевать, станут его помнить или нет. На новой фотографии Генка уже не обладал этой
независимостью, он, как и положено, сидел строгий, в галстуке, и смотрел прямо, будто
требуя памяти. Теперь слово "покойник" к нему подходило. Николай долго смотрел на Генку
и вдруг обнаружил, что его школьный кумир – всего лишь мальчишка, чем-то похожий на
матроса Манина.
На могилах Бояркиных лежали только стандартные, отлитые на каком-то заводе плиты
с фамилией и инициалами. Фотографий не было. Не осталось их и в альбомах – лица родных,
не так уж давно и умерших, были навеки потеряны. Не зная, как принято посещать могилы
предков, особенно если ты ничего о них не знаешь, Николай опустился на теплый ржавый
камень и с минуту сидел, потупив голову и наполняясь тишиной. "Вот передо мной
многочисленные решетчатые оградки, – подумал он, – вот на одном железном пруте потек
голубой краски. Вот в шершавом пырее скатившаяся с какой-то могилы эмалированная
кружка с пробитым дном. Мою спину греет солнце, и на траве от меня короткая тень. Я сижу
почти в центре кладбища и вижу мое село, в котором родился и вырос. Оно как на ладони:
каждая крыша – маленький квадратик. Это большое село, но с самолета оно выглядит
мизерным. Оно находится среди других сел, среди городов, среди гор, степей, огромных
лесов. В разные стороны от него – моря, океаны, материки. В это мгновение жизнь бурлит
повсюду: люди на земле смеются, плачут, рождаются и умирают, воюют, убивают, празднуют
победы; в море идет косяк рыбы, качаются плавбазы, несутся пограничные корабли, а на
одном из них мои товарищи, которыми командует Батя, Командир – капитан третьего ранга
Осинин. В эту минуту не живет уже Генка Сомов, не живут миллиарды таких же людей, как
мы (но миллиарды пока еще не родились)".
Глядя на многочисленные могилы прародителей, Николай попытался разобраться, кто
тут кем кому приходится. Быстрее всего он определил могилу бабушки Катерины – отцовой
матери, удивившись, однако, тем, что, оказывается, ничего не знает ни о ней, ни о деде
Иване, погибшем в войну. Отец никогда не вспоминал о них, но Николай, пристыженный
теперь этими немыми для него плитами, понял, что память должна быть самостоятельной,
без оглядки на кого бы то ни было, хоть бы и на отца, и что, пожалуй, многое может
рассказать дядя Миша.
Николай решил поискать своих предков и со стороны Колесовых. Их могилы
отыскивались во всех частях кладбища, но это были разные корни, и Бояркин не мог
определить свой.
Бродя по кладбищу, Бояркин обнаружил много знакомых односельчан, о смерти
которых он даже не слышал. Странно было встречать их не на улице, а здесь. Долго простоял
он перед могилой Пимы Танина, оказавшимся на самом деле Болдыревым Пименом
Ивановичем. Это был тот самый старик, который на сенокосе рассказывал смешные истории
без конца. Даже теперь, увидев его лицо, Николай чуть было не улыбнулся – это было почти
рефлексом. Ясно еще помнились короткие, легкие жесты Пимы, интонации его хрипловатого,
какого-то горьковатого голоска. И вот Пима окончился этим молчанием и слепой глиной,
вывороченной из глубины. Навалившись на оградку, Николай прижался глазами к руке.
Слышалось лишь сухое стрекотание кузнечиков – любимый шум детства. В этом искрящемся
море звуков можно было услышать и неясные человеческие голоса, и песни, и даже музыку.
Вспоминая этот стрекот на службе, Николай сразу представлял жаркое лето и стебли
разнообразной забайкальской травы, прокаленной солнцем до ломкой жесткости. Но теперь
он захотел услышать это звуковое море, как гомон людской толпы, как голоса тех людей, что
здесь похоронены.
Но кругом был тот же яркий свет солнца и молчаливые бугры. "Действительность
никогда не подчинится человеческой фантазии полностью, – подумал Бояркин. – Она всегда
будет такой же жесткой, необратимой". Он глубоко, до боли вздохнул и оттолкнулся от
ограды.
С краю у штакетника кладбища оказались два совсем свежих земляных холма.
Николай вспомнил, что вчера вечером, убирая посуду, тетя Таня рассказывала о вдовом
трактористе Миронове, который недавно привез из Глинки женщину с уже взрослой
дочерью, и вот неделю назад, когда они ехали на мотоцикле, их сбила машина. Сам Миронов
отделался переломами, а женщина и ее дочка погибли. Фотография девушки была, видимо,
вырезана из большого портрета, потому что весь квадратик занимало одно лицо.
Выразительность этого лица удивила Бояркина. При фотографировании девушку кто-то,
кажется, пытался рассмешить из-за спины фотографа, и, рассматривая снимок внимательней,
Бояркин вдруг по одному этому живому ее движению понял не только весь ее характер, но и
каким-то образом ясно представил фигуру, жесты. Он подумал, что, увидев эту девушку где-
нибудь на улице, он мог бы сказать о ней очень многое, что она вообще была бы для него
понимаемой полностью. Не задержись Бояркин на службе, они бы встретились. И кто знает,
не сдвинулись бы тогда все события хоть на одну секунду, достаточную для того, чтобы
смерть пронеслась скользом… Сделав уже достаточно нерадостных открытий, Бояркин устал
от кладбища, и это его последнее предположение переполнило чашу. Он опустился в траву
около оградки и заплакал. В этот момент Бояркин хорошо помнил о закончившейся
серьезной службе, о своем повзрослении, но, не сдерживаясь наедине с собой, он плакал и
сразу обо всех потерях, и о себе самом и о своей потерянной, как ему казалось, родине, и об
этом несчастном мире.
* * *
В Ковыльное поехали после обеда. Пока Николай ходил на кладбище, Анютка
поссорилась с отцом, который собрался было и на обратную дорогу купить бутылку.
Прощаясь с селом, которое он теперь неизвестно когда увидит, Николай все смотрел в заднее
стекло. Вместе с грустью на душе было ощущение выполненного долга. Много думая о
родине на службе, Николай стал невольно считать, что и родина не может быть равнодушной
к нему, даже если кроме бабушки Степаниды никто его больше там не ждет. К родине
Бояркина влекла не только душевная, тяга, но и какая-то необходимость показать ей себя.
"Вот я и отметился", – думал он теперь.
От самого Елкино Бояркин молчал, и, лишь когда проезжали кукурузное поле, он
спросил у отца, как называется это место.
– Табданиха, – все еще обиженно буркнул Алексей.
– Да, да, Табданиха, – вспомнил Николай. – Интересные у нас названия. Взять хотя бы
Шуругун, или Маяшна или вот еще Еганза. Что они означают?
– А черт их знает! Навыдумывали тоже…
– А все-таки Елкино есть Елкино. Не Ковыльное…
– А-а, да одно и то же. Там и там ловить нечего…
– Но Елкино наше село… Там бабушка Катерина – твоя мать похоронена. Дом
дедовский. Надо помнить это…
– Помнить, помнить, – зло передразнил Алексей. – Хочешь помнить, так везде будешь
помнить!
Сам Алексей умел помнить без душевной привязанности и всякая "чувствительность"
памяти раздражала его. Про кладбище он подсказал сыну лишь потому, что брат Михаил, с
которым они трижды приезжали из Ковыльного, ходил туда каждый раз. Впрочем, в первый
свой приезд они отправились на кладбище вместе. Михаил остановился тогда у могилы
матери и молча потупился. Подошел Алексей.
– Ну что, спишь, мамка? – без оттенка скорби, как к живой обратился он.
– Замолчи! – резко оборвал его брат.
Михаила – фронтовика-пехотинца, навидавшегося смертей, покоробило именно от
того, что младший брат обратился к матери, как к живой. И после он ходил на кладбище
один.
– Знаешь, батя, что я скажу, – с расстановкой проговорил Николай в бешено мчащейся
машине. – Сейчас я собрался в институт, но если бы вы жили в Елкино, то я бы к вам все
равно когда-нибудь вернулся, а в случае неудачи с поступлением, уже этой осенью. А так…
Мне там делать нечего. Мне там все чужое.
Отец вздохнул и сбросил газ.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Осенью Бояркин уехал в уже знакомый ему до службы город и поступил на
исторический факультет педагогического института.
За учебу он принялся с жаром. Армейская "центрифуга" учебки без промежутков
между событиями научила пользоваться временем очень экономно. Да и убеждение, что
жизнь – это, прежде всего заполненное время, уже настолько вошло в саму кровь, что
бездельничать без угрызений совести стало невозможно.
Жил он в общежитии. В одной комнате было шестеро ребят, все после армии.
Однажды кто-то даже предложил поставить кровати по-казарменному, в два яруса, чтобы
было просторнее. Переоборудование легко удалось, но через неделю к ним, звеня ключами,
зашла комендантша – грузная, краснощекая женщина и посчитала это нововведение
опасным. Пришлось прямо на ее глазах наводить "порядок".
Из сокурсников в комнате жил только Мучагин – студент с белым, холодным лицом,
стройный, как стрелка. Мучагин любил споры и обычно, чем сильнее зажигался, тем
стремительней ходил между кроватями, тем торопливее говорил, тем резче жестикулировал,
как бы вырубая из пространства острые углы. Николаю он понравился умением организовать
свое время. Все бытовые заботы Мучагин заменил выработанными привычками. Никогда не
собираясь, например, погладить брюки или почистить туфли, он при необходимости делал
это автоматически, не задумываясь. Просто любое отступление от нормы сразу по
определенной программе включало ему руки и ноги, минуя голову. Мучагин обычно не
выходил из комнаты, не унеся чего-нибудь, и не возвращался, не принеся, да умудрялся
сделать еще что-нибудь попутно. Если же случалось, что он забывал куда-то зайти, то,
сознательно наказывая себя, мог вернуться туда хоть от порога комнаты. Мучагин любил
слово "принцип", но, главное, он мог свои принципы выдерживать. Дав, к примеру, зарок не
ходить по газонам, какая бы тропинка ни была там уже протоптана, он действительно не
ходил, повлияв этим на некоторых сокурсников, и в том числе на Бояркина.
Настоящие разногласия между ними начались со споров о личности. Становлением
личности Мучагин считал отбор и усиление в себе отдельных качеств – это как раз была еще
доармейская позиция Бояркина. Мучагин держался ее тоже очень принципиально, а
теперешние взгляды Бояркина о всевозможном расширении личности считал "размытостью".
– Да не размытые, а более широкие, – уверял его Николай. – Когда-нибудь тебе тоже
придется свои взгляды "подразмыть".
– Никогда! – кричал Мучагин. – От намеченного я не отступаю. Армия и меня научила
кое-чему.
Во время споров Бояркин сидел в углу на своей кровати, провалившись в вытянутую
сетку. Мучагин – в соседнем углу напротив, но его сетка не провисала, потому что он
подложил снизу доски. Он сидел прямой, всегда готовый вскочить и начать бегать. Очень
редко Бояркин тоже распалялся до того, что выбирался со своей сетки и начинал говорить
стоя. При этом он сразу отбрасывал дипломатические ходы, которых у него и так было
немного, отбрасывал намеки и резал все напрямик. В такие моменты со стороны могло
показаться, что они вот-вот раздерутся.
Позже в их спорах стал принимать участие другой сокурсник – Миша Тюлин, который
жил вместе с родителями совсем рядом и заходил в общежитие поболтать. Учиться Миша
поступил через год после армии и успел отрастить длинные волосы, лежащие на воротнике и
еще более усиливающие его сутулость. Он походил на какого-то матерого мыслителя, любил
поговорить о Гоголе, о Чехове, о Бунине и, смакуя, зачитать отрывок вслух. Весь
преобразившись, он читал с завыванием, с нажимом, словно в книге были написаны совсем
не те слова, которыми люди пользуются каждый день. Обоим его товарищам было стыдно
при такой читке смотреть друг на друга, а тем более на Мишу, который попросту упивался
собой. Во время споров рассудительный Миша Тюлин по-председательски устраивался в
центре комнаты за столом с алюминиевым чайником. Сидел он на самом краешке стула,
раздвинув массивные колени, и от падения его удерживал стол, на котором он лежал грудью.
Больше спорили его товарищи, а Тюлин лишь поворачивал лохматую голову с круглыми,
блестящими стеклами очков то в один, то в другой угол.
Часто, обсуждая дела в институте, преподавателей, материал, который изучался, они
были многим недовольны и возмущались. Отвозмущавшись, Тюлин и Мучагин с
облегчением успокаивались, Бояркин же успокоиться не мог, и все пытался вернуться к
больному вопросу. Он еще на службе интересовался педагогикой, почитывал, что удавалось,
и имел об учебе свое представление, которое теперь вдруг очень резко разошлось с тем, что
было на самом деле. Больше всего ему не нравилась сама программа, в соответствии с
которой, по его мнению, изучалось много ненужного, а нужное пропускалось. Недовольство
учебой в институте становилось у него все острее.
* * *
В начале весны Мучагин вдруг женился и ушел из общежития, оставив кровать с
матрасом, скрученным рулоном, и с досками, торчащими из-под сетки. Его свадьба
состоялась после двух или трех свиданий, но была грандиозной. Мучагин называл ее
комсомольской. Со стороны жениха присутствовала группа первого курса, со стороны
невесты – группа четвертого.
За неделю знакомства молодые успели не только узнать друг друга, но и купить на
деньги сельских родителей домик в городе. Свадьба, отмечаемая уже в этом домике, едва
вмещалась в его малую площадь. Даже современные танцы, для которых было достаточно
лишь стоять на полу, не получались. Пара была признана идеальной. Они были ровесниками.
Оба тонкие и высокие. Но если Мучагин и по внешности, и по темпераменту был похож на
минутную стрелку, то невеста – на часовую. Конечно, она должна была следовать за
минутной, но уже зато показывать основное время. Мучагин был весел, как герой.
– Ну-ка, признайся, удивил я вас? – спросил он Бояркина, который сидел в углу и
думал о своем.
– Удивил, – сознался Николай. – Но я тоже скоро вас удивлю.
– Тоже женишься?! – одобрительно воскликнул Мучагин.
– Развожусь, – усмехнулся Бояркин, – с институтом.
– Да ты что!? Почему?
– Надоело все…
– Как это надоело? Ну и ну. Сейчас мы с тобой разберемся. Миша! – крикнул он,
отыскивая Тюлина. – Продирайся сюда!
Миша с трудом продрался, но поговорить в суматохе не удалось. Николай догадался,
что своим тусклым видом он просто портит людям праздник и, выбрав момент, выскользнул
за дверь.
Через неделю товарищи пришли к нему в общежитие. Бояркин лежал на кровати с
книгой.
– Что читаем? – поинтересовался Тюлин.
Николай на мгновенье с силой зажмурил уставшие глаза и вместо ответа протянул
книгу.
– Кажется, не по программе, – проговорил Мучагин и начал листать страницы.
– По программе четвертого курса, – уточнил Бояркин, опуская ноги на пол, – хочется
знать, что именно я теряю.
– Так ты серьезно? – спросил Тюлин, приспосабливаясь на своем месте за столом и
радуясь возможности поговорить. – Ну и как книга?
– Я просмотрел не только эту. Ну, в общем, некоторая потеря есть.
– Так в чем же дело?! – воскликнул Мучагин. – Ты что же решил, что не годишься в
учителя?
– Потенциально гожусь. Но если я и дальше буду, как проклятый вбивать в голову эти
учебники, то из меня получится мешок информации и не больше. А ведь нам надо расти –
расти как личностям…
– Далась тебе эта личность…
– Ну, а как же иначе-то, Миша! У нас на службе для работы на серьезной аппаратуре
требовался определенный допуск – некая гарантия твоей надежности. А что должно быть
допуском учителя, когда он идет в класс? Сумма знаний? Черта с два! Допуск учителя – быть
личностью. А личность – это человек с духовным оттоком, потому что центр личности
состоит из какого-то неугомонного моторчика с пропеллером. А сейчас из института
вылетают с пропеллером, с дипломом, то есть, но без моторчика. За выпускником остается
жизнь из лекций и корпения над книгами, из зачетов, из праздничных вечеров с танцами, из
полутайных выпивок, из временных знакомств с женщинами, когда самое страшное –
завязнуть в какой-нибудь связи. Все это романтика студенческих будней. Остается, правда, и
гражданская романтика – работа проводниками в поездах, в строительных отрядах – ура, ура,
какие мы молодцы, что работаем раз в год, что созидаем, калымим, приучаемся, постигаем на
практике! Да разве это серьезно? Студента, этого молодого, здорового человека, в течение
нескольких лет, как желторотика подкармливают стипендиями, родительскими переводами,
льготами на дешевый проезд. Так откуда же взяться в нем этому моторчику – личности?
– Ерунда, – перебил Тюлин, – каждый творит себя сам.
– Но важно – из чего творит. И как скоро… А ведь студенту-то уже через пять лет
предстоит воспитывать, учить – и учить ни много ни мало, а жизни! Да ведь это же авантюра!
Авантюра… Так вот, участвовать в ней не хочу, потому что я и сам жертва такого авантюрного
образования. Не знаю, может быть, вы как-то и творите здесь себя, но я уж даже перед самим
собой устал притворяться…
Мучагин уже вовсю ходил между кроватями. Пока говорил Бояркин, он на какое-то
мгновение присел на голую панцирную сетку и тут же снова вскочил.
– Ты что же, не согласен с системой нашего образования? – спросил он.
– Я не согласен с ее несовершенством, – ответил Бояркин. – Я не знаю, как надо
готовить других специалистов, медиков, например, но уверен, что педагогов так штамповать
нельзя. У каждого учителя должен быть свой, хорошо осмысленный жизненный опыт, ведь
учитель должен представлять собой рабочий инструмент, который называется – личность. И
напрасно вы смеетесь, Ой, ну как вы не поймете, что если я своими руками построю,
например, дом, то мне это, как человеку, как учителю, даст куда больше, чем вся
студенческая жизнь.
Тюлин засмеялся.
– Я вот вообразил, – сказал он, – хороша методика подготовки. Вывалили, значит,
студенты в чисто поле и да-авай строить себе по хижине. Прелесть! Только что же они потом
будут преподавать? Устройство колуна? Как, по вашей теории, профессор, современная
система хороша хотя бы тем, что дает знания бедному студенту?
– И тут дыра. Например, четверокурсники, у которых я взял учебники, уже не помнят
того, что изучаем мы. В их опыт это не перешло. С хижинами, ты, конечно, посмешил, но
ведь я хотел сказать, что для делания педагогов необходим особый образ жизни,
наполненный не только активным познанием, но и активным личностным накоплением;
видимо, для полноценного образования нужно не только сразу же задействовать новые
знания в мыслительный процесс, как я думал раньше, но и тут же обращать в дело… Короче
говоря, истина где-то здесь… в труде… В какой-то новой системе, еще не существующей