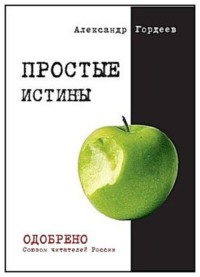полная версия
полная версияМолодой Бояркин
невероятным – просто так взять и уйти из их такой размеренной, основательной жизни.
Бояркин оглянулся, и со своего корабля ему замахали бескозырками. Правильно ли все
это происходит? Николай даже засомневался во всем. Чемодан нес матрос Манин. Бояркину
хотелось пройтись одному, но Манин, ошарашенный уходом своего шефа, стал вдруг
непослушным и капризным, как ребенок.
В конце пирса, у поворота, за которым море должно было скрыться, Николай сел на
теплую железобетонную плиту. По бортовому номеру отыскал свой корабль. Хотелось
запомнить его весь: антенны, надстройку, пушки и торпедные аппараты. Несмотря на
присевшего рядом Манина, Бояркин словно вышел из зоны провожания, которая кончилась
там, где смолкла музыка, и чувствовал себя уже освобожденным от всего. Сейчас на корабле
так же, как после ухода других, понемногу успокоятся и, уткнувшись в телевизор, обо всем
забудут. Да и как иначе? Так и должно быть. Сегодня у них отдых, а завтра – ремонты,
политзанятия и все, что положено.
Манин вдруг тяжело задышал и захлюпал носом.
– Как же я-то, – пробормотал он, – я же не смогу работать.
– Ну, хватит! Иди к черту! – оборвал его Николай, вставая. – Еще мне же и жалуешься.
Многие советовали морду тебе начистить. Твое счастье, что я слишком добрый. Но хоть
теперь-то ты будь мужиком! Пойми ты, в конце концов, хоть что-нибудь на этом свете. Тебе
сколько? Тебе ведь уже девятнадцать лет!
Бояркин миновал продовольственные склады, миновал волейбольные площадки,
окруженные тополями, где иногда играли с ротой обслуживания, но выиграли всего однажды,
потому что тренироваться было некогда. Миновал крупнопанельное здание штаба, по
привычке опасаясь встречи со строгим комбригом и, с улыбкой козырнув караульному, вышел
за ворота части. Прошел немного и оглянулся. Хотелось запомнить и ворота. Они были
жестяные, с намалеванными черными якорями, но за ними все было настоящим – теперь уж
он знал. Знал и то, что пройдут потом годы, но память всегда будет вызывать из той жизни
какой-нибудь случай, мысль, ощущение. А ночами совсем беспричинно будут приходить
корабли, товарищи, бегущие волны…
Улица прибалтийского города показалась в этот раз особенно тесной. Должно быть, в
человеке существуют семена тысячи ощущений, и в том числе ощущение простора,
возникающее в том случае, если человек живет в условиях, где его взгляд ничем не
ограничен. Но если он живет в этих условиях долго, то ощущение может перерасти в
потребность личности. Взгляд Бояркина, привыкший к шири моря, упирался в дома, в
башни, в деревья. "Наверное, я подрос", – подумал Николай. Слово "рост" было для него
словом-символом.
У отца был брат Михаил, который жил на окраине Елкино. Дядя Миша был хмурым и
немного желчным человеком. В восемнадцать лет он пошел на войну и вернулся с четырьмя
орденами и тремя ранениями. Однажды, еще учась в школе, Николай рассматривал его
награды, документы и заинтересовался медицинской карточкой, заполненной в сорок первом
году, после первого ранения. В графе "рост" стояло "170 сантиметров", но дядя Миша был
одного роста с племянником, а значит, на пять сантиметров выше.
– Нет, тут все правильно – он, – таким я и был, а уж потом, на войне, вытянулся,
подрос. Но это пустяки в сравнении с тем, насколько тогда я, сопливый пацан, подрос в душе.
Тут сантиметрами не измеришь.
Этот разговор Николай вспомнил и переосмыслил лишь на службе в письмах к
Игорьку Крышину. "Человек подрастает на события, – написал он, – на дождь, на любовь, на
смерть товарища, на ненависть. Все это и есть истинный человеческий рост".
"Кажется, я подрос, – подумал Николай, шагая с чемоданом в руке, глядя на небо в
узкой улочке и глубоко дыша, – как я ощущаю свою жизнь! Я буду жить, какие бы
препятствия ни поднимались передо мной! Двигаться, действовать. Жить! Жит! Жить…"
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
…И вот он, поезд, и дальняя дорога. Позади осталось серьезное дело, которым можно
было гордиться. Николай чувствовал себя своим в этой жизни, потому что повидал штормы,
ставящие лежащего то на ноги, то на голову, он провел в кубышке радиорубки столько
времени, что если сложить все часы, то получится около полугода непрерывной радиовахты.
Вечером, поглядывая из окна вагона, Николай не мог поверить, что еще сегодня утром
он пришел с моря и закрыл свою последнюю радиовахту. За службу он привык к
однообразной одежде, к тому, что все люди вокруг него были примерно одного возраста и что
все они были мужчинами. Гражданские люди в вагоне с новой силой поразили его своим
разнообразием. Все женщины казались красивыми уже только потому, что были женщинами.
Они излучали какую-то непонятную, подавляющую власть, которая содержалась даже в
самом слове "женщина". Это их излучение туманило голову.
Проводницей в вагоне была крупная, ласковая женщина. Когда она проходила мимо,
шею Бояркина само собой выкручивало оглянуться.
Этот поезд шел до Москвы, где Николаю нужно было сделать пересадку. Поздно
вечером Бояркин, сам не соображая, что с ним происходит, чувствуя лишь, как падает его
сердце, пошел в купе проводницы и, остановившись в дверях, так долго нес всякую ерунду,
что она его поняла.
– Что же, все пассажиры в Москве выйдут? – спросил ее Николай каким-то
неузнаваемым голосом.
– Все, – ответила она.
– И вагон будет пустой?
– Пустой.
– А что будете делать вы?
– Сначала отосплюсь. Я ведь в рейсе одна. А потом буду прибирать в вагоне. А
вечером уж обратно.
– Значит, все пассажиры уйдут, – сказал Бояркин. – А можно я останусь?
Она потупилась и отрицательно покачала головой.
– Ага, извините, – прошептал Николай и, сгорая от стыда, пошел на место.
Но утром в Москве он не вышел из вагона. Проводница, провожая пассажиров,
заметила это и, защелкнув дверь, пошла проверить. Бояркин сидел без ботинок, навалившись
спиной на стенку. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу. Бояркина уже и без
того трясло от волнения. Он видел ее полные, неяркие губы, мягкий подбородок, мелкие
морщинки у глаз. Ей было около тридцати или чуть больше. В эту минуту Николай забыл
себя. Не было у него никакого возвышенного предназначения, ни страшной тоски по дому…
– Ну, так что, морячок? – спросила проводница, присаживаясь напротив.
– Так ведь все понятно, – с неожиданной хрипотцой сказал Бояркин – голос прикипел
в горячем горле. На всякий случай он пытался казаться бывалым.
Она с еле заметной усмешкой взглянула на него, вздохнула, хотела встать, но Николай,
не давая отчета своим действиям, притянул ее за руку и вдруг как попало прижал всю, дурея
от незнакомой, но сразу понятной близости. Она стала вырываться с таким остервенением,
что Бояркин испугался и разжал руки. Проводница не убежала, как он ожидал, не подняла
тревогу, а стояла тут же, переводя дыхание. Она почувствовала силу его рук, почувствовала,
что он, все-таки подчинившись, отпустил сам, и в ней что-то переломилось.
– Ты смотри-ка какой! – не то с осуждением, не то с удивлением произнесла она. –
Жарко сегодня. Попить бы чего. Сходи-ка, купи банку какого-нибудь сока.
– Может быть, вина?
Она невольно улыбнулась.
– Нет, лучше сока. Только хорошего.
– А ты не обманешь?
– О, господи, ну ты уж какой-то даже слишком прямой. Иди, говорю.
Николай пошел и вернулся с банкой светлого яблочного сока.
Потом под вечер, когда он уходил уже с чемоданом, проводница, которую звали Нина,
вышла за ним в тамбур.
– Я рада, что была у тебя первой, – сказала Нина, глядя теплыми глазами. – Оставайся
таким же внимательным и добрым. Не знаю, как насчет прямоты, но доброту свою береги.
Она обняла его, но Николая уже не удивило, что его обнимает женщина, – теперь он
был самостоятельным взрослым мужчиной. Оказывается, все было не таким, как
представлялось после разговоров на корабле или как при разглядывании открыток на
квартире самодеятельного актера Косицына. Здесь не было ни грязи, ни лжи, ни унижения.
– Спасибо тебе, – сказал он.
– Ух, какой ты вежливый, – ответила Нина, засмеявшись и шутливо потрепав его по
голове, – как ты вчера сказал "ага, извините". Ну, иди… Счастливо тебе доехать. Пусть в
твоей жизни все сбывается, хоть не сразу, но сбывается. Я почему-то отношусь сейчас к тебе,
как к взрослому сыну. Нет, дело тут не в возрасте. Просто возникает хорошее чувство.
Наверное, тебе это не очень понятно?
– Непонятно, – сознался Николай. – Может быть, потом когда-нибудь пойму.
Уходя, Николай чувствовал, что все тело его звенело струной, и в нем ощущалась
такая радостная опустошенность, словно сами кости превратились в тонкостенные стальные
трубки. Даже чемодан теперь не тянул, а просто как бы испытывал на прочность его руку и
плечи. Эта его полыхнувшая, примитивная, еще не украшенная чувствами страсть была
настолько естественной и здоровой, что юношеское строгое целомудрие не нашлось, как
среагировать, – Николай был счастлив, и все! Пожалуй, впервые за четыре года Бояркин
почувствовал, что в душе лопнула какая-то плотина, и он наконец-то смог быть откровенным
полностью, хотя не знал, насколько был понимаем. Вначале он не был ни внимательным, ни
добрым, за что сейчас в тамбуре получил похвалу. Это сама Нина заставила стать таким. И
быть таким оказалось так прекрасно. От своей первой женщины Бояркин уходил с глубоким
убеждением, что самым настоящим, полным другом может быть только женщина.
* * *
Все три года дорога домой представлялась коридором из незнакомых станций,
поселков, городов, речек, полей. Коридор будет тянуться в полстраны, а день и ночь за это
время сменятся несколько раз. Потом будет маленькая, обыкновенная станция. Потом на
остановке со скамейкой, изрезанной перочинными ножами, нужно будет сесть на автобус, и
дальше пойдут знакомые холмы, пригорки, березняки, овраги. Потом вынырнет из тальника
Шунда и потянется с левой стороны, провожая через села, названия которых всплывут в
памяти как бы сами собой. Наконец, Шунда незаметно отойдет на другой край долины, но
это уже будет Шуругун – елкинское место, куда обычно ездят по грибы. Последний поворот –
и весь длинный путь, начавшийся с Балтики, окончится пространством, занятым селом в
несколько улиц в окружении лысых гор. Но уже за первой цепочкой гор, имеющих имена,
будут другие, уже синие горы, знакомые просто "в лицо" и всегда виденные только издали.
Невелико то, до боли знакомое пространство, но именно там все пропитано особым смыслом,
именно туда просится сама душа.
Все так потом и было, но только с поезда Бояркин сошел на другой маленькой станции
и поехал совсем к другому селу. За окном простирались гладко вздымающиеся желтовато-
зеленые степи, и гигантские ковры ярко-зеленых полей, словно бы расчесанных большой
гребенкой, оттого, что всходы прорастали волнистыми рядами. Елкинские места были
другими, и Бояркин удивлялся тому Забайкалью, которого, оказывается, не знал.
Бояркин возвращался из такой дали, в которой он за все время службы даже название
своего областного центра слышал по всесоюзному радио лишь несколько раз. Экипаж
небольшого корабля, на котором он служил, был составлен в основном из ребят, призванных
из европейской части, а родина сибиряка Петьки Тарасова, считавшегося земляком, отстояла
от его Елкино чуть ли не на две тысячи километров. И вот теперь после длительной жизни в
кругу людей, для которых даже само слово "Забайкалье" звучало чуть ли не новостью,
Николай должен был встретиться с самыми близкими, родными по крови людьми, которых в
общей сложности он не видел уже четыре года.
В автобус набивалась пыль, а за автобусом она поднималась клубами и ручейками
сыпалась по заднему, чуть выпуклому стеклу. До Ковыльного было далеко. По дороге
встретилось несколько маленьких сел. Они показались неуютными, потому что стояли на
плоском месте, без речек и без деревьев. Должно быть эти "голые" открытые, как на
сковородке, села летом безжалостно прожаривает зноем, а зимой морозом. Через несколько
часов пути впереди открылась заросшая кустами долина реки – это был Онон – тот самый
Онон, который в детстве считался недосягаемым и почти сказочным, потому что, по слухам,
там водились большие рыбины – осетры. Николай знал, что в Онон впадает его Шунда и, тут
же сориентировавшись, определил, в какой примерно стороне находится Елкино.
Ковыльное, открывшееся за поворотом, вначале даже радостно удивило – белели дома
из белого кирпича, улицы были широкие, зеленые, но когда поехали по селу, Бояркин, снова
невольно вспомнив Елкино, нашел в Ковыльном все слишком упрощенным – большинство
домов были одинаковыми, а почти вся зелень – тополя. Это село возникло, казалось, по
чьему-то указанию, а не по свободному желанию медленно, но прочно обживающихся людей.
На остановке Николай спросил, где живут Бояркины. Его не сразу поняли. Пришлось
объяснить, что эти Бояркины прикочевали сюда два года назад, что должны работать там-то и
там-то. Николая направили в один из белых домов, видимых с остановки, и даже подсказали,
с какой стороны входить – его родителей тут уже хорошо знали, но только не ожидали, что у
них есть такой взрослый сын. Николай пошел, поглядывая кругом. Встречные смотрели на
него с любопытством.
За низким беленым штакетником ограды он еще издали увидел кобеля Левку. Собака,
звякнув цепью, поднялась, нехотя тявкнула и вдруг приветливо замахала свалявшимся
хвостом. Николай открыл воротца и, бросив чемодан на крыльцо, присел перед собакой. Его
до слез взволновало то, что в этом чужом месте вдруг обнаружилась своя собака, узнавшая
его даже в военной форме. Бояркина поразило еще и то, что Левка был дряхлым от старости.
Почти щенком брал его Николай с собой в лес, вместе с ним купался и орал, когда тот сильно
царапался в воде. Не было все-таки время его службы быстротечным.
На крыльце скрипнула дверь. Николай оглянулся и увидел Анютку – совсем уже
взрослую. Она на мгновение замерла, быстро взглянула на чемодан и, метнувшись назад,
крикнула в избу:
– Колька приехал!
Через секунду Бояркин оказался в кругу родных, которые целовали и обнимали его.
Был полдень, и все сошлись домой на обед. Родители сильно поседели.
Анютка, закончившая восьмой класс, уже переросла мать. Отец старался казаться
сдержанным и грубоватым. Ему сразу же захотелось выпить. Но сначала сели пить чай и
почти не разговаривали, а только смотрели друг на друга.
– Поедем со мной, – сказал отец после чая, – сначала завернем на ферму – я
предупрежу, что меня не будет на вечерней дойке, а потом на отару к Михаилу.
– В Елкино? – вырвалось у Николая.
– Да нет – Михаил-то ведь тоже сюда перебрался. Барашков пасет. В его отаре наша
барануха. У нас тут частных овец можно в совхозных отарах держать, только заплатить в
сельсовете. Не то, что было в Елкино.
– А как же дядя Миша-то здесь очутился?
– Да как… Ты же знаешь, какой он резкий. Выступил на собрании против всего
колхоза, а потом со зла заявление написал.
Поехали они на "Жигулях", купленных отцом полтора года назад. На ровной полевой
дороге отец, хвалясь машиной, выжал газ так, что сзади все заволокло пылью. В открытое
окно порывами врывался упругий ветер. Отец включил радиоприемник – там звучал
плавный, задумчивый вальс. На душе Николая было и радостно и в то же время грустно – вот
он и вернулся… Вернулся, называется…
– Какие тут поля-то, простор, – угадывая его мысли, говорил Бояркин-старший. – Это
не в Елкино – там да там клочками по склонам…
Николай его не понимал и не хотел понимать.
У самой отары машину встретили две большие лохматые собаки и не давали
высунуться из кабины, пока их не разогнал спрыгнувший с коня Михаил. От солнца и ветра
его лицо с глубокими морщинами стало черным. Даже на вольном ветерке от него пахло
овечьей шерстью, конским потом и дымом. Обрадовавшись племяннику, он начал было
расспрашивать о службе, о корабле – дядю Мишу всегда интересовало все, касающееся
службы и войны. Он и читал-то лишь военные мемуары, убежденно заявляя, что все
остальное болтовня. Но разговора не вышло: лающие собаки не давали сказать ни слова.
Сначала Михаил прикрикивал на них, но потом разозлено, но все-таки и с гордостью за таких
злых собак сплюнул и перешел к делу.
– Как же мы теперь твою баранушку найдем, – сказал он брату, кивнув на отару,
рассыпавшуюся по пологому склону, – не будешь же их сейчас в раскол загонять. Давай
скомим прямо на месте – и лови любую. Втроем-то поймаем.
Но от Николая было мало толку. Он только помогал "комить", то есть так плотно
сгонять отару с разных сторон, чтобы овцы не сразу успевали разбегаться. Николай мог бы
поймать, но ему не хотелось, чтобы зарезали овцу, пойманную именно им. Первым поймал
Михаил. Овца дергала ногой, сотрясая руку, зажавшую ее, но Михаил дернул порезче, и овца
упала. Отец, недовольный не проворством сына, пошел к машине. Михаил, сидя на овце,
вытер рукавом вспотевший лоб, закурил, посмотрел шерсть, раздвинув ее пальцами, и начал
связывать ноги. У овцы высоко вздымались бока. Она блеяла, повернув голову в сторону
отары. Некоторые овцы, принявшиеся снова щипать траву, равнодушно ответили ей.
– Эх, жалко, что я сегодня на смене, – сказал Михаил. – Выпил бы с вами, да и овца
жирная попала.
Возвращаясь, молчали. Отец два раза останавливал машину и посылал Николая
проверить, не случилось ли чего с овцой в багажнике. Николай открывал багажник, овца
поднимала голову и смиренно смотрела из-под крышки. Дома отец положил ее на пыльный
земляной пол гаража и ушел, оставив в темноте за плотными дверями. Резать ее было решено
попозже, когда будет меньше мух, а пока отец и сын стали с разговорами осматривать
хозяйство. Назначенное время приближалось, и отец, предвидя выпивку со свежим мясом,
все больше оживлялся.
Под вечер Николай еще раз зашел в гараж посмотреть на овцу. Она лежала в прежнем
положении. Николай, ухватясь за шерсть, поднял ей голову и тут же бросил, увидев большие,
все такие же тихие и смирные глаза.
– Ну, пойдем, – встретив на крыльце, сказал ему отец, протягивая нож, только что
поправленный на оселке.
– Иди, я сейчас, – отвернувшись, проговорил Николай.
– Ты что же, боишься, что ли?
– Не боюсь. Просто неприятно, Ну ладно, пошли…
Отец прямо в гараже забросил овцу на высокий ящик, склонился с ножом над головой
– там сразу что-то мягко, влажно хрустнуло. Отцова нога пододвинула кастрюлю на земле, и
в нее, забрызгивая белые стенки, побежал темно-красный ручей. Овца и теперь лежала тихо.
– Иди помогай. Приучайся, – сказал отец.
Подражая ему, Николай надрезал коленный сустав и с хрустом отломил ногу. Сустав
был чистым и скользким. С другой ногой не вышло, и отец помог. Потом стали разделывать
тушу.
– Может быть, ты и вправду боишься? – переспросил отец.
– Да нет же. Только ведь это совсем безобидное существо. Она не может надеяться ни
на что. Уж хоть бы защищалась как-то…
Отец в это время уже снимал шкуру, ловко отделяя ее от туши сжатыми кулаками. На
мгновение он замедлился и покачал головой.
– Вот солдат, так солдат… – проговорил он и кивнул на Левку, который, положив
голову на лапы, наблюдал за ними так, словно во всем происходящем понимал больше, чем
люди. – Тоже мученик. Совсем старик уже, ест-то уж кое-как, да и оглох… Укол надо
поставить, чтобы зря не мучился.
Вечером пришли соседи. Все гости были незнакомы. Николай перезнакомился с ними,
а через пять минут без сожаления, как что-то совершенно лишнее, забыл все имена. Водку
закусывали тушеной картошкой, квашеной капустой, солеными огурцами и свежей
бараниной. Вначале непринужденно чувствовал себя только отец – любитель побалагурить.
Остальные не могли разговориться до тех пор, пока не выпили.
Чем больше пьянел отец, тем чаще у него мелькало: "я", "мое", "моя". В детстве
Николая это очень раздражало, потому что отец говорил "сделал я" даже о том, что они
сделали вместе. Теперь же Николай был снисходителен к его очевидной слабости. Это
снисхождение окатывало душу ностальгическим теплом и походило даже на любовь.
Неловкости за отца перед чужими людьми Николай не чувствовал – что они могли понимать
в его отце?
– Директор говорит, что если бы нам еще одного такого завфермой, как Бояркин, то
весь совхоз можно было бы перевернуть, – заявил, наконец, Алексей.
– Да он пошутил, директор-то, – отмахиваясь, сказал лысоватый добродушный сосед.
– Почему же пошутил? Думаешь, я ничего не стою? Вот сейчас меня на дойке нет – и
надой снизится.
– А ты при чем? Тебя же самого не доят.
– Как это при чем? – горячо возмутился Алексей, не слыша смеха вокруг. – Если у
меня есть рабочее место, значит, я должен на нем находиться. А если не нахожусь, то там
должно меня не хватать…
Николай выбрался из-за стола и пошел в кухню. Ему хотелось спокойно поговорить с
матерью. Но матери, хоть Анютка ей и помогала, было некогда – на стол требовалось то одно,
то другое. Бояркин, уставший за дорогу, с трудом дождался, когда гости разойдутся, лег на
веранде и тут же отключился.
Поднялся он поздно и вспомнил разговор, слышанный сквозь сон рано утром, когда
мать загремела подойником. Какая-то женщина жаловалась отцу, что вечером на ферме много
недодоили.
– Почему? – хрипло спросил отец.
– Да что же ты их не знаешь? Ушли и все побросали.
– Ладно, сейчас приеду.
Этот эпизод обрадовал Николая – в отцовском "я" было все же не только пустое
бахвальство.
Было еще очень рано – в воздухе чувствовалась свежесть. Николай привык к свежести
камня, воды и металла, но здесь он почувствовал и вспомнил утреннюю свежесть старого
потрескавшегося дерева, плодородной земли, всего зеленого, влажного мира. Коровы на
улице мычали глухо, и Николай не открывая глаз, догадался, что в селе туман. Туман здесь не
молочно-белый, как на море, а прозрачный и легкий, клубящийся от реки, каким видел его
Николай в детстве, уходя раным-рано с матерью за брусникой. Подняться бы, полюбоваться
им, но сон оказался слаще, да и куда спешить – насмотрится еще. Повернувшись к стене,
Николай глубоко, счастливо вздохнул и подтянул одеяло – хорошо было спать, как и
положено, ночью, спать сколько захочешь, не бояться, что тебя тронут за плечо и скажут: "На
вахту".
Мать работала на почте, и на день ее отпустили. Когда сын в одних брюках с широким
черным ремнем и блестящей бляхой сел за стол на веранде, она налила ему утреннего, уже
остывшего молока. Клеенка на столе была теплая, голую спину прижигало раскаляющимся
солнцем, и Николай, сидел, жмурясь от удовольствия.
На мотоцикле подъехал отец. Ему надо было опохмелиться, и он стал ласково
заговаривать с матерью.
– Ой, ну и трепло же ты, – высказывала мать, пользуясь возможностью, – чего
городил-то вчера-а! Я чуть со стыда не сгорела.
– Да ладно, Маша, никто ничего не помнит. Все подпили. Я же знаю, когда что
говорить.
Николай с улыбкой слушал их беззлобное переругивание. Отец все же добился своего
и, выпив стопку, освобождено крякнул. Мать вдруг рассмеялась, увидев на усах сына полоску
от молока.
– Сбрил бы усы, а то слишком взрослым кажешься, – попросила она.
– Мне бы в Елкино съездить, хоть на бабушку посмотреть, – сказал Николай.
Родители переглянулись. Отец досадливо сморщился.
– Мы тебе не сообщили, – тихо сказала мать, опускаясь на стул, – но бабушка уже
месяца полтора как уехала к Георгию на Байкал.
Николай сидел не двигаясь, застигнутый врасплох этой последней новостью.
– Вот так-так, – проговорил он. – Что же, теперь в Елкино у нас никого!
– Да, теперь уж никого…
– Почему же вы мне не написали? Я бы по пути на Байкале остановился.
– Так уж вышло, – сказала мать. – Она недавно уехала. Мы думали, что ты и сам уже в